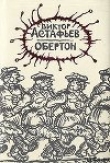Текст книги "Старая скворечня (сборник)"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
12
Хотя Тутаев пил и ел мало и вернулся к себе еще засветло, но наутро он никак не мог подняться. Ломило голову, все время мучила отрыжка, и вообще, чувствовал он себя скверно. Ночью ему плохо спалось. И все из-за вчерашнего…
Сколько раз он зарекался ходить к Митьке, и вот опять согласился, смалодушничал, пошел. И как всегда, стал свидетелем очередного скандала.
Все началось с пустяков.
Виктор, сидевший рядом с Ниной, угощал ее. «Каждый раз хвастаешься: рыбак, рыбак, а хоть бы раз угостил свежей рыбой», – в шутку сказала она. Виктор взъерепенился: «Свежей рыбы?! А что, мы это мигом! Митя, ты как?»
Митьке лишь бы был предлог покуражиться.
Тетя Поля стала их отговаривать: мол, сидите! Куда вы поплететесь пьяные? И все стали удерживать их, говоря, что закуски много, а рыбой угостить можно и в другой раз. Нина тоже принялась отговаривать, уверяя, что она пошутила. Но пьян – упрям. Митя достал из-под навеса бредень, бросил его в коляску, Виктор завел мотоцикл, и они поехали.
Гости посидели еще некоторое время, сколько позволяло приличие, и начали понемногу вылезать из-за стола. Мужчины вышли на крыльцо, закурили. Женщины мыли посуду на кухне.
Семен Семенович и Аннушка совсем уже собрались уходить. Они задержались на крыльце, прощаясь. И тут как раз вернулись рыбаки. С мотоцикла вода каплет, сами – мокрые по пояс: то ли в спешке в реку во всем, одетые, полезли, то ли спьяну занесло их в воду вместе с машиной.
Они подкатили к крыльцу, вынули из коляски бредень, свернутый кулем, и поволокли мокрую мошну по пыли к дому. В мошне бились красноперые голавли и узконосые язи.
– Галька! А ну, быстро! – орал Митька. Единственный «парад» его – новые чесучовые брюки – все были в грязи и в желтых пятнах глины.
Галя вышла на крыльцо. В цветастом фартуке, в лакированных туфельках она была хороша и потому чуть-чуть кокетлива.
– Непутевые вы люди! – пожурила их Галя. Посмотрите, на кого вы похожи?! Неделю теперь стирай с вас да гладь.
– Ничего, постираешь. Бери знай! – Митя приподнял с земли куль и бросил к ногам Гали.
– А пошел ты! – отмахнулась она. – Такой вечер испортил.
– Мить, давай сами… сами… – повторял одно и то же Виктор.
Однако не так-то просто было урезонить Митьку, если на него «нашло». В гневе он становился невменяемым. Не обращая внимания на уговоры Виктора, Митька продолжал приставать к Гале.
Та вышла из себя.
– Иди проспись сначала! – Она брезгливо оттолкнула мокрый бредень, повернулась и пошла в сенцы.
Митька – за ней.
– Да брось, Митя! Есть ли из-за чего скандалить? – Тутаев остановил в дверях Митьку, стараясь сгладить неприятный осадок, вызванный его руганью.
– Всех гостей разогнал своим скандалом.
– Молчи, дура!
Митька замахнулся, чтобы ударить Галю, но в этот миг откуда-то вывернулся Славка. Подскочил, цепко схватил Митьку за руки и с силой, которую трудно было предполагать в его щуплой фигуре, отбросил Митьку, да так, что хрустнули и покачнулись перила крыльца.
– Как тебе не стыдно?!
– Да я… да ты!.. – Митька с трудом переводил дух. Глаза его от злобы заблестели. Он был страшен. Скинув с плеч пиджак, Митька пошел с кулаками на шофера. – Да ты, сопляк!
Но Славка не струсил. Он стоял, чуть наклонившись вперед, и, когда Митька, подскочив, замахнулся на него, Слава снизу, по-боксерски, ударил его по лицу. Не ожидавший этого удара, пьяный Митька скатился вниз, считая ступеньки крыльца. Падая, он зацепил ботинком бредень; юркие щурята и живучие голавли выскользнули из сети, запрыгали, шлепая хвостами, на досках.
У крыльца, стараясь встать на ноги, копошился Митька. Он перебирал руками и скулил обиженно. На крик выбежала тетя Поля, запричитала, жалеючи, кинулась поднимать Митю. Подоспели на помощь ей братья. Митьку подняли и поволокли по ступенькам вверх, в сенцы. Оя уже не сопротивлялся и не пытался помериться силой со своим обидчиком; лишь когда его вели мимо Гали, он промычал что-то, но что – понять было трудно: скорее всего какую-нибудь матерщину.
– Жаль, что он пьяный. А то я разделал бы его под орех! – проговорил Славка, закуривая. – В другой раз небось подумал бы, прежде чем замахнуться на мать своего ребенка.
Вечер был испорчен, и настроение тоже, оттого и болела теперь голова у Семена Семеновича. Однако, превозмогая боль, он приподнялся, открыл окно. В избу пахнуло свежестью. И вместе с прохладой раннего утра с улицы донеслись знакомые звуки. Переговаривались бабы, блеяли овцы – судя по всему, дед Шумаев скликал стадо.
Дед Шумаев – еще крепкий старик. У него много детей, но все они разлетелись в разные концы, и он на старости лет остался один, бобылем. Летом дед сторожит деревенское стадо. Все колхозники, у кого есть корова и овцы, по очереди кормят его. Зимой же он сторожит на ферме в Лужках, там и живет в сторожке, так как домишко у него дырявый – топить печь и воду с речки носить у него нет сил.
Дед Шумаев любит свое дело. Лет пять назад, когда почти каждая семья в деревне имела корову и овец, дед трубил по утрам в рожок, собирая стадо. За последние годы почему-то все переменилось. И без того небольшое епихинское стадо поредело, и трубить в рожок, и будить всю деревню ради какого-нибудь десятка коров не имело смысла. Может, смысл-то и был, но пошли разные нарекания, что-де старик беспокоит, будит чуть свет.
И вот что интересно: жаловались и кричали на деда не дачники, вроде Тутаева, а местные колхозники. Хоть та же Фроська Котова, соседка Зазыкиных. Прошлой осенью она продала корову и теперь всем бабам уши прожужжала: «Ой, бабоньки! Какая же я дура была, что до таких пор держалась за хвост этой самой коровы. Встань ни свет ни заря. Вовремя задай ей корм да вовремя дои. А воды одной сколько я ей с речки перетаскала! Всю жизнь я свою извела, и ради чего? Сказать стыдно – ради коровы! А теперича как продала прорву эту – не жизнь стала, а рай божий. До полуночи телевизор смотрю. Сплю, пока Игнат-бригадир не разбудит».
Фроська-то и ругала больше всех деда Шумаева, что он рожком своим спать ей не дает. Даже председателю жаловалась. Дед Шумаев не стал перечить: рожок свой спрятал, а вместо него взял палку в руки. Подойдя к дому, где есть корова, дед стучит палкой по крыльцу или забору, и по этому сигналу баба выгоняет из котуха свою буренку.
Прислушиваясь к звукам улицы, Тутаев вдруг услышал знакомый стук пастушьей палки и через минуту глуховатый голос старика: «Палага, где твоя Красавка?»
– Вяду! Вяду! – отозвалась тетя Поля.
Чертыхаясь или что-то причитая про себя, Пелагея Ивановна выгнала корову и овец со двора. Пробегая мимо палисадника, овцы задержались, чтоб пощипать сочную траву, росшую в тени забора.
– Кыш, дармоеды! – шуганула их тетя Поля.
На какое-то время шаги хозяйки и понукаемых ею животных заглохли, и заглохли бабьи голоса в проулке: судя по всему, дед Шумаев собрал свое стадо и погнал его верхом, к Погремку. Но вот вновь послышалось ворчливое бормотанье тети Поли, и, не дойдя до избы, запела своим звонким голоском: «Цып, цып, цып…» Она скликала цыплят, зазывая их во двор. Неделю назад у нее пропали индюшата, и она теперь дрожит над цыплятами, боясь, как бы их не утащил коршун. У крыльца тетя Поля перестала тянуть свое «цып-цып», поздоровалась с кем-то и спросила, как спалось.
– Спала хорошо, только в ушах что-то стучит. Давление, знать, поднялось.
Тутаев узнал голос Марии Михайловны.
– А-а, – отмахнулась тетя Поля. – Постучит, постучит да и перестанет! Вон, гляжу, картошка вся повиликой заросла. Я просо полоть побегу, а ты возьми тяпку, пройдись между грядками. Оно, глядишь, и перестанет стучать-то…
– Вам хорошо рассуждать, мама. Вы здоровы.
Тетя Поля ничего не сказала в ответ: скрипнула дверь, и ее быстрые шаги послышались в сенцах.
13
Тутаев встал, убрал за собой постель и вышел во двор, умываться.
Семен Семенович умывался на улице. Как-то, лет пять назад, у него в московской квартире лопнул фаянсовый умывальник; он привез его сюда, в деревню, приладил под пеленой с солнечной стороны сарая, прибил над ним рукомойник, а рядом сколотил полку. На полке – зубные щетки, паста, мыльница с мылом и всякие иные вещи. А внизу, под полкой, скамья для ведер с водой. Эти ведра каждое утро приносил с реки Митька.
Ведра с водой стояли на месте: значит, Митька уже проспался.
Тутаев зачерпнул ковш воды, налил в умывальник. Долго мылся, громыхая соском. Потом взял полотенце, висевшее сбоку шкафчика, стал вытирать лицо. Утираясь, он приглядывался к деревенской улице.
Солнце еще не вышло из-за леса; блестела роса на траве; над избами, сливаясь с туманом, поднимающимся с реки, тянулись дымки.
Вблизи коровника, возле отдушины, где высилась куча свежевыброшенного навоза, копошились куры. Их покой охранял рыжий петух. Он стоял на одной ноге, важно вытянув шею, и внимательно глядел на Тутаева одним глазом. Красный гребень его, исклеванный соседскими петухами, склонялся то в одну, то в другую сторону. Напускная важность эта смешила Тутаева.
– Что, Петя, не признал? – пошутил Семен Семенович.
Петух тряхнул головой и, распушив крыло, потянулся. Затем как ни в чем не бывало принялся ковырять землю. Поскребет, поскребет землю и – «ко-ко-ко!» – созывает кур.
Где-то за сараем, на лужке, мычал телок; в соседнем с коровником закутке хрюкал поросенок.
Перестав вытираться, Тутаев постоял, отдыхая. Эти утренние часы в деревне более всего нравились ему. Нравились оттого, что живо напоминали детство.
Их, тутаевская, изба стояла на отшибе от всего порядка. Улица была неезженая, зеленая. Бывало, выбежишь из избы – и по росной траве босиком бегом к сараю, на солнцепек. На цветах мать-и-мачехи и одуванчика уже трудятся пчелы. Пахнет навозом и кизячным дымом; слышно, как в котухе, что под одной крышей с сараем, звенит струйка молока, бьющего о край подойника: это мать доит корову. Сидит Сеня в одной рубашонке; глаза смыкаются спросонья, а на лице улыбка. Улыбается он потому, что знает: сейчас явится Костя Самохин, его закадычный друг, и они побегут в Морозкин лог, где у них понаделаны «крепости», и будут играть там до тех пор, пока за ними не явится дед с кнутом в руках…
Да, вот сколько лет прошло, а детство не забывается!..
Тутаев вздохнул, провел раз-другой по лицу полотенцем, повесил его на место.
Из сеней во двор вышла тетя Поля. Подол черной юбки, которую она носит уже много лет, подоткнут, чтоб не мешал; рукава кофты засучены по локоть; на ногах – опорки из кирзовых мужниных сапог. Она несла ведерко с пойлом для поросенка.
Поравнявшись с Тутаевым, тетя Поля на какой-то миг приостановилась.
– Хозяйка-то аль не проснулась еще? – спросила она вместо приветствия.
– Опять убежала за ягодами.
– А мои, черти, дрыхают! – она кивнула на избу. – Хоть бы раз встали пораньше да в лес сходили б. А то только и знают: жрут да спят. Тьфу! – И, шлепая опорками, тетя Поля побежала за угол, где помещался поросячий хлев.
Утро – самое суетное время для Пелагеи Ивановны. За каких-нибудь два-три часа, пока не явится бригадир и не позовет ее на колхозную работу, ей надо управиться по хозяйству, подоить корову, истопить печь, задать корм поросенку и курам, сготовить на весь день еду для себя, поесть, убрать избу и, помимо этого, выкроить хотя бы полчасика, чтобы спокойно покопаться на огороде. Поэтому утром у нее нет передыха, и она эти три часа, с пяти и до восьми, кружится как белка в колесе. Она без конца бегает из избы во двор и обратно, гремит ведрами, хлопает дверьми, что-то трет, что-то переставляет – и все это она делает не просто так, а гласно, что ли, с присказками. Тетя Поля не любит работать молча, безразлично: ей непременно нужно проявить, подкрепить свои действия словами. Если она доит свою Красавку, то разговаривает с ней, а чтоб диалог был складным, она произносит реплики и за себя, и за Красавку. «Ах ты, милая моя! Измазалась-то ты как!» – скажет тетя Поля, заметив на боку коровы шлепок навоза. И тут же: «Как же мне не измазаться! Бывало, хозяин каждый день чистил котух, а без него сплю на мокрой подстилке».
Если она вынесла курам в подоле своей черной, вылинявшей от несметных стирок юбки куски хлеба, которые остались от вчерашнего застолья, то, созывая их, кричит на весь порядок: «Кур, кур, кур!» Куры и цыплята сбегаются к крыльцу. «Ты куда побежал, пустозвон?! – кричит она на цыпленка, который схватил большую корку и побежал с ней за угол котуха. – Вот добегаешься – схватит тебя коршун». Тетя Поля срывается с крыльца и бежит за цыпленком, чтоб вернуть его обратно. Бежит потому, что всякая утрата, пусть даже пропажа глупого цыпленка, повергает ее в страшное горе. Когда по весне у нее пропали индюшата, она дня два, а то и более не находила себе покоя: бегала по огородам, доглядывая, не затерялись ли они меж картофельных грядок, по берегам Быстрицы. С лица даже спала от беготни и плача. Уж соседские бабы стали ее отговаривать. «А по мне – хоть бы и вовсе индеек-то не было! – утешала ее Фроська Котова. – Пойду в магазин да болгарских куплю. Возись с ними да еще переживай. Тьфу!»
Из всей живности, которая есть в ее хозяйстве, Пелагея Ивановна недолюбливает только одного поросенка. Недолюбливает она его за то, что он, паршивец, жрет много, растет плохо. Поэтому с поросенком она всегда разговаривает зло. «Ну, куда прешь, шелудивый! – кричит она на него каждое утро. – Жрать-то мастак, а растет – на тебе, только одна щетина. У-у, дрянь!»
Само собой разумеется, что приезд гостей – сыновей, дочерей, внуков – это всегда лишние хлопоты для тети Поли. Пока дорогие гости спят, надо приготовить для них завтрак, потом накормить их, помыть за ними посуду. А прибраться и в огороде покопаться хочется, оттого тетя Поля, если в доме гости, стремится делать все быстрее и, главное, эмоциональнее. Она шустрее бегает из избы во двор, сильнее гремит ведрами, резче хлопает дверьми, громче разговаривает, если же примется тереть полы или что-либо переставлять в сенцах, то содрогается весь дом.
В такие дни, конечно, больше всего достается поросенку.
– У-у, бесова скотина! – закричала она теперь, едва приоткрыв дверь в закуток. – На, жри!
Стукнуло ведро о кормушку, в закутке послышалось довольное чавканье поросенка. Опять стук – дверь захлопнулась, и в ту же минуту с пустым ведерком в руке тетя Поля пробежала мимо Тутаева, обгоняя его. В сенцах она остановилась, бросила ведро: оно глухо ударилось и покатилось по земляному полу.
– Семен Семенч, вы дома будете? – спросила она Тутаева.
– Дома, Пелагея Ивановна.
– Приглядывайте тут за цыплятами. Боюсь, как бы коршун их не унес.
– Ладно.
– Я уж вам, Семен Семенч, добром отплачу.
– Да что вы?! – Тутаев пригнулся, опасаясь удариться головой о низкую притолоку.
– Ох! – встрепенулась тетя Поля. – Яичница-то у меня на керосинке жарится… Пригорела небось. – И скрылась в своей половине.
Не успела за ней закрыться дверь, как от калитки донесся требовательный оклик Игната Тележникова:
– Пелагея Ивановна!
– Я тута! – отозвалась тетя Поля, выглянув в окно.
– Просо полоть!
– Так нету еще восьми.
– Пора, выходи!
– Бягу! Бягу!
Однако проходит еще по меньшей мере четверть часа, пока тетя Поля окончательно управится со своими делами. Наконец она выходит на крыльцо. Затягивая покрепче концы белого, горошком, платочка, тетя Поля бежит мимо палисадника к проулку, где ее поджидают бабы.
– Ряднушку-то зачем взяла? – пытают соседки.
– Сору Красавке захвачу, – говорит тетя Поля, свертывая на ходу старый рядновый мешок.
14
Мария Михайловна окучивала картофель. Она ударяла тяпкой сначала по левому скату борозды, потом – по правому, стараясь разбить комья; рыхлила междурядья и лезвием подгребала рыхлую землю к картофельным кустам. Белоглазая повилика с круглыми, словно пятаки, листочками цеплялась то за лезвие мотыги, то за картофельную ботву, и подгребать землю было трудно. Мария знала, что, прежде чем приступить к окучиванию, надо было бы прополоть грядки, и тогда сор не мешал бы. Однако нагибаться ей не хотелось, и она сшибала осот и цепкую повилику и подгребала сор поближе к кустам, стараясь прикрыть его землей.
Картофель был хороший – куст к кусту, и посажен ровно: грядки как по шнурку отбиты.
«Наверное, под трезубец сажали», – подумала Мария Михайловна. В войну, когда все начали копать землю лопатами, кто-то из баб придумал трезубец – грабли такие, которыми прочерчивают борозду, чтобы картофель всходил ровными рядками.
Когда-то эта работа доставляла Марии радость. Она любила и землю копать, и сажать картошку, и окучивать. Встанет, бывало, чуть свет: в саду птички поют, а над Быстрицей еще туман. Земля, особенно после дождя, парит и дышит вся, и когда на нее наступаешь босыми ногами, то ощущаешь во всем теле тепло и благодать.
В молодости эту делянку она за одно утро пропалывала и окучивала. А теперь вот прошла две борозды – и устала: тело все покрылось испариной, руки гудят, и ломит в пояснице.
«Матери седьмой десяток пошел, а она с утра и до темна как белка в колесе, и все бегом, – подумала Мария. – А я вот стукнула мотыгой два раза, и уж одышка одолевает. Приеду – надо будет сходить к врачу, кардиограмму сделать».
Она уткнула мотыгу в землю и, опершись на черенок, задумалась…
«И куда все дел ось?» – подумала Мария. Все кругом осталось таким же, каким оно было в дни ее юности. И такое же ласковое солнце, и туман над лесом, и жаворонки так же в небе поют, а ей все кажется иным, нет былой радости ото всего этого. И откуда явилась в ней такая усталость, Мария не могла объяснить себе.
Она уехала из родной деревни в войну – сразу же после того, как наши выгнали немцев из Епихина. Колхоз был в страшном разоренье: ни лошадей, ни семян. Отец и братья – на фронте; Митька и младшие сестры бегали в школу. Кому-то надо было тянуть семью, и она уехала. Грамотная, разбитная, Мария взяла справку из колхоза, метрики (паспорта у нее еще не было в ту пору) – и махнула в Москву. Мужики воевали, на молодых да грамотных девок большой спрос был. Она устроилась в Карачарове нарядчицей на автобазе. Автобаза большая, специального назначения, одним словом, хозяйство богатое, и Мария не последним человеком была в том хозяйстве. Дали ей рабочую карточку и крохотную комнатушку в бараке. Зарабатывала хорошо: через месяц-другой сама приоделась и стала матери помогать, чтоб меньших до дела довести.
Все ничего, только шоферня – известно, какой народ: отбоя от них молодой девке нет – липнут, матом ругаются. Приглянулась она одному – Ивану Поливанову. Молодой смирный парень – тоже из своих, барачников. Нравился он ей. Стал Иван захаживать в ее каморку. Придет – водки с собой принесет, закуски; ну, известное дело, выпьют по рюмочке, а потом пойдут между ними всякие тары да бары. Мария держалась больше года, а потом не устояла, сдалась. Расписались они. В тесную ее каморку с трудом втиснули Иванову койку, и они стали жить вместе. Хлопот у Марии прибавилось: она готовила обед на керосинке в общей барачной кухне и стирала мужнины гимнастерки, пропахшие соляркой. Из-за тесноты и неустроенности детей заводить Мария боялась. Вдвоем-то в комнатушке повернуться трудно, а с ребенком и подавно!
Так и прожили всю войну.
После войны послабленье вышло: можно было сменить работу. Ивану срываться с места не хотелось, да и зарабатывал он хорошо. Решили, что лучше ей уйти. Стала Мария подыскивать себе новую работу. Бегала она, бегала, и наконец ей повезло: приняли почтальоном в новом, строящемся районе. Дали квартиру – небольшую и в полуподвале, но после барачной клетушки новое жилье казалось раем: отдельная кухня с газовой плитой, ванная. Тут, в полуподвале, и родился их первенец – Виктор.
С тех пор и почтальонит Мария. Вот уже двадцать пять лет она с сумкой дерматиновой бегает. Можно сказать, все в своей жизни она своими быстрыми ногами выбегала. И детей выходила благодаря им, и квартиру в хорошем доме на улице Строителей, даже одно время была депутатом райсовета! И все из-за быстрых своих ног…
Оттого-то они и болят и ломят. Теперь, конечно, все переменилось. Нынче в новых-то домах внизу, возле лифта, – ящики с номерами квартир. Рассовала хоть те же газеты по ящикам – и беги в другой подъезд. А раньше почтальон кланялся каждому порогу. Лифтов в домах не было: пыхтишь-пыхтишь, пока поднимешься наверх, – сердце но один раз зайдется. Не то чтоб жильцов, все ступени в каждом подъезде знала!
Да-а…
Мария поправила платок, сбившийся на затылок, и, взмахнув тяпкой, снова принялась разбивать комья, рыхлить междурядья и подгребать землю к картофельным кустам. То ли оттого, что она передохнула малость, долбить мотыгой стало легче, эту грядку прошла до конца без передыха. В конце, у плетня, Мария остановилась и глянула вдаль, на поле. Рожь уже заколосилась, и не успевшие еще побуреть колосья лоснились и поблескивали на ветру, словно кто-то гладил их ладонью. Из проулка в рожь убегал пыльный проселок. По проселку из Полян шли какие-то женщины, хорошо одетые, с узлами и сумками. Мария оперлась на плетень, всматриваясь. Показалось ей, что идут Катя и Саша, меньшие ее сестры, жившие в Алексине.
Мария постояла, поджидая, пока женщины подойдут поближе. Оказалось: нет, это шли Фрося Котова и Лидия Тележникова, бригадирша.
Чтобы они случаем не подумали, что Мария за ними подглядывает, она нагнулась и снова замахала тяпкой. И хотя ничего не случилось и усталости она не чувствовала, однако прежней сноровки и ловкости в работе ее уже не было.
«Старайся не старайся – толку мало! – подумала Мария. – Все равно от этой картошки проку мне не будет. Меньшие рядом живут, все у матери подгребают».
В войну они только и жили одной картошкой. Приедут, бывало, с мужем, привезут матери буханки три хлеба, кило какой-нибудь селедки, а из деревни прихватят картошки мешок. Да что в войну?! Еще года три назад в каждый приезд хоть по одному ранцу, а брали. Но в последние годы перестали брать. Ведерко огурцов или яблок корзину – иное дело, а с картошкой таскаться надоело. Зато сестры – те, что в Алексине, – мешками каждую осень возят.
«Пусть сами приезжают и окучивают!» – решила Мария.
Она была еще посредине грядки, когда увидела в саду дачника. Тутаев прилаживал подпорки под корявые сучья старой антоновки.
«Без хозяина дом наш, – подумала Мария. – Вон чужой человек порядок в саду наводит, а Митьке ни до чего дела нет».
На задах зазыкинского дома, в затишке большого, полуобвалившегося двора, росло десятка полтора яблонь. Лишенные ухода, они почти не плодоносили. Хорошо плодоносила лишь груша-дичок, росшая на углу, у самого проулка, но ее отряхивали соседские ребятишки. По забору, отделявшему зазыкинский огород от соседей, зеленели кусты черной смородины. Но и смородина из-за недогляда за ней вымирала: год от года мельчала, гибла, пораженная тлей.
Видя такое запустение, Тутаев мало-помалу стал заниматься садом. Он убедил тетю Полю, чтобы она перестала сажать картошку меж яблонь, выпилил дряхлые деревья, посадил на их место молодые саженцы, «отремонтировал» те яблони, которые еще могли плодоносить. Он и теперь в ожидании, пока вернется из лесу Аннушка, вышел в сад поковыряться.
Семен Семенович ставил уже третью подпорку, когда к нему подошла Мария.
– Уф! – она тяжело вздохнула и приставила мотыгу к стволу яблони. – Отвыкла, что ли? Уморилась.
– А вы не перетруждайте себя, – заметил Тутаев. – Вы ж отдыхать сюда приехали.
– Какой тут отдых! Мужики перепились вчера, храпят, а я глаз сомкнуть всю ночь не могла. В голове стучит, давление, знать, подскочило. То ли дело на курорте! Мне всегда соцстраховскую путевку давали, со скидкой. Я любила на юг одна ездить, без мужа. Спокойно, и все ухаживают за тобой. Я, знаете, за месяц на пять кило поправлялась. А тут за два дня похудела так, что юбка уже не держится…
– Зато мышцы крепнут, – пошутил Тутаев.
– В нашем возрасте не до мышц. – Мария Михайловна не приняла его шутки. – Анна Павловна в лес ушла?
– Да.
– Завтра и я с ней пойду. Я такие ягодные места знаю – за утро можно целое ведро земляники насобирать.
– Возьмите и меня за компанию.
– Милости просим, Семен Семенч! – Мария Михайловна, как и тетя Поля, была словоохотлива. – Не проснулись мужики-то мои?
– Не слышно.
– А мама убежала?
– Убежала.
– И я побегу! Восемь, наверное, есть?
– Есть.
– Вчера заглянула в ларь, думала: там овес для кур ссыпан, а в нем полно бутылок. Сотня, а то и боле. Не могу терпеть бесхозяйственности! Посуду, видите ли, сдать им некогда. Возьму сейчас мешок, отнесу Василию. Вот им к завтраку и бутылка на опохмелку будет.
– Василий Михайлович мог бы на мотоцикле отвезти. Зачем же вам тяжесть такую носить.
– А ну, жди их! Я мигом сейчас! Я на ноги проворная.
Мария схватила мотыгу, пригнулась, чтоб не зацепить платком за яблоню, и, семеня, заспешила к дому.
Несмотря на болезнь и возраст, походка у Марии Михайловны и в самом деле была легкая.