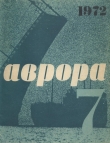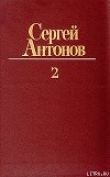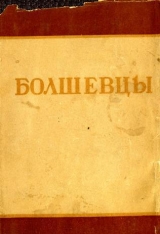
Текст книги "Болшевцы"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
В коммуну приходили новички. Для них нехватало жилья. Они селились в наспех построенных бараках и в соседней деревне. Приезжали жены. На улице встречались незнакомые и осматривали друг друга. Потом не стали даже оглядываться. Разве можно знать всех, когда так много народу! Новички требовали работы. Старые мастерские не вмещали их. Жилые дома стали казаться маленькими, фабрички – тесными. Когда обозначилась новая строительная площадка, где были заложены новое здание фабрики и жилой дом, всем стало казаться, что уже совсем скоро наступит избавление от тесноты и неразберихи. Но площадка обманывала. Проходили сроки, а зданий не было. Сезонные каменщики и плотники работали не торопясь.
Требовалось бросить на строительство лучших, проверенных коммунаров, сколотить из них крепкую группу, которая подтягивала бы сезонников. К этому времени руководство ОГПУ решило объединить небольшую Тульскую коммуну вместе с Болшевской. С туляками в Болшево прибыл рыжеватый, широкоплечий парень Пашка Фиолетов, прозванный за любовь к чтению «Философом». Он то и сыграл немалую роль в строительстве.
Прежняя его воровская жизнь мало чем отличалась от прошлого других болшевцев. Отца Фиолетова выгнал из Костромской губернии голод. По старой привычке он поехал подкормиться в большой город, прихватив с собой четырнадцатилетнего Пашку. Но и в Петрограде жилось не легче. Большинство фабрик было закрыто, рабочие ушли на фронт. Немногие работающие получали в день восьмушку ржаного хлеба. Пашка понял, что отцу его не прокормить, стащил у квартирной хозяйки санки и ушел на вокзал. За корку хлеба или за миллион рублей Фиолетов брался «подвезти вещички».
Приятели, с которыми ему случалось ночевать на базаре, ходили к «Петуху» – толстому мужчине с красными веками. Он покупал у воров краденое и снабжал их спиртом и кокаином.
Фиолетов бросил санки и стал воровать. К отцу он больше не возвращался.
В тюрьме ему довелось прочитать несколько случайных книжек: Хаггарда, стихи Байрона. В книгах он нашел необыкновенную счастливую жизнь.
На воле Фиолетов не читал, там было не до книг. Но он любил рассказывать о далеких чудесных странах. Говорил нараспев стихи и объяснял, что сочинил их сам. Это был мечтательный вор. Он так и не получил высокой квалификации, часто попадался и кочевал из тюрьмы в тюрьму.
В камере Фиолетов обычно брал на себя обязанность библиотекаря. Он выдавал книги и следил, чтобы их не рвали. В камере же он узнал о существовании Тульской коммуны и попросился в нее один из первых. Там Фиолетов убедился, что настоящая жизнь, о которой он давно мечтал, существует не только в книгах.
«Философ» дружил с комсомольцами Тульской коммуны, пел с ними песни, ходил на собрания, читал книги и газеты и всегда был в курсе последних политических событий.
– Ты парень активный, – сказал секретарь ячейки Селин, – подавай заявление, мы тебя примем.
Фиолетов самолюбиво ответил:
– Не хочу.
– Почему?
– Я все вижу, – говорил Фиолетов. – У вас в ячейке нет демократизма. Комсомольцы только приказывают. Они приходят на собрание с готовыми резолюциями. Разве так должны действовать комсомольцы?
Селин молчал. Фиолетов ушел. Но это не было ссорой. Они встретились наутро по-обычному.
– Паша, – сказал Селин, – на тебя надежда. Сходи в деревню, сделай доклад. Все комсомольцы заняты.
– Хорошо, – смущенно ответил Фиолетов – он никогда не делал докладов, – о чем доклад?
В коммуне предстоял весенний субботник молодежи по насаждению деревьев. В клубе висел лозунг: «Зелень – друг человека».
Селин сел на подоконник и развернул газету:
– Материал к докладу здесь найдешь. Пусть они тоже проведут субботник. Посадят у школы яблони. И у сельсовета тоже. Понял, Паша?
Фиолетов выучил наизусть статью о субботнике и пошел в деревню.
В школу уже набралось много народу. Фиолетов делал доклад с конспектом в руках и не отрывал от него глаз. Кончив, он спросил:
– Кто хочет выступить?
Люди молчали. Внезапно он вспомнил, что ничего им не предлагал, говорил вообще о субботнике. Откуда они могут знать, что он предлагает им посадить у школы яблони? Значит, так ничего и не сумеет он сделать на этом собрании?
В отчаянии окинул он взглядом незнакомые молодые лица в переднем ряду. На него смотрели с ожиданием. И тогда Фиолетов твердо проговорил:
– Товарищи, имеется такая резолюция: «Заслушав доклад о субботнике, мы постановляем посадить у школы яблони, а также у сельсовета…»
Резолюцию не отвергли. Считая руки, поднятые над партами, Фиолетов понял, почему Селин, вместо того чтобы спорить с ним о демократизме в комсомольской ячейке, послал его сделать доклад.
После этой первой речи минуло два года.
Со станции явился Фиолетов в Болшево с двумя связками книг, которым нехватило места на подводе. Рядом с ним шла жена с ребенком. Дорогой он остановился и долго разглядывал стройку.
– Пойдем, Паша, – торопила жена, – успеешь насмотреться.
Но Фиолетову хотелось в первые же часы приезда побывать на строительной площадке.
– Что это за гусь с книжками? – слышалось им вслед.
– Кажется, из новых, из тульчан.
Не оглядываясь на говорящих, Фиолетов шел дальше.
Вечером в клубе он произнес от лица тульчан приветственную речь болшевцам. Она была коротка, спокойна и отличалась строгой продуманностью.
– Парень хладнокровный, не то что наши пылкие ораторы, – заметил кто-то из болшевцев, когда Фиолетов сошел со сцены.
Фиолетов, услышав замечание, повернулся и ответил:
– Волноваться я не люблю.
К нему приблизился воспитатель Северов:
– Ты где хочешь работать?
Фиолетов знал столярное дело. Не задумываясь, он сказал:
– Встану к верстаку на лыжной фабрике.
Северов предложил:
– В последнее время ты ведь был в Тульской коммуне секретарем ячейки, может, и у нас по комсомольской части захочешь?
– Нет, – отказался Фиолетов, – руководить мне у вас рано, надо на производстве себя показать.
Говорил он так рассудительно и веско, будто за много дней вперед твердо определил свое поведение в Болшеве.
Его послали на лыжную. Болванка будущей лыжи попадала ему в руки толстой и грубой, с поднятым, как у лодки, носом. Обтачивая верхнюю галтель, Фиолетов всегда что-нибудь напевал. Соседи прислушивались, но каждая песня была для них новой, с незнакомыми словами.
– Что ты поешь, Павел? – спрашивали его.
– А это – свое, мои стихи, – тихо пояснял он, не бросая работу. – Вот, например, – и он речитативом произносил:
Мне, смешному парню, некрасивому,
Неуклюжему, с большущими глазами,
Полюбилась ты, коммуны жизнь бурливая,
В такт идущая с восстания годами.
Прочь ушли года порока,
Утонув в восходе новых дней.
Полюбил тебя я искренно, глубоко,
Трудкоммуна – фабрика людей!
Стихи хвалили. Фиолетов не смущался, принимал похвалы как должное. Он рассказывал, что очень много стихов написал в Туле, а сочинять их начал еще в тюрьме.
– Стихи работать помогают, – добавлял он.
Местных стихотворцев ребята считали людьми не очень надежными. По наслышке их звали «богемой». Газета «На новом пути» однажды высказала коммунским поэтам такое пожелание:
Эх, братцы,
Лучше б мы имели
Взамен богемы одного рабкора!
С приходом Фиолетова, завоевавшего звание лучшего слесаря, стали говорить:
– Оказывается, поэты и работать умеют.
Однажды Фиолетов созвал активистов Гуляева, Накатникова, Каминского и в обычной своей манере – спокойно и веско – заявил:
– Второй год пятилетки идет…
– Вот новость, – ответили ему.
– А у нас и не пахнет соревнованием, – не смущаясь, закончил Фиолетов.
Активисты переглянулись. А Фиолетов достал из кармана бумажку:
– Вот я предлагаю договор заключить между лыжной и коньковым.
Договор прочитали, обсудили и решили заключить. Это был первый договор на соревнование в коммуне.
Вышло так, что Фиолетову пришлось выпускать бюллетень соревнования, руководить кружком политграмоты, помогать новичкам в лыжной. В конце концов никого не удивило, что после перевыборов Фиолетов стал секретарем комсомольской ячейки. После собрания к нему подошел Северов:
– Как же это ты, из столяров опять в секретари?
Фиолетов сдержанно улыбнулся:
– Большинство велело.
Вслед за соревнованием между лыжной и коньковым Эмиль Каминский и Гуляев, работавшие на обувной фабрике, объявили себя первыми ударниками.
Потом объявила себя ударной вся бригада Гуляева и Каминского – пятнадцать закройщиков. Бригада перевыполняла план. Гуляев и Каминский ходили гордые.
Слово «ударник» слышалось теперь всюду. Его повторяли на трикотажной, коньковом, лыжной, в школе, на кухне. Когда полировщик Емельянов с лыжной фабрики заявил, что не хочет быть ударником, его единогласно исключили из комсомола. Все партийные одобрили:
– Правильно сделали, что исключили.
Фиолетова приняли в партию. Вскоре его послали на строительную площадку. Работа здесь попрежнему шла ни шатко, ни валко. Бородатые сезонники подсчитывали, сколько они расходуют на харчи, квартиру и много ли принесут выручки домой, в свое хозяйство. Если цифры оказывались значительными, то сезонники выпивали. С похмелья работа шла еще хуже.
Фиолетов, побывав на площадке, поднял вопрос о том, чтобы строительство укрепили лучшими коммунарами, по возможности партийцами. Партийцы нашлись и среди немногих кадровых вольнонаемных рабочих.
– Надо сколотить на площадке ячейку, – настаивал Фиолетов. – Она будет политическим штабом строительства.
Партийное руководство коммуны согласилось на это предложение.
Секретарем новой ячейки был утвержден Фиолетов.
Прежде Фиолетов не раз участвовал в субботниках на площадках: таскал кирпич и копал землю. Был у него там друг, каменщик Пузанков Василий Павлович, здоровенный старик с густой седеющей бородой. Он любил рассказывать Фиолетову о своей жизни, богатой странствованиями.
Теперь Фиолетову нельзя было ограничиться переноской кирпичей и слушанием рассказов Василия Павловича – коммуна ждала от нового секретаря руководства всей работой, ускорения строительства. А Фиолетову в первые дни на площадке со многим пришлось столкнуться впервые.
Как кладется кирпич? Чем его скрепляют? Сколько нужно кирпича, чтобы построить дом? Что еще для этого нужно? Какие существуют нормы выработки?
В первое утро Фиолетов увидел, как вокруг недостроенного здания возводили леса. Основанием им служили высокие столбы: бревна ставили друг на друга и скрепляли железными крючьями. Фиолетов заметил, что когда мимо столбов проезжает телега с грузом, они тихо покачиваются. Он остановился. «Как же люди будут работать на этих лесах, коли они и сейчас готовы упасть?» Фиолетову хотелось броситься к начальнику площадки и спросить, кто возводит леса. Может быть, и весь дом строится так же преступно? Если это вредительство, надо проследить виновных.
Весь день ходил он мимо столбов и лишь вечером заговорил с десятником Ряховским:
– Погляди, столбы-то эти качаются?
– А как же, – с готовностью ответил десятник, – я давно слежу – качаются.
– Ну и что? – спросил Фиолетов, шагнув вперед.
Десятник внимательно посмотрел на него и, откашлявшись, объяснил, что правильно поставленный столб должен колебаться.
Фиолетов тоже закашлял, отвернулся и пошел прочь.
На дороге он увидел старого знакомого – каменщика Василия Павловича.
– Эх, – сказал Фиолетов, – осрамился я сейчас. – С горькой усмешкой он передал историю о столбах.
– Не помучишься – не научишься, – проговорил каменщик, – а столбы обязаны качаться.
Он рассказал, как в молодости клал фабричные трубы:
– Высокая она, высокая, а я сижу на верхушке, как воробей на шесте. И вот слышу, качается подо мной труба еле-еле, будто в сердце отдает. Ну, думаю, значит, правильно положил. А если она как мертвая, значит, вкось кирпич пошел и ломать надо.
Утром Фиолетов созвал бюро ячейки и предложил поставить отчеты коммунистов о работе на площадке.
Когда собрались слушать отчеты, он велел позвать начальника строительства.
– Да начальник-то беспартийный, – сказали ему.
– Зато специалист, он нам поможет, – ответил Фиолетов.
Каменщик Пузанков показывал ему разные способы кладки кирпича, и он, не стесняясь, спрашивал:
– Что такое замес?
– А это очень просто: две-один– три.
– Как это – один-три?
– Две части извести, одна цементу и три песку.
Шаг за шагом, настойчиво учась, он овладевал техникой строительства.
Дом стоял почти совсем готовый, с крышей, окнами и каменными ступенями. Оставалось только его оштукатурить.
– Не скоро еще? – спросил Фиолетов, забравшись в дом.
Высокий дядя с рыжей мочалой в усах осмотрел его с ног до головы:
– Не скоро. Штукатуров мало.
– Нанять?
Дядя расправил плечи и показался еще больше:
– Найми! Штукатуры на вес золота.
Фиолетов долго смотрел, как люди обивают стены дранкой и рогожей. Он ушел молча.
Вечером устроили субботник. Вместе со всеми Фиолетов обивал стены дранкой и рогожей. Это оказалось не столь хитрым делом. Через несколько суток дом был отделан.
После этого случая сезонники начали относиться к Фиолетову с уважением, да и все коммунисты почувствовали, что авторитет их в глазах рабочих возрастает. У коммунистов спрашивали теперь, почему не выполняются планы, к ним приходили за советами рабочие. После отчетов на бюро ячейки каждый коммунист получил участок и отвечал за его работу. Темпы строительства резко изменились.
Сложное дело – строительство. Сложное и увлекательное. Как-то само собой вопросы строительства оттесняли, отодвигали на второй план все другие, часто не менее важные.
В тот день, когда Островский вызвал к себе коммунара Умнова, директора конькового завода и управляющего коммуной, может быть, только этот последний догадывался о характере предстоящего разговора. Все трое пришли утром в назначенный час. На столе у Островского рядом с бумагами лежали коньки.
– Вот посмотрите эти «снегурочки», изготовленные вашим заводом, – сказал Островский. – Это рядовые коньки, взятые наугад. Товарищ Умнов, я буду говорить об их качестве, а вы проверяйте, верно ли я говорю.
– Ладно, – сказал Умнов. Сердце его упало. «Значит, плохо», подумал он.
– Тавот – дефицитный товар, – говорил Островский. – Смазывать им коньки сверх нормы – преступно. Как смазаны эти коньки, товарищ Умнов?
– Переборщили, – буркнул Умнов.
– А почему переборщили? Если бы просто переборщили, было бы полбеды. Тавот предохраняет от ржавчины, но он же при случае замазывает дефекты. Правду я говорю, товарищ Умнов?
– Правда, – согласился Умнов, покраснев, точно именно он замазывал тавотом дефекты.
– Попробуйте развинтить щечки.
Умнов начал развинчивать. Это оказалось нелегким делом. Если щечки не поддавались отличному кузнецу, каким был Умнов, то развинтить их пионеру было бы совсем не под силу. Кое-как Умнов развинтил щечки.
– Ну, теперь проверьте винтодержательную скобочку.
– Скобочка шатается, слабо приклепана, – сказал Умнов.
– А каблукодержатель?
– Шатается, – сказал Умнов.
Ему было стыдно, невыносимо стыдно за себя, за Кузнецова, за весь коньковый завод. Директор и Кузнецов сидели, не проронив ни слова. Нетронутый чай стыл в стаканах.
– Я попрошу, товарищ Умнов, на всякий случай стереть слой тавота с полозьев, может, и там что-нибудь обнаружится, – предложил Островский.
Умнов быстро стер тавот с первого конька. Полоз блеснул безукоризненной линией. Умнов покосился на Островского.
– Хорошо, – тихо сказал он.
На втором полозе под тавотом обнаружились четыре трещины.
– Ну? – сказал Островский. Никто ему не ответил.
– Можно на этих «снегурочках» кататься?
– Нет, – сказал Умнов.
– Ну, так я передам эти «снегурочки» товарищу Ягоде как подарок от конькового. Идет?
Умнов с отчаянием посмотрел на директора и на Кузнецова. Что же они не спешат на выручку, как они могут молчать?
– Не надо, товарищ Островский, – умоляюще произнес он. – Зачем огорчать! Я от имени всех ребят говорю. Наляжем, правда! Вот увидите! Устраним все…
Умнов стоял красный, с каплями пота на лбу.
– Если вы, товарищ Умнов, против передачи этих несчастных «снегурочек» товарищу Ягоде, хорошо – я не передам, – сказал товарищ Островский. – Я оставлю их у себя. Я обращаю ваше внимание только на одно – вы позорите не только коммуну, но и «Динамо», куда идет ваша продукция. Вдумайтесь в это получше. И если уж даете обещание, так выполните его.
Суровой самокритике была подвергнута работа каждого. На всех заводах – в производственных комиссиях, на производственных совещаниях, на общезаводских собраниях болшевцев – всюду были поставлены вопросы промфинплана, качества продукции.
– Ни одной плохой пары коньков, ни одной бракованной фуфайки, ни одной негодной пары лыж!
Волна социалистического ударничества и соревнования прокатывалась по цехам.
Так шла эта трудная, полная событиями, обильная огорчениями и радостями зима.
УголокПрошло то время, когда Богословский, старейший работник коммуны, знал в лицо и по имени любого воспитанника. Положение изменилось. Каждый день коммуна пополнялась новыми обитателями. Не только Богословский или Кузнецов не могли знать всех воспитанников, но и сами они частенько не опознавали друг друга несмотря на широкие знакомства в старом блатном мире. Услышав о коммуне, в нее приходили уголовники-одиночки с воли. По собственному желанию являлись целые партии из тюрем и лагерей. Одних влекло давнишнее желание кончить с опасным ремеслом и начать трудовую жизнь. Другие – преимущественно молодежь – спешили сюда, не дожидаясь очередного ареста. Третьи – наиболее закоренелые – все же сознавали, что воровскому миру наступает конец, и также тянулись в коммуну. Впервые дни такие больше всего доставляли хлопот воспитателям. Но коммуна уже не боялась трудностей. Руководители накопили достаточно опыта, им помогали активисты. Принципы, применяемые в коммуне, оправдали себя. Каждому вновь приходящему в Болшево хватало дела на производстве, строительстве, в культурных организациях. Воспитатели получили неограниченные возможности подхода к людям с полным учетом их индивидуальности. Еще не так давно появление первых девушек вызывало у многих опасение за судьбу всей коммуны. Теперь былые страхи казались смешными. Приезд опытной воровки Лели Мещерской остался почти незамеченным, да ее и не пришлось уговаривать, как это было с Огневой и Шигаревой.
Только одно лето можно было считать счастливым в детстве Лели. Звали ее тогда по всей деревне Ольгушкой, а ребятишки еще добавляли: лягушка. В то счастливое лето отец не пьянствовал и привез из Москвы много подарков: селедки, чай, сахар, ситец, платок матери, а детям, Ольгушке и маленькому сынишке, по соломенной шляпе.
Осенью отца взяли на войну. Ольгушка подрастала без него. Мать была довольна помощницей. Потом пришло извещение что отец убит – «пал в бою», как сообщало письмо.
Мать, ставшая полноправной хозяйкой над захудалым имуществом, решила отправить Ольгушку из деревни к тетке в Питер – пусть чему-нибудь поучится.
Тетка жила в «самом конце города», как она сама говорила. «Конец» был весь из старых домов, давно предназначенных к сносу. Одинокая старуха перебивалась постирушками, ходила мыть посуду, чинила какие-то ношенные-переношенные штаны и рубахи.
Ольгушка помогала ей, потом стала работать на квасном заводе – мыла бутылки.
После Февральской революции тетка устроила ее через знакомых в типографию. Ольгушка подрастала, но парни не хотели с ней гулять. Она долго не складывалась: с лица была желтовата и телом костиста. По вечерам, сидя на лавочке, она тосковала. Мимо проезжали какие-то люди – мужчины и женщины – веселые, хорошо одетые. Они ехали на Стрелку смотреть заход солнца. И никому не было дела, что у Ольгушки убили отца, что мать не пишет и что тетке пора на покой, а ей, девчонке, хочется хоть раз тоже поехать на Стрелку посмотреть на закат солнца.
Пришли октябрьские события. Вся типография ходила к заставе, дрались, потом на Марсовом хоронили кого-то, а Ольгушка отсиживалась в низеньком домишке. Тетка все приговаривала:
– Не ходи, ты – маленькая, с тебя не взыщут!
С Ольгушки и не взыскали. Она так и осталась работать в типографии, где переменилось начальство, а ребята остались прежние.
Перестали ездить господа на Стрелку, мимо ездили машины с военными, людьми простыми и деловыми.
Ольгушка работала старательно. В типографии начальство стало ее выделять. Ребята вдруг заметили, что у Ольгушки красивые глаза и кудрявые волосы, стали просить вечером: «Спой, Ольгушка». У нее появились новые знакомые. Тетка предостерегала:
– Гляди, забеременеешь, тогда ищи их!
Ольгушка ходила раза два на комсомольские собрания, но там ей показалось скучно: то ли дело Жора!
Он служил в почтовой конторе, у него – всегда деньги, новый пиджак. И не раз звал Ольгушку поехать на Стрелку развлечься.
Она подумала и однажды решила:
– Поедем в воскресенье.
Они ехали на лихаче. Широкая спина ватного армяка, ременной кушак, шляпа с ворсом и лаковая коляска были совсем такие, как до революции. Жора спросил:
– А как вас мамаша звала?
– Ольгушкой, – сказала девушка.
– Ну, а знакомые?
Ольга припомнила деревенских ребятишек и постыдилась сказать, что ее звали лягушкой. Она покраснела и сказала:
– Никак.
– Тогда я вас буду звать Леля, разрешаете? – спросил Жора и взял ее руку.
Домой они вернулись под утро. Тетка, отперев дверь, только и сказала:
– Добегалась!
Из типографии Ольгушка ушла. Жора пообещал устроить ее на другую работу.
Ольгушка переехала к нему. Тетка махнула рукой:
– Ныне и невенчаных много живет.
Жили хорошо. Она иногда начинала допрашивать Жору, сколько он получает.
– А тебе мало? – отвечал он. – Могу еще дать! – и выкидывал червонцы.
Тетка ходила, как именинница:
– Ольгушке-то счастье! Бог, он – справедливый, сироту не оставляет! Была у них, одарили меня. Теперь у меня чай с сахаром не переводится. Конфеты есть…
Ольга хорошела. Платья ли делали ее лучше, счастье ли меняет человека, только на улице все смотрели на высокую стройную девушку. Лицо строгое, руки тонкие, а когда улыбалась, то даже дворники у чужих дворов здоровались.
Жора иногда пропадал куда-то на всю ночь, потом просил прощения, говорил, что в карты играть любит, и высыпал серед Ольгой кредитки. Ольга верила. Так жили месяца два. Потом Жора не явился и утром, не явился и вечером. Ольга пошла в учреждение, где работал Жора, ей сказали, что давно уволился. Сестра Жоры сообщила, что он арестован.
– За что? – спросила Ольга.
– Ты, Леля, не волнуйся, он скоро придет. Никуда не ходи, я все сама сделаю. Меня брат просил об этом.
– Разве он знал, что его арестуют?
Сестра стала что-то врать. Ольга повернулась и ушла. Через четыре дня пришел Жора. Он ввалился в комнату грязный, небритый, но веселый и довольный.
– Загрустила, детка? Что же ты не рада, Леля?
До вечера Ольга плакала и все расспрашивала, за что его арестовали и почему ей не надо было искать его.
Жора отговаривался, потом усмехнулся:
– Ну и святая душа! Первый раз такую девчонку вижу. Ты думаешь, деньги с неба падают?
Ольга похолодела:
– Я ведь говорила, что пойду работать. Можешь не спекулировать!
– Чудачка! – опять криво усмехнулся Жора. – Если б спекуляция, так я себе руку бы отрубил.
– Если не спекулируешь, тогда что? Ведь не воруешь же ты? – крикнула она запальчиво.
– А если ворую?
Ольгу поразил грустный жоркин голос. Она металась по комнате и все натыкалась на Жорку, и хотя Жорка не обнимал ее, она от него отскакивала.
– Ты не мучайся, я уйду! – он встал и шагнул к двери, прошел длинный коридор и звякнул цепочкой. Ольга крикнула:
– Жора! Куда ты?
Она уже хорошо знала его товарищей. Понемногу начинала понимать воровской жаргон. Потом ходила по тем квартирам, которые должен был Жора обобрать. Звонила, и если кто-нибудь выходил, она спрашивала первое попавшееся имя. Ольга чаще всего спрашивала своих деревенских, которых помнила. Было легче сказать: «Здесь ли живет Василий Терентьевич?»
Так началась ее воровская жизнь.
По шалманам Ольга не скрывалась. День-два переждет у тетки, старуха всегда встречала племянницу с плачем и не радовалась уже пышным подаркам. Жорка был в ссылке. Леля решила переменить место работы. С «липой» выехала в Москву. Явки были, связи крепкие, и жизнь закружилась. Леля «бегала» уже «по городовой». Сашка Шишка уговаривал начать совместную жизнь – Ольга ждала Жорку. Сашка не приставал – Лелю уважали как женщину серьезную и положительную.
На Сретенке в ресторанчике, где зачастую встречалась она со своими компаньонами, сбытчиками краденого, с извозчиками, которые возили на «дело», Леля узнала о смерти мужа. Говорили, что расстрелян, кто-то сказал, что убит при перестрелке. Леля хрустнула пальцами и сказала:
– Пойдем куда-нибудь!
Они наняли извозчика в Марьину рощу. Шишка и еще один вор, Барин, везли ее к знакомому «Каину» – они знали, что и водка и закуска всегда готовы у доброго человека.
Дверь отворила осторожная хозяйка.
– Свои, – Сашка Шишка подмигнул и протиснулся вперед.
Леля заметила в углу комнатушки портновский стол, утюги, на стене висели большие ножницы, похожие на те, которыми стригли овец. Ольга усмехнулась:
– Это тут?
– Проходите, проходите, рада очень, – лебезила хозяйка, посматривая на Шишку. – Сейчас и сам будет.
Шишка шепнул ей что-то. и хозяйка с готовностью провела Лелю в другую комнату. Эта комната была побольше, светлее, оклеена обоями, на стенах висели картинки из журналов, абажур лампы был украшен бумажными розами.
Но Леле и здесь не нравилось. На столе была постлана грязная, в коричневых пятнах скатерть. В комнате стояли табуретки, новенькие, свеже обструганные, но уже заляпанные, залитые чем-то густым и клейким. У фикуса из семи листьев шесть пожелтели.
– Хоть бы цветок полили! – сказала Леля.
Шишка бросил гитару и выбежал в другую комнату. Он принес ковш воды и начал изо рта прыскать на фикус.
– Брось ломаться, – попросила Леля. – И пусть водки дадут. Жжет!
Шишка опять выскочил из комнаты.
Барин – с ним Леля встречалась всего третий раз – подсел к ней.
– Вы такая интересная вдовушка, зачем скучать? – и взял ее за руку.
– Брось, – отодвинулась в угол Леля. – Чего ты лезешь?
В комнату разом ввалились Шишка, хозяин и два молодых парня. Принесли бутылки, банки консервов. Перед Лелей поставили коробку с конфетами.
Леля налила стакан водки и залпом выпила.
– Селедочки, – пододвинул хозяин тарелку. Леля усмехнулась и налила еще стакан.
Леля пила. Ей казалось, что она не пьянеет. Шишка давно сидел с ней рядом. Он вытирал слезы с лелиного лица сначала платком, потом руками, потом опять платком. Леля плакала, широко открыв глаза. Плакать под гитару было легко.
Ночью приехали еще какие-то люди. На рассвете Леля попросила Шишку:
– Помоги выйти, мне плохо. – Но Шишка спал.
Лелю мутило. Барин помог ей выйти.
«Господи, какая жизнь!» не то сказала, не то подумала Ольга, шагая через порог.
Аресты в Ленинграде, Москве, Казани, Сызрани, Томске, приводы, изоляции, суды, приговоры, лагери, побеги.
И Леля Счастливая, так называли ее знакомые воры за удачу в кражах, сидела последние дни в МУУРе, дожидаясь отправки в Соловки.
Голос ее огрубел, под настороженными глазами морщины.
У нее даже волосы перестали виться. В камере шумели девушки, молодые воровки, только начавшие «работать». Они с уважением уступали Лельке лучшее место в углу. Она покорно, как ей казалось, готовилась в дальний путь. И в Соловках люди живут.
В МУУР на отбор приехала комиссия из Болшева. Комиссия работала под председательством товарища Буля.
Девчонки в камере волновались.
– Вы что? – строго спросила их Ольга. – Чего вы кричите?
– Леля, Лелечка! Приехали из Болшева, – и девушка схватила Лелю за плечи.
«Рада, дура», подумала Ольга, но не захотела огорчить девушку. Пусть хоть этому порадуется.
Леля легла на койку и отвернулась к стене.
Девчонки кричали, бегали, их вызывали, они возвращались, кричали: «Меня берут!»
Леля страдала, что никуда нельзя уйти от этой оравы, заткнуть уши, закричать, пожаловаться. Почему ее никуда не берут, никто за ней не приходит и ей один путь – в Соловки? А может, и она поехала бы! Лелька Счастливая заплакала. Она плакала тихо, чтобы никто не мог подумать, что им, «сявкам», завидуют.
В камере притихли. Кто-то сказал:
– Она спит.
– Разбудите. Ее зовут на комиссию.
Леля пальцами протирала глаза, она притворялась, что только что проснулась. Она не знала, зачем ее зовут туда, к Булю. Может, сегодня ей дадут приговор? Может, сегодня и ее «обрадуют»: три года Соловков, а может быть, все пять!
Леля длинным коридором прошла в кабинет Буля.
Перед ней стояли еще какие-то девушки. Леля отстранила их:
– Пропустите, меня вызывали.
За столом сидел Буль, рядом с ним незнакомая черноволосая женщина, потом Нюрка Огнева, неплохая воровка, в «Новинках» сидели вместе, и Маша Чекова, тоже из «Новинок».
– Вот она, – сказал Буль.
Огнева, не здороваясь, с любопытством посмотрела на Ольгу.
«Ишь, сволочь, – озлилась Лелька, – какую святую стала разыгрывать! Чорт с ней, мне ее поклон не нужен»,
Женщина, сидевшая рядом с Булем, что-то тихо зашептала. Буль покачал головой и сейчас же спросил Лелю:
– Хочешь, Счастливая, в коммуну?
Одна из улиц коммуны
«Что он, смеется, что ли?» насторожилась Леля.
– Сколько тебе лет? – спросила деловито Огнева.
«Будто не знает, подлая», еще пуще обозлилась Леля, но все же ответила:
– Двадцать шесть.
– Да что ты? – удивилась Огнева. – Да тебе же меньше. Леля! Ты меня узнала? – И Огнева улыбнулась.
– Узнала. А лет мне все-таки двадцать шесть.
Женщина опять что-то тихо сказала, но Огнева начала оспаривать громко:
– Нина Николаевна, надо обязательно взять. Я же давно ее знаю. Она подходящая, честное слово.
Женщина повернулась опять к Булю.
И Леля вдруг поняла: она боится, что ей откажут. Она не сводила глаз с женщины: «Ну, что тебе стоит? Почему же ты не хочешь?»
Женщина согласилась:
– Хорошо, давайте возьмем. Хотя по возрасту она не совсем подходит.
Женщина говорила, а Лелька бежала уже по коридору и, ворвавшись в камеру, закричала, как девчонка:
– Девушки, милые, меня тоже берут!
Они выехали под вечер на грузовике; ехали по бульварам, свернули от Трубной к Самотечной.
«Мимо Сухаревки», определила машинально Леля, и действительно грузовик свернул к Сухаревке. С грузовика площадь казалась маленькой и грязной. Леля всматривалась в толпу, пытаясь найти знакомое лицо, но автомобиль свернул на Мещанскую, и Сухаревка гудела где-то позади.
«Зачем я туда еду? – задала себе вопрос Леля. – Чорт ее знает, что это за коммуна».
Переступая через ноги девчат, к Леле пробиралась Огнева.
– Послушай, – наклонилась она к Леле. – Ты знаешь, Леля, что я за тебя поручилась. Тебя в коммуну не хотели принимать. Мне пришлось тебя отстаивать, так ты смотри, если что, так мне скажи… Понимаешь?