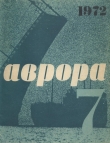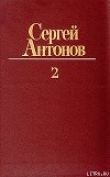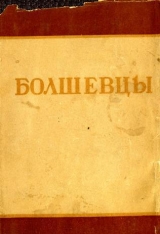
Текст книги "Болшевцы"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 39 страниц)
Приехал Погребинский. Он был возбужден и серьезен.
– Галстук, галстук, – закричал он Румянцеву, едва поздоровавшись с ним. – Галстук у тебя набок съехал.
Сильно дернув за галстук, он поправил его. Потом отступил и прищурил глаз:
– Вот, так хорошо… А почему цветов мало? Поленились? Так. Небритых нет? Кто будет небритым – прогоню от стола. Федор Григорьевич, начнем?
В клубе гости сели на скамейки. Коммунары входили в зал, осторожно ступая. Выпускники заняли передние места. Когда все расселись, наступила совершенная тишина, казалось, полтораста человек, собранных в этом зале, перестали дышать.
«Не напутать бы», с трепетом подумал Гуляев, занимая место за столом президиума.
Ему предстояло открыть собрание.
Он набрал воздуху.
– Товарищи!
Невнятный писк вылетел из его горла. Он откашлялся и произнес не свойственным ему грубым и низким голосом:
– Торжественное заседание, посвященное первому выпуску коммуны, считаю открытым.
Зал грохнул аплодисментами. Встал Накатников. Слова, которых не мог он найти днем, пришли сразу скопом, и он захлебывался ими. Простые, настоящие, веские слова:
– Коммуна вернула нас к жизни… Мы, бывшие воры, получаем право и свободу… Кто из нас захочет вернуться назад в шалман? Никогда не будет этого! Мы пойдем вперед!
Орджоникидзе, покачивая головой, говорил как будто про себя:
– Правильно! Вот это правильно!
Погребинскому вспомнилось все: тысяча девятьсот двадцать четвертый год, разговор с Ягодой, все мысли тех дней, беседы с беспризорными осенней ночью у костра, страшная фигура «Продай-смерти», с булкой, зажатой тупыми культяпками рук.
Погребинский встал, покачнув стол. Он сказал, устремившись всем корпусом к выпускникам:
– Сегодня произносится над вами «приговор». Вы «приговариваетесь» к выпуску на свободу бессрочно, возвращению гражданских прав, к снятию судимости, к свободному, осознанному и радостному труду. Где еще, в какой стране и в какое время могло быть что-нибудь похожее?
Орджоникидзе чуть заметно кивнул головой.
– Хорошо поработали, – звучно сказал он. – Хорошо протекает ваша работа!..
Один за другим к столу выходили выпускники. Они шли, залитые сиянием лампы, провожаемые грохотом аплодисментов. Стояли перед столом неподвижные и бледные.
Погребинский называл их фамилии, и голос выдавал его волнение:
– Гуляев – пять судимостей. Лучший производственник обувной фабрики.
– Накатников – шесть судимостей. Готовится к поступлению в вуз.
Так коротко о каждом. А как много мог бы сказать о них именно он, положивший в основу всей работы коммуны живое общение с человеком!..
Вот этот остался в коммуне из-за голубей. Этот думал только перезимовать – переждать под комму некой крышей морозы и с первым солнцем исчезнуть; один – случайно заболел, пролежал две недели и потом остался; другой – научился подбивать подметки и захотел сшить целый сапог; третьего – удержала вспыхнувшая страсть к музыке; четвертый – проявил себя незаурядным спортсменом. Но была одна общая для всех причина, заставившая их остаться в коммуне, и называлась она простым словом: «социализм».
Инициатива вождя партии Сталина направила усилия испытанных большевиков на дело перевоспитания, переделки молодых правонарушителей. Как далеко смотрит этот простой и мудрый человек, как по-ленински глубок и ясен его взгляд.
То, что вчера еще многим казалось немыслимым, сегодня стало фактом. Вчерашние преступники, прошедшие школу труда, переплавленные трудом, становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми. И каким простым и естественным для нашей страны кажется это сегодня.
Невелико то, что удалось сделать, по сравнению с тем, что должно быть сделано и что будет сделано. И велики еще трудности впереди.
Но разве не очевидно, что мечта Дзержинского о перевоспитании правонарушителя в условиях свободы, в условиях доверия – большевистская мечта?
Разве не найдено уже то, чего не было еще вчера, что нужно было отыскивать ощупью – самое главное – методы работы?
Вот сидит Чума – человек, который пытался противопоставить коммуне воровской закон, пытался обмануть ее, стать вожаком и, вероятно, стал бы им в другом месте. В коммуне смеются над ним. Почему у него не вышло?
Труд, самоуправление, ответственность всех перед общим собранием, выращивание подлинных активистов-общественников – принципы, выработанные коммуной, подрезали вожачество Чумы на корню – и не его одного.
Это найдено, завоевано, проверено практикой. Этого уже нельзя отнять.
Вот к столу подходит Румянцев. Это уже не бывший вор Румянцев, а гражданин и товарищ, как и Накатников, как и Гуляев, как и все тридцать пять, – чудесное, прекрасное превращение, возможное только в Советской стране, созданное волей партии Ленина – Сталина, железной волей большевиков.
Эти сегодня выходят в жизнь.
А за ними поднимается новый отряд – таких, как Малыш, Малахов, Каминский, чья очередь придет завтра! Есть коллектив – он создан, выкован трехлетним трудом. И те, кто идет в коммуну теперь, – вот эти десятки «новичков», заполняющих клубные скамейки на этом торжестве, – вливаются в мастерские, втягиваются в хор, в оркестр, в кружки – они видят, куда ведет путь, начатый здесь каждым из них.
Вчерашние преступники становятся честными тружениками, общественно-полезными людьми.
Раскрываются способности, склонности, вкусы, казалось бы, вконец заглушённые прежней жизнью. Пробуждается радость творческого труда. А ведь все это надо было создать!
Гости уехали. Кончились речи, опустел стол президиума, но праздник не потускнел. Пел хор, играл струнный оркестр. Потом стулья сдвинули к стенам, притащили баян – к особому удовольствию коммунских девушек – рассыпался задорный, веселый танец.
И что выделывали в этот вечер Малыш и Чинарик! Казалось, удержу не будет этим танцорам, неисчерпаема их изобретательность.
Умнов глядел, как веселятся товарищи, но ему было грустно. Ведь сегодняшняя вечеринка по существу была прощальной. Выпускники разъедутся по фабрикам, возможно, что больше и свидеться ни с кем не придется. Вот Гуляев – тот останется здесь. Крепко держит его Танюша. И вспомнилась Умнову первая вечеринка в коммуне, когда так хорошо пели девушки «Рябину» и Танюша поглядывала на Гуляева.
– Таня, – сказал ей Умнов, – спой-ка нам «Рябину». Ты не хуже пела, чем Грызлова.
Таня, как водится, пожеманилась.
– Просим, просим! – кричали ребята.
– Ну, чего модничаешь! Спой, – уговаривал Гуляев.
Тогда Таня, поправив прическу, запела любимую всеми старыми коммунарами песню. Гуляев стоял рядом с ней, крепкий, здоровый, как молодой дубок, и подтягивал вместе со всеми.
«Да куда я поеду, где можно найти что-нибудь лучше, в какие ехать Одессы», подумал Беспалов.
Необыкновенно взволновала и растрогала его песня Таню-ши. Вспомнился тот грозный день, когда стоял он, Беспалов, подлый воришка, лицом к лицу перед судом рабочих, вспомнилась милая, незабываемая ткачиха…
Он вышел в парк. Кто-то шел по дорожке. Беспалов узнал знакомое покашливание Сергея Петровича.
– Дядя Сережа, – окликнул он.
– Беспалыч, ты? Что тебе?
– Не поеду я никуда из коммуны… Понимаете?.. Не хочу.
– Ты же в Одессу собирался…
– Раздумал!.. Раздумал я, дядя Сережа, в Одессу. Может, и здесь чем-нибудь пригожусь…
– Да, это, конечно. Только ты не спеши решать… В Одессе-то, может быть, лучше будет тебе…
Глубокое волнение охватило Сергея Петровича. Какие друзья выросли, помощники! Как крепка кровная с ними связь. А как трудно было хотя бы этому самому Беспалову, сколько раз был он на волосок от гибели, как нелегко ему удалось стать тем, кем он стал теперь.
Ночь выдалась безлунная, освещенные окна казались прорезанными прямо в темноте – ровные четырехугольники, открывающие выход в другой, утренний мир… Они пошли к клубу, где играла музыка, где лихо притоптывали плясуны, провожая в большую жизнь лучших из своей семьи…
Часть вторая
«Блудные сыны»I
Выпуск отметил важный этап развития коммуны и послужил началом еще более напряженного ее развития. Почти каждый последующий день выдвигал перед воспитателями и воспитанниками новые задачи, нисколько не проще тех, которые удалось разрешить. Многие воспитанники могли теперь работать в полукустарных мастерских, но этого было недостаточно. Требовалось дать людям настоящую квалификацию, не хуже, чем у передовых рабочих на механизированных предприятиях. Болшевцам предстояла серьезная длительная учеба.
Приходилось думать о дальнейшей судьбе выпускников. Останутся ли они в коммуне? А если уйдут, удержатся ли от соблазна заняться прежним ремеслом? Уход выпускников сулил и другие трудности. В домах заключения, в лагерях выявлялось все больше уголовников, желающих кончить со своим прошлым. Их надо брать в коммуну. При работе с новичками воспитателям, как никогда, понадобится помощь надежных активистов, и в первую очередь таких, как Гуляев, Накатников, Румянцев, Умнов.
После женитьбы и выпуска Гуляев продолжал работать в сапожной мастерской.
Ботинок теперь приобрел для него совсем особый смысл. Раньше Леха не замечал своей обуви и ни за что не смог бы сказать, во сколько дырочек продергивает ежедневно шнурки. И ботинки точно в отместку за такое равнодушие напоминали о себе внезапно и ехидно – змеиным оскалом или гвоздем, царапающим пятку.
Теперь Гуляев знал, что эти самые ботинки, валяющиеся в пренебрежении под койкой, есть результат сложного взаимодействия ума и рук. Ход выкроечного ножа определяется точным расчетом; хороший мастер – по словам заведующего сапожной мастерской Нусбейна – обязан изучить даже дроби. Дроби в то время казались Лехе верхом учености. Он проникся еще большим уважением к сапожному ремеслу.
Как раз в это время из. ликвидированных мастерских Ермаковки привезли в коммуну машины. Это были старые, очень потрепанные машины, сохранившие, однако, четкость и точность движений. Мастерскую перевели в другое помещение – просторную переоборудованную конюшню.
Леха стал за прошивочную машину. Первый раз он управлял машиной. Он относился к ней недоверчиво, точно она имела свой металлический мозг и могла вдруг выйти из-под власти Лехи. По правилам полагалось бросать заготовки в ящик, не глядя. Леха никак не мог привыкнуть к этому – всякий раз, прострочив заготовку, останавливал машину и проверял шов. Рядом стоял воспитанник Генералов; так же, как Леха, он проверял работу машины глазами и пальцами.
Эти короткие, незаметные простои занимали в общей сложности половину рабочего дня.
– Мало, – говорил заведующий мастерскими Нусбейн, проверяя выработку. – На этих машинах норма двести пятьдесят пар.
Воинственно выставив вперед седую острую бородку, он становился в промежутке между машинами, чтобы видеть сразу работу обоих ребят. Под его требовательным взглядом работа шла много быстрее, простроченные заготовки летели в ящик без проверки. Но тревога мучила Леху: а вдруг машина бракует? Строчит без нитки или с узлами? И когда Нусбейн отходил, машина опять останавливалась, и снова проверялась каждая пара. Но стежка всегда была ровной и гладкой, а если нитку заедало, машина сама говорила об этом: стучала, скрежетала и комкала выкройку.
В конце концов Леха подружился с машиной, недоверие исчезло, простроченные заготовки летели в ящик без проверки, и норма в двести пятьдесят пар стала обычной. Но пока что машина занимала ведущее положение, и задача Лехи состояла в том, чтобы свои человеческие движения согласовать с ее – механическими.
Однажды Леха заметил, что если вагонетку с заготовками ставить ближе и сбоку, можно сэкономить две-три секунды на каждой паре. Но эта экономия все равно пропадала зря – машина не могла работать быстрее, и было обидно давать двести пятьдесят пар в то время, как руки чесались дать триста и больше.
Леха поделился своими сомнениями с Генераловым.
– Старье, – ответил Генералов, перекидывая рычаг на «стоп».
Машина замедлила ход и встала. Освобожденная от тугого движения, она сразу вдруг одряхлела; выступили незаметные раньше выбоины и вымятины; краска потрескалась и местами облупилась, обнажая красноватый, уже тронутый ржавчиной чугун.
– Хлам, – повторил Генералов.
Леха поднял голову. С верхнего шкива на нижний струился широкий белый ремень. В то время Леха еще ничего не знал об основном законе механики– об отношении между ведущими и ведомыми шкивами.
Он сделал это открытие сам, дошел до него своим мозгом. На следующий день Леха пришел в мастерскую за полчаса до начала работы. Он снял ремень с неподвижной трансмиссии и, обив шкив кусками толстой кожи, увеличил таким образом его диаметр.
Он и сам не знал, что будет теперь с машиной. Может быть, она совсем остановится, оскорбленная его невежественным вмешательством.
Пустили мотор. Трансмиссия дрогнула, волоча за собой ремни. Леха, зажмурившись, перекинул рычаг машины. Он ждал, что услышит хруст ломающихся шестеренок. Знакомый густой и ровный звук успокоил его. Значит, пошла!..
Он взял с вагонетки первую заготовку. Машина мгновенно протянула ее и несколько секунд вхолостую лязгала стальными зубами. Обычные движения Лехи оказались сегодня чересчур медленными, но он быстро освоился и догнал машину. Он работал, охваченный гордым волнением – сегодня он был умнее машины, он проник в ее законы, приказал работать быстрее, и машина покорилась ему.
Это была первая большая и настоящая радость, найденная Лехой в работе. Он выработал за день триста шестьдесят пар– на девяносто пар больше вчерашнего. Он сразу прыгнул через нусбейновские нормы. Старик не верил своим глазам. Леха, задыхаясь от гордости, открыл ему и Генералову секрет победы.
Когда Леха на другой день пришел в мастерскую, то увидел Генералова сидящим верхом на трансмиссии. Сосредоточенно – сопя, он обивал свой шкив кусками толстой кожи.
В скором времени Леха и Генералов достигли на своих разбитых машинах фантастической выработки – пятьсот пар в смену. Красная доска коммуны начиналась их фамилиями. Заметно повысился заработок, и Леха купил в Москве замечательный синий костюм в полоску, а жене привез в подарок вязаную жакетку, шелковые чулки и сумочку.
Таня едва дождалась выходного дня – так не терпелось ей показаться вместе с Лехой родственникам, предсказавшим ей черную жизнь за вором. Они шли к таниной матери. Леха был в новом костюме, при галстуке. Таня – в новой жакетке, в шелковых чулках, с новой сумочкой. Если бы Таня могла, то захватила бы с собой и красную доску, чтобы все родственники могли прочесть на ней фамилию мужа.
Родни в этот день собралось много. Пришла тетка Ульяна, румяная и плотная, и прямо с порога посыпала круглые, сухо пощелкивающие слова. Пришел даже дядя Василий, хмурый, заросший седеющей бородой. По давнишней привычке он ежеминутно вытягивал шею, и тогда обозначались на ней жесткие жилы, и сквозила через шерсть белая, не тронутая загаром шея.
Чай пили в саду за круглым столиком. Мать Тани как будто робела перед Лехой, называла его на «вы», стакан протягивала ему первому. Дяде Василию это не нравилось, он выразительно крякал.
– На погребе поллитровка стоит, – сказала танина мать. – Холодная. Может, выпьете?
Лицо дяди Василия выразило согласие. Но Леха сказал:
– Я не буду. У нас по комму неким правилам пить нельзя.
– Мой не пьет, – подтвердила Таня.
Как-то особенно веско произнесла она это короткое слово «мой».
– Да я так– может, для гостей рюмочку, – ответила мать. – И не пейте ее никогда, проклятую. Сколько я, Таня, через нее горя от отца твоего, покойника, приняла…
И хотя Василию Разоренову очень хотелось выпить, водку не подали. Это было первое его поражение. Второе поражение он потерпел, когда Леха достал из кармана коробку хороших папирос и предложил ему. Дядя никак не мог поймать папироску своими толстыми пальцами. Что-то бормоча, он все шарил и шарил в коробке.
– Больно тонкие, господские, – желчно пояснил он, поймав, наконец, папиросу. – Мы не господа, мы к ним не привычны…
В этот момент злосчастная папироса опять выскользнула из его пальцев, упала на стол, в лужу чая, и сразу намокла. Леха снова протянул открытую коробку, но дядя, медленно багровея, достал из кармана кисет.
– Как знаешь, – сказал Леха. – Не хочешь папироску, кури свою махорку. Махорка, брат, тоже бывает разная!
Василий не ответил.
Так они и курили весь вечер – Леха папиросы, а Разоренов махорку.
Когда молодые собрались уходить в коммуну, в клуб, мать Тани пожаловалась:
– Крышу вот надо перекрыть – вовсе стала худая, да нехватает деньжонок. Может быть, ты бы, Василий, выручил?
– Где я тебе возьму? – ответил Разоренов. – Денежки мои в семнадцатом году кончились.
Последнее время Разоренов усиленно начал прибедняться.
– А много ли нужно? – спросил вдруг Леха.
И сразу все замолкли, повернувшись к нему.
– Сорок рублей.
– Могу одолжить. Я с книжки возьму.
Оставшись одни, родственники, как водится, начали судить и рядить. И все хвалили Леху – парень ладный, уважительный, не пьет, имеет хорошую специальность и зарабатывает много.
– Жаловаться грех, – говорила мать. – Выдала дочку за хорошего человека.
В разговор вступил Разоренов:
– Зятек завидный, что и говорить!
Вызов приняла тетка Ульяна:
– А чем плох?
– А чем хорош?.. Что костюм новый?.. Так ему недорого – за два оклада.
– Ты бы не заговаривался, – грозно напомнила мать. – Человек своими руками зарабатывает.
Дядя Василий не выдержал. Злоба схватила его за горло, голос заглох:
– Вор! Воровство! Знаем, откуда папиросы у них!
– Смотри, Василий, – еще грознее сказала мать. – Ты зря не срами человека, а то ведь и за порог недолго.
– Уйду! – яростно закричал дядя Василий. – Уйду! Умирать будешь – глаза не закрою!
– Закроют без тебя. Есть кому.
Дядя Василий хлопнул дверью. Ульяна насмешливо вздохнула вслед ему:
– До чего душа завидущая у человека…
Это была последняя стычка с дядей Василием. Вскоре Разоренов был уличен в спекуляции и выступлениях против колхозов и выслан из Костина.
Теперь вся деревня говорила о положительном и степенном характере разореновского зятя, о его заработках, о новом костюме и о трезвом поведении, и многие родители стали снисходительнее смотреть на прогулки костинских девушек с коммунскими парнями.
А Леха между тем продвигался все дальше в изучении своей профессии. Освоившись с одной машиной, он немедленно переходил на другую. Его неудержимо тянуло к новой, еще незнакомой машине. Он знал, что ее движения, внешне беспорядочные, таят в глубине строгую законченную систему. Тянуло понять, проникнуть в тайные законы валов, эксцентриков и шестеренок, мучительно повторить всю работу создателя этой машины, изобрести ее во второй раз, чтобы потом, по-хозяйски распоряжаясь ею, снова поверить в силу своего мозга и рук.
Новую операцию Леха осваивал в две-три недели. Наступал момент, когда он перегонял машину. Чтобы выжать из нее все возможности, он смело изменял и совершенствовал законы ее движений. Качество работы было всегда первоклассное. Леха не зря прошел школу обувного кустарничества. Он знал цену каждому шву, каждой стельке, он до тех пор возился с машиной, пока она не начинала работать лучше, чище, прочнее человеческих рук.
Он прошел через все операции. Процесс механического создания ботинка был ясен ему. Старые мастера признали его равным себе. Они прямо так и говорили на выпускном вечере, когда Погребинский объявил о снятии с Лехи судимости:
– Этот не пропадет. У него квалификация, как все равно у старого мастера.
– Руки умные у него.
Леха притворялся, что не слышит похвал, но в действительности его распирало от гордости., После выпуска его вызвал к себе в кабинет Сергей Петрович.
– Анкеты вот прислали. Заполнить нужно.
Леха взял длинный разлинованный лист и, не задумываясь, заполнил первые десять граф. На вопрос о профессии он коротко ответил: обувной мастер. На одиннадцатом вопросе – судился ли и за что – застрял. Эта графа всегда огорчала его недостаточными размерами. Леха судился двенадцать раз; статьи и сроки заключения никак не умещались в графе, и после восьмой судимости, написанной уже поперек, на полях, он закончил ответ многозначительными буквами «и т. д.».
– Эй, эй! – закричал вдруг Сергей Петрович. – Ты что написал там? Покажи-ка!
Посмотрев анкету, он спросил укоризненно:
– Ты это зачем же… разве забыл?
– Не помещается, – смутился Леха. – Мне, дядя Сережа, все равно писать, что восемь, что двенадцать, да ведь негде…
– Пиши новую анкету!
Под внимательным наблюдением Сергея Петровича Леха снова заполнил десять граф, дошел до одиннадцатой.
– Здесь черточку, – остановил его Сергей Петрович. – Ставь черточку. Ведь судимость с тебя снята.
– Как же так, дядя Сережа? – усомнился Леха. – Выходит, они обо мне знать ничего не будут?
– Им и незачем знать. ГПУ за тебя отвечает, вопрос исчерпан.
Целый день в обычной суете – на производстве, в столовой и на заседаниях – Леху тревожили какие-то очень значительные, но пока еще смутные мысли, – так поразили его черточка в графе о судимости и слова Сергея Петровича.
Домой вернулся он поздно. Таня уже спала. Смуглая, крепкая ее рука лежала поверх одеяла.
– Таня, – осторожно позвал Леха. – Проснись на минутку, Таня.
Она вздрогнула и подняла голову.
– Ты? – сонно спросила она, притянула его за рукав к постели.
Леха наклонился к ней.
– Позвал меня утром Сергей Петрович анкету заполнить…
– Скорей рассказывай, спать хочу, – торопила она. – Ты вечно так – через час по одному слову.
– Судимость сняли, – ответил он, – понимаешь? В анкетах теперь я писать не буду об этом. Право имею такое…
Он замялся, подыскивая слова. Но Таня поняла сразу. Она приподнялась на локте.
– Это хорошо, – сказала она серьезно. – Это очень хорошо. Значит, чтобы старое тебе никто не поминал.
– Вот-вот, – подхватил он. – Вот правильно ты сказала. И пусть твоя мать скажет в селе, – добавил он, сдвинув брови, – чтобы вором меня никто не смел звать. А то и ответить может – очень даже просто. Такая статья в кодексе имеется.
Потом он стал подробно рассказывать ей, где был сегодня и что делал. Она уснула не дослушав. Леха не обиделся и тихонько отошел к столу.
Мысли его после разговора с Таней прояснились.
Он понял, что маленькая черточка в анкете на самом деле огромная черта, отделившая, наконец, вчерашний день от сегодняшнего.
Он открыл окно. В комнату хлынул густой и сырой поток воздуха. Оказывается, прошел дождь. Он и не заметил его, увлеченный своими мыслями. Капало с крыш, капало с листьев; в разрыве туч, в страшной высоте, горела одинокая звезда. Подул ветер, и второй дождь пролился с листьев на мокрую землю. Сонная Таня заворочалась в постели и откинула одеяло навстречу свежести. «Еще простудится», заботливо подумал Леха; осторожно, чтобы не разбудить, закутал ее и сел на кровать рядом…
Теперь с прошлым покончено. Ему все-таки удалось сбросить этот груз. Ему сразу припомнилась вся жизнь в коммуне, Поездка в Москву за голубями, ночевка в шалмане, и он сейчас с опозданием на три года испугался, подумав, что мог тогда не вернуться в коммуну.
Будущее представлялось ему не очень ясно, но страшного во всяком случае ничего не предстояло. За время пребывания в коммуне он убедился, что советские люди умеют заботиться друг о друге и, конечно, поддержат его, Леху. «Подальше куда-нибудь уехать, – подумал он, – где никто не знает. Хорошо бы на Черное море уехать!» И сам улыбнулся – почему на Черное море? Можно и в Москву – там тоже никто не знает, а если и знает, то не посмеет напомнить. Он сжал зубы – плохо будет тому, кто напомнит! А может быть, в Ташкент поехать? Или в Иркутск? Да нет, лучше уж в Ленинград. Он шопотом перебирал города, вслушиваясь в призывное звучание имен. Теперь все города открыты ему, он может поехать в любой, он может хоть целый год ездить по большой советской земле. «Одесса, – шептал он, – Батум, Сухум, Свердловск, Владивосток, Самара, Киев…» Куда угодно! Только вот деньги на это нужно. Ну, деньги можно будет заработать. Ему и в голову не пришло, что деньги можно украсть…
Так и встретил он утро, взволнованный и счастливый. Ветер разогнал тучи, сгрудил их на западе, края туч были уже накаленными. Поднимался туман, затопляя деревья. Птицы начинали суетливую свою работу; с крыши, вспыхивая мгновенным блеском, падали в тень капли; Леха весь устремился навстречу этому чистому и прохладному движению тумана, листьев, капель и птиц. Прозрачная позолота, стекая с вершин деревьев все ниже, коснулась, наконец, окна, расплавила его, и Леха увидел солнце. Круглое, большое и доброе, оно медленно поднималось, освещая и обогревая Леху и его новый день, не отягощенный прошлым. И Таня, пробудившись на мгновение, сказала счастливым голосом: «Солнышко», и сейчас же уснула опять.
…Посоветовавшись утром с Таней и с товарищами-выпускниками, Леха понял, что немедленный отъезд в далекий город – дело рискованное. Сергей Петрович, правда, обещал помочь в подыскании работы, но только не сразу.
«Как же быть нам теперь? – раздумывали ребята. – В безработные нам никак невозможно: если на воле тебя встретит бывший корешок, а ты есть безработный – вот, скажет, здорово тебя в коммуне выучили…»
Леха потускнел. Ему хотелось немедленно, сейчас же утвердить себя свободным и полноправным гражданином.
Таня с присущей женщинам рассудительностью и трезвостью подсказала решение:
– У вас в коммуне работают вольные, приходящие. Почему ты не можешь работать вольным? А жить будем в Костине.
Леха, а за ним и все выпускники ухватились за эту мысль и скопом отправились к Сергею Петровичу.
– Жить будем в Костине, а работать в коммуне как вольнонаемные.
– Мы уже об этом подумали, – ответил Сергей Петрович. – И даже должности распределили.
Он показал список должностей. Часть выпускников оставалась на прежней работе, а некоторые получали даже повышение, в том числе и Леха Гуляев. Его назначили на высокоответственный пост мастера смены.
Ребята ушли. Леха задержался.
– Не подведешь? – спросил Сергей Петрович, постукивая карандашом по столу.
– Подписывай, – ответил Леха. Он даже охрип от волнения. – Подписывай, дядя Сережа, не бойся.
Крупным угловатым почерком Сергей Петрович подписал приказ.
Беседа их затянулась до ночи. Полузакрыв глаза, покачиваясь в кресле, Сергей Петрович слушал повесть Гуляева о победах, одержанных им над машинами.
– А теперь предстоит тебе, Леха, дело потруднее, – сказал Сергей Петрович. – Машина, брат, – она бессловесная, она, брат, не живая. А вот с людьми – тут дело сложнее. Характер придется переменить тебе, Леха. Смотри, чтобы ни драк, ни ругани. Порох, брат, в патроне хорош, а в характере вреден. Тебе поручается работа в некотором роде воспитательная. Ты в случае чего меня спрашивай. Ты по машинам специалист у нас, а я, брат, по ремонту живых людей.
Раздеваясь, он добавил – не то в шутку, не то всерьез:
– Итак я полагаю, Леха, что моя квалификация все-таки выше.
Они простились.
На новой работе труднее всего было Гуляеву с новичками. Многие из них знали его еще до коммуны. Попадая в мастерскую, новички радовались, видя начальником своего парня, который, конечно, не выдаст и не будет особенно докучать работой. Они никак не думали о том, что Леха всерьез может потребовать от них настоящей работы; такая мысль показалась бы им дикой и неестественной. Деловые его замечания они принимали за ловкое притворство; хитро улыбаясь и подмигивая, думали, что очень хорошо помогают Лехе разыгрывать спектакль перед начальником цеха. С каждым новичком начиналась у Лехи такая же упорная борьба, как в свое время с машинами. А Леха побеждал и в этой борьбе, потому что пользовался в коммуне уважением за бесспорные знания в сапожном деле, и старые коммунары поддерживали его. Новичок не мог выдержать коллективного натиска и постепенно сдавался. Это был трудный и медленный процесс, но еще возня с машинами научила Леху терпению; он настойчиво долбил в одну точку до тех пор, пока не наступал день, в который новичка можно было оставить одного у машины, не опасаясь, что он уйдет спать в какой-нибудь темный угол.
II
На обувную фабрику привезли сложную заграничную машину «Допель». Ее привезли в отсутствие Лехи Гуляева; он только что ушел в отпуск и деятельно готовился к отъезду в Сочи вместе с коммунским оркестром. Но поехать ему не пришлось. Вечером вызвал его Нусбейн:
– Леша, выручай. Не идет «Допель». Неужели будем выписывать мастера?
– Не будем, – ответил Леха и сейчас же отправился вместе с Нусбейном в цех.
Станок стоял в углу у окна. С первого же взгляда Леха понял, что все машины, с которыми приходилось ему сталкиваться до сих пор, были в сравнении с «Допелем» простыми, как молоток.
– Разберешься? – спросил Нусбейн.
Леха молча тронул холодный тугой рычаг. Борьба предстояла не шуточная: Леха ставил на карту все, чем заработал почетное звание мастера.
Он мог отказаться, сославшись на отпуск, и это было, пожалуй, самое безопасное в смысле сохранения авторитета, который неминуемо рухнет, если Леха возьмется за «Допель» и не пустит его. Но Леха привык рисковать. Он заглянул в темное брюхо машины. Старая страсть к открытиям законов механики сразу охватила его. Он выпрямился, пригладил волосы. Нусбейн настороженно ждал ответа. Подошли ребята. Леха сказал раздельно и четко:
– Конечно, разберусь.
Этими словами он сразу отрезал все пути к отступлению. Началась внешне спокойная, в действительности напряженная борьба. Раньше бывало всегда так, что машина сопротивлялась только до определенного момента; вспыхивала догадка, и машина сдавалась сразу, вся.
«Допель» не сдавался. Он медленно отступал, цепляясь за каждую шестеренку, за каждый болтик. «Допель» обманывал Леху, и когда законы его работы казались ясными до конца, неожиданно обнаруживалась какая-нибудь новая непонятная деталь, путала все расчеты, и Леха сызнова начинал свои поиски.
Он так хорошо запомнил механизм станка, что мог разбирать его дома, в воспоминании. Это мешало ему спать. Так продолжалось десять дней. На одиннадцатый день Леха понял роль последней непокорной конической шестеренки и в соответствии с ее движением проверил весь механизм. «Допель» был разгадан. Леха отправился домой – тупая боль ломила затылок. Подороге он крикнул в окно Нусбейну:
– Готово!
И прошел, не оглядываясь, дальше, а Нусбейн, высунувшись из окна, долго кричал ему вслед и махал рукой.
И, как всегда после окончания большой работы, Леха испытывал странное чувство неудовлетворенности, тревоги и внутренней пустоты. Завершающий момент – сама победа – не взволновал его потому, что до этого, в мечтаниях, Леха уже много раз пережил победу, и в действительности она оказалась бледнее. Завтра уже не нужно думать над «Допелем», поэтому завтрашний день казался Лехе вообще ненужным и лишним.