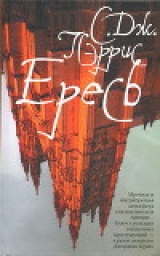
Текст книги "Ересь"
Автор книги: С. Пэррис
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Глава 6
Пройдя в высокие деревянные двери, я очутился под сводчатым потолком из светлого камня в просто и красиво обставленной комнате длиной футов сто. Десять высоких окон поднималось от пола до потолка с обеих сторон – казалось, будто северная и южная ее стена целиком состоят из стекла. Я подумал, что столь прекрасного здания, как школа богословия, я еще не видел в университете.
Присмотревшись, я отметил, что все окна в расписных рамах, на которых изображены щиты и гербы различных покровителей университета и его выдающихся членов. По потолку расходились симметричные узоры, которые спускались к статуям в нишах. Сильно пахло воском от множества свечей, ламп и закрепленных на стенах факелов: при дюжине высоких окон зал все-таки нуждался в дополнительном освещении, ибо небо все еще было затянуто тучами, а день клонился к вечеру.
На западном конце зала возвели подобие театральной сцены, на которой для почетных гостей расставили стулья с высокими спинками и пухлыми бархатными подушками. Пфальцграф уселся посередине, Сидни по левую руку от него, а вице-канцлер в отделанной горностаями мантии – справа; далее полукругом сидели другие старшие члены университета в черно-алых мантиях и бархатных беретах – профессора и доктора, звания которых можно было угадать по степени удаленности от почетного гостя. Весь зал был заполнен мужчинами в мантиях членов колледжа, а в просторной нише поставили две резные деревянные кафедры. Кафедры предназначались для оппонентов – нам с доктором Андерхиллом пора было занять свои места.
Совсем далеко, у восточного конца зала, стояли низкие скамьи для студентов. Молодые люди торопливо вбегали в зал, толкаясь, чтобы занять места получше, и все еще болтая на ходу. На миг, когда я всходил по ступенькам туда, где мне предстояло провести ближайший час, желудок сжала спазма, но, увидев перед собой эти ряды оживленных, ожидающих глаз, я, как всегда, почувствовал восторг предстоящего публичного выступления, тем более что это был первый мой диспут в Англии. Сейчас начнется – я ждал поединка с таким же нетерпением, с каким дуэлянт ждет схватки на шпагах.
Последний взгляд влево, на сцену: Сидни весело подмигивает мне, пфальцграф развалился подле него, ковыряет ногтем в зубах. Во втором ряду я узнал Ковердейла, Слайхерста и Уильяма Бернарда. Ковердейл ответил мне спокойным взглядом, а Слайхерст оглядел меня с ног до головы, не моргая, холодно и недобро, а затем подчеркнуто – так, чтобы я не мог этого не заметить, – отвернулся. Бернард сложил костлявые руки и быстро кивнул мне; полагаю, это было поощрение. Доктор Андерхилл взошел на кафедру, встал против меня и подался вперед, демонстрируя готовность к бою. Глубокая тишина воцарилась в зале. Я откашлялся. Приступаем.
Незадолго до описываемого часа, а именно без четверти пять, ко мне в комнату явился студент, отряженный проводить меня в школу богословия. Крепкий и неглупый с виду молодой человек с темными волосами отрекомендовался Лоренсом Уэстоном и пояснил, что ректор поручил ему показать мне дорогу в школу богословия, поскольку сам ректор отправился туда заранее. Я воспринял это как жест вежливости и гостеприимства и охотно последовал за молодым Уэстоном через двор к воротам. Как раз в этот момент из башни вышли двое слуг, тащившие вдвоем большой деревянный сундук, а за ними шел третий, нагруженный книгами.
– Уже начали разбирать вещи доктора Мерсера? – спросил я Уэстона, стараясь не выдать тревоги. Юноша пожал плечами: его это мало касалось.
За воротами, на Сент-Милдред-Лейн, мы наткнулись на привратника Коббета: он стоял и терпеливо следил за тем, как его старый пес прудит под стеной колледжа.
– Добрый день, доктор Бруно, – жизнерадостно окликнул он меня и даже рукой помахал. – Идете обменяться с ректором парой ласковых?
– Buona sera, [15]15
Добрый вечер (ит.).
[Закрыть]Коббет, – ответил я, взмахом руки указывая на оставшуюся за спиной башню. – Я так понял, комнату заместителя ректора уже прибирают.
Коббет захихикал:
– У нас с этим тянуть не любят, на такие апартаменты охотников немало. Доктор Ковердейл спешит переехать.
– Значит, должность перейдет к нему?
– Официально пока не решено, однако это его не останавливает. Хватит, Бесси, пошли домой. – Старая сука справила нужду и захромала в сторону ворот. Коббет ее легонько подталкивал. – Кстати, доктор Бруно, для вас еще одна загадка подвернулась. – Он снова усмехнулся, выставляя напоказ черные пеньки зубов.
– Какая? – Я замер на месте, весь внимание.
– Запасной ключ от комнат доктора Мерсера. Я говорил, он куда-то пропал из моей каморки. Так вот, нынче днем мастер Слайхерст возвратил мне его. Сказал, что нашел на северо-западной лестнице чуть ли не под дверью башенной комнаты. Кто уж там взял его?.. Верно, обронил накануне и не заметил, на лестнице-то почти весь день темно. Что ж, теперь у меня полный комплект ключей имеется для нового заместителя.
– Потерял на лестнице? Но зачем казначей бродил там? – спросил я, не понимая, как объяснил Слайхерст еще и эту ложь.
– Наверное, шел в хранилище. – Привратник со своим медлительным псом добрался до ворот, распахнул их и обернулся напоследок ко мне. – Удачи в диспуте, сэр, – пожелал он. – Пусть победит сильнейший.
– Благодарю вас, – откликнулся я.
Признаться, новость изрядно сбила меня с толку. Очевидно, Слайхерст забрал тот самый «пропавший» ключ и воспользовался им, чтобы войти в комнаты Мерсера. Если бы в комнату погибшего его послал ректор, не пришлось бы изобретать ложь для привратника.
– Сэр, нам бы поторопиться, вас ждут к пяти. – Уэстону явно было неловко давать мне указания.
Я кивнул. В самом деле, не стоит отвлекаться на замки и ключи, когда мне предстоит перед всем Оксфордом обсуждать законы мироздания.
– Да-да, извините. Поспешим, – сказал я.
– Говорят, вы были там сегодня утром, когда Гейб Норрис пристрелил пса. Вы все видели своими глазами, сэр?
Мальчишеское возбуждение прорвалось в голосе Уэстона. Мы свернули на Брейзноуз-Лейн, в узкий проход вдоль северной стороны колледжа. Под ногами было влажно и скользко, а уж воняло так, будто весь колледж приходит сюда мочиться. Стараясь не дышать, я шагал вслед за Уэстоном, а тот все оборачивался, чтобы заглянуть мне в лицо.
– Я был там. Но мы опоздали. Никогда себе этого не прощу. Молодой Норрис отлично стреляет, подоспей он минутой ранее, бедный доктор Мерсер мог бы остаться в живых.
Уэстон надулся.
– Таким, как Гейб Норрис, больше делать нечего, знай себе спортом занимаются. Ему наплевать, получит он диплом или не получит: для него университет – развлечение, болтается тут в шикарных лондонских нарядах. Не то что мы, бедняки, нам кроме церкви ничего не светит! – И он сердито рассмеялся.
– Я так понимаю, Гейб вам не очень по душе? – усмехнулся я.
Уэстон немного смягчился:
– Да нет, он парень неплохой. Но я против того, что в университет пускают коммонеров. Ученое сообщество должно быть сообществом равных, а из-за этих мы острее чувствуем, кто беднее, кто богаче, кто из какой семьи. И противно смотреть, как мало они занимаются. Гейб Норрис еще не самый худший, он щедр и вовсе не глуп, не то что некоторые. А вы знаете, что у него и лошадь своя есть? – Уэстон даже остановился. – Породистый жеребец, такого не каждый день увидишь. Он поставил его в конюшню за городом, потому что студентам не полагается держать лошадей. Но Гейб делает все, что вздумается, кто ему запретит?
– Похоже, он очень уверен в себе. Думаю, и с женщинами он тоже не промах, этот красавчик.
Уэстон покосился на меня, изогнул уголки губ в ироничной улыбке.
– Думаете? Ну, думайте-думайте, – проворчал он. Лукавая улыбка и эта интонация – трудно было не догадаться.
– Вон что, – присвистнул я. – Так мастер Норрис не женщинами интересуется?
– Я про него сплетничать не стану, сэр. Понятия не имею, как и чем он живет, но слухи бродят.
– Мало ли что наплетут от зависти, – возразил я, примеряясь к его шагу. – Что дало повод для сплетен, вы можете сказать?
Уэстон смущенно глядел себе под ноги.
– Ну, во-первых, он в бордели не ходит.
– Из этого не следует, что он содомит, – возразил я, хотя втайне готов был разделить это подозрение: очень уж Норрис был наряден и изыскан. К тому же мне припомнилось выражение его лица, когда я заговорил о святом Бернардине и содомитах. – Вы бы поосторожнее распускали сплетни, ведь в вашей стране содомитов вешают, насколько мне известно.
– Вы правы, сэр. Конечно же вы правы, – смутился Уэстон. – Но поневоле мы обращаем внимание. Когда красивая девушка строит парню глазки, а ему наплевать, кто поверит, что это настоящий парень, верно, сэр? – Щеки мальчика разгорелись, сразу было видно, что разговор задел его за живое. Поскольку в тесном мирке этих школяров имелась лишь одна девушка, я без труда вычислил, о ком он говорит.
– Так вы говорите о дочери ректора?
Ничего удивительного в этом не было: отчего бы единственной в колледже девице не заинтересоваться самым красивым и богатым студентом? И все же я почувствовал разочарование. Мне почему-то казалось, что девица такого ума, как София, не поведется на наружность и внешний блеск.
– Она доверилась вам?
– Что вы, нет, сэр! Я просто наболтал лишнего.
Юноша попытался переменить тему, но тут я сообразил, что мы добрались до конца Брейзноуз-Лейн, и по правую руку от нас началась стена внутреннего сада колледжа Линкольна. Утопленная в стене толстая деревянная дверь сейчас была заперта накрепко. Именно через эту дверь волкодава впустили в сад.
– Погодите, – остановил я своего провожатого и присел на корточки, изучая грязь у подножия калитки.
Какие-то следы на ней виднелись, но столько ног прошло с утра по влажной земле, что не осталось ни одного четкого отпечатка. Как же я не догадался сразу же пойти и поискать улики! Поднявшись, я на всякий случай повертел ручку двери, убедился, что она заперта, и шагнул уже прочь, как вдруг приметил что-то в траве под калиткой. Я вновь опустился на корточки и вытянул на свет тонкую полоску кожи, с одного конца разорванную и похожую на короткий собачий поводок. На всякий случай я засунул находку в карман, хотя не был уверен в том, что она пригодится.
– Сэр, мы опоздаем, – торопил меня Уэстон, хотя он с жадным любопытством следил за моими действиями. – Нам только до конца улицы осталось дойти, и мы на месте.
Улица вывела нас на широкую площадь; справа высилась церковь Святой Марии, а слева над стеной, ограждавшей сад колледжа Эксетера, возвышался шпиль школы богословия. Далеко впереди я различал городскую стену, зубчатые укрепления с бойницами.
Мы свернули за угол, и над нами навис громадный фасад школы богословия. Я снова остановился: должен же был я оглядеть это здание с его башенками над высокими сводчатыми окнами.
Обычно с такой помпой возводятся лишь церковные здания, но это светское строение подражало собору и было ничуть не менее помпезно, чем церковь Сан-Доменико Маджоре в Неаполе, где я начинал свое обучение. Смутишься, пожалуй, при мысли, что твои слова будут эхом разноситься под столь величественными сводами. Я собрался было поделиться этими соображениями со своим проводником, но тут неприятное покалывание в затылке дало мне знать, что кто-то за мной наблюдает.
Я обернулся: к почерневшим камням городской стены, сложив руки на груди, привалился какой-то человек, откровенно и нагло взиравший на меня. Одет он был в старую кожаную куртку и штаны из поношенной коричневой ткани, волосы спереди уже основательно поредели и свисали на затылок, оставляя обнаженным высокий лоб; лицо было в оспинах. Угадать его возраст не представлялось возможным – то ли мой ровесник, то ли перевалил уже за пятьдесят, – однако всего удивительнее и ужаснее в нем было отсутствие ушей. На их месте бугрились уродливые шрамы – признак того, что этот человек был наказан за уголовное, хотя и не заслуживающее петли преступление.
Безухий следил за мной, не отводя спокойного, наглого взгляда. Злобы в этом взгляде не было, скорее любопытство да легкая насмешка. Я даже не мог толком сообразить, следит ли он специально за мной или же это карманник, выжидающий удобного момента, чтобы вытащить у кого-нибудь кошелек в толпе, которая соберется на диспут.
Путешествуя по Европе, я не раз подмечал, что мелкие уголовники заведомо считают образованных людей богачами, хотя по своему опыту знал, что образование с богатством вовсе не дружит. Что ж, если этот человек действительно присматривается к чужим кошелькам, надо отдать должное его смелости: повторный арест означает для него смерть на виселице.
В другой ситуации я бы ответил таким же вызывающим взглядом, но сейчас времени терять было нельзя, а потому я повернулся спиной к безухому, а лицом к главному входу школы богословия и хотел было уже подняться по ступеням, однако Джеймс Ковердейл – доктор Джеймс Ковердейл, спешивший вниз по этим самым ступеням и расталкивающий толпу юнцов в черных мантиях, – преградил мне дорогу. Увидев меня, он остановился, и на лице его выразилось облегчение.
Краем глаза я заметил, что коричневая фигура у городской стены пошевелилась и сделала шаг вперед. Ковердейл тоже заметил это движение и уставился на безухого; тот вроде бы слегка кивнул. Эти двое явно узнали друг друга. Ковердейл как-то странно смотрел на того человека – и возмущение было на его лице, и глубокая озабоченность. Наконец, он нацепил на лицо улыбку – несомненно, ради меня – и, легонько подхватив меня под локоть, повел вправо от входа, подальше от любопытствующего взгляда безухого.
– Спасибо, Уэстон, что доставили нашего гостя в целости и сохранности. Можете присоединиться к своим друзьям, – любезно отпустил он моего юного проводника.
Уэстон поклонился мне и галопом понесся вниз по ступенькам, в толпу приятелей.
– Доктор Бруно, не могли бы мы приватно переговорить, прежде чем зайти в школу? – забубнил мне в ухо Ковердейл. – Не беспокойтесь, времени достаточно, высокий гость еще не прибыл, а без него мы начать не можем.
Я безучастно кивнул: никто и не надеялся, что пфальцграф прибудет вовремя ради моей персоны. Я изобразил на лице вежливое внимание; Ковердейл мучился, подбирая слова.
– Предстоит расследование обстоятельств смерти несчастного доктора Мерсера, и всех, кто первыми прибыли на место происшествия, попросят дать свидетельские показания, – выдавил он из себя наконец и крепче сжал мой локоть, то ли ободряя, то ли угрожая. – Насколько я понимаю, вы там оказались почти сразу же вместе с ректором и мастером Норрисом.
– Безусловно, и я с радостью отчитаюсь обо всем, что видел. Надеюсь, что мне удастся это сделать до того, как мои спутники соберутся возвращаться в Лондон, – сказал я, выжидая, что к этому добавит мой собеседник.
– Но только… ха-ха… – У Ковердейла вырвался короткий нервный смешок. – Ректор сказал, вы решили, будто садовая калитка, что выходит на Брейзноуз-Лейн, была заперта в тот момент, когда вы обнаружили бедного Роджера.
– Да, я проверил, она была заперта. И обе другие калитки тоже.
– Вот именно: когда я это услышал, сразу понял, что вы-то в колледже впервые, потому и не знаете, что у калитки, выходящей на улицу, ручку сильно заедает.
Я только бровь приподнял.
– Да-да, – продолжал Ковердейл, пряча глаза. – Очень трудно поворачивается, нужна привычка, вот эдак нажать ее, а потом сдвинуть вправо. Я потому говорю об этом, что если вы на дознании скажете, дескать, калитка была заперта, сами понимаете, из-за этого только лишние осложнения возникнут, а на самом деле все объясняется просто, да, очень просто и печально. Привратник забыл запереть дверь, в сад забрел одичавший пес, и бедный Роджер поплатился за чужую небрежность. Ужасно, ужасно. – Он прижал руку к груди и сморщил жирную физиономию: так, по-видимому, в его представлении выглядела маска скорби. – Но если поднимутся разговоры о запертых калитках, это даст основания подозревать какой-то умысел, заговор там, где его вовсе нет.
Я с трудом верил своим ушам. Вырвал у Ковердейла руку и повернулся так, чтобы смотреть ему прямо в лицо. Студенты, поднимаясь по лестнице, проходили чересчур близко от нас, и пришлось понизить голос до шепота.
– Доктор Ковердейл, калитка была заперта, у меня нет на этот счет ни малейших сомнений. Я сам проверял. Но даже если бы она была не заперта и пес вошел в нее, как мог он закрыть ее за собой?
– Ветер захлопнул, – отмахнулся от вопроса Ковердейл.
Неужели он думает, что я, ученый, могу вот так запросто пренебречь свидетельством собственных глаз?
– Ветер наглухо захлопнул тяжелую деревянную калитку? Я был там, доктор Ковердейл, мы с ректором перебрали все возможности, – запротестовал я.
– Утром ректор был в растерянности, а потом он спокойно поразмыслил обо всех этих событиях, – не сбиваясь, продолжал Ковердейл, – и пришел к выводу, что в той панике трудно было что-либо увидеть и распознать наверняка, тем более что висел туман. Он и припомнил, какая у той калитки тугая ручка, и понял, что это обстоятельство могло сбить с толку иноземца. Коронер, который будет проводить расследование, конечно же примет во внимание, что вы еще толком не знаете нашего колледжа. Я только потому заговорил об этом, что, если вы будете настаивать, будто в этом деле есть некая тайна, это лишь усложнит и затянет расследование, столь мучительное и горестное для всех близких доктора Мерсера. Стоит ли добавлять к трагедии нелепые подозрения и слухи?
Я смотрел на него, не веря своим ушам. Значит, обстоятельства смерти Роджера будут переиначены так, чтобы ни малейшая тень не упала на колледж, и в результате убийца останется безнаказанным. Покрывают ли они таким образом преступника, который им известен, или для них главное – честь корпорации? Соблюдет ли ректор свое обещание провести частное расследование? Весьма сомнительно: ведь он больше всех профессоров беспокоился о престиже колледжа.
– Полагаю, я должен буду сообщить на следствии то, что я видел, или, как мне кажется, видел, – заговорил я. – Если я заблуждаюсь, то окажусь в дураках, но готов рискнуть, ибо утрачу сон, если солгу или утаю нечто важное от следствия.
Ковердейл прищурился, но, казалось, согласился с моими словами.
– Прекрасно, доктор Бруно, каждый должен поступать по совести. Зайдем? – Он указал жестом на крыльцо школы богословия; там толпа уже поредела, большая часть слушателей прошла в зал. – Да, кстати, еще одно странное обстоятельство, – как бы мимоходом добавил он через плечо. – Мастер Слайхерст сообщил мне, что сегодня утром, по пути в хранилище, он услышал доносившийся из комнат доктора Мерсера шум, и, заглянув, кого бы, вы думаете, он застал роющимся в имуществе Мерсера? Нашего почтенного итальянского гостя. Тот пытался открыть сундук с деньгами Мерсера, вот так-то! А привратник сказал, что вы принесли ему связку ключей, которую сняли с покойного.
Дурак я, дурак, подумал я. Пошел к себе в комнату, рухнул на постель и проспал все на свете. Так и не отнес одежду ректору, и нет теперь у меня даже того неуклюжего оправдания, будто я приходил за одеждой. А Слайхерст спас собственную шкуру, бросив подозрение на меня. Выходит, я просто воришка, граблю мертвецов. О той немаловажной детали, что у него самого имелись ключи от комнаты Мерсера, Слайхерст благоразумно умолчал.
– Я могу объяснить… – начал я, но Ковердейл выставил руку ладонью вперед, прервав мою речь.
– Не сомневаюсь, доктор Бруно, не сомневаюсь ни на миг. Но любой магистрат сочтет подобное поведение странным, даже подозрительным, а горожане и без того чужеземцев недолюбливают, вы же знаете, особенно из римлян. – Последние слова он произнес почти извиняющимся голосом. – Так что слепой предрассудок может оказать влияние на их выводы, и, если расследование будет усложнено сверх необходимости, выйдут на свет никому не нужные подробности.
Мы стояли уже у самого входа; я заглянул внутрь и убедился, что зал полон, студенты толпятся, рассаживаются даже на подоконниках. Ковердейл приветливо улыбался. Я посмотрел на него и кивнул.
– Я вас понял, доктор Ковердейл, и непременно подумаю об этом.
– Умница, – радостно похвалил он меня. – Ну конечно же вы сами поймете, насколько это разумно. Войдем?
Я все еще медлил на пороге. Оглянувшись через плечо, я убедился, что безухий все так же стоит, прислонившись к городской стене, и смотрит в нашу сторону. Я тронул Ковердейла за локоть.
– Кто этот человек? – спросил я, кивком указав на него.
Ковердейл взглянул, поморгал и покачал головой.
– Да никто, – резковато ответил он и придержал дверь, пропуская меня.
Готовясь к выступлению, я старался выкинуть из головы этот разговор. Глубочайшую тишину прерывали, как обычно, лишь редкое поскрипывание половиц да шуршание мантий. Я откашлялся и, подавшись вперед, заговорил:
– Я, Джордано Бруно Ноланский, доктор высшего богословия, профессор чистейшей и невиннейшей мудрости, известный лучшим академиям Европы, аттестованный и почитаемый философ, неизвестный лишь варварам и простолюдинам, пробуждающий дремлющий дух, укрощающий предрассудки и закоренелое невежество, проповедующий своими словами и делами любовь ко всему человечеству, не оказывающий предпочтения ни британцу, ни итальянцу, ни мужскому, ни женскому полу, ни епископу, ни королю, ни мантии, ни доспехам, ни мирянину, ни монаху. Предпочтение я отдаю лишь тем, чья беседа окажется наиболее мирной и кроткой, наиболее разумной и просвещенной, кто не творит себе кумиров и не поклоняется мертвым догмам посредством помазания головы, омовения рук, начертания знаков на лбу или обрезания детородного члена, но кто почитает лишь дух и свободный ум, тем, кого ненавидят апологеты глупости и лицемерия, но любят разумные, – я, Джордано Бруно Ноланский, таков, каков я есть, приветствую выдающегося и прославленного вице-канцлера великого Оксфордского университета!
Я низко поклонился в сторону сцены, где восседал вице-канцлер, и выпрямился, ожидая шквала аплодисментов, которых подобное вступление удостоилось бы в любой европейской академии. Признаться, я изрядно растерялся, когда вместо аплодисментов услышал нечто, куда более похожее на смех.
Краем глаза я видел Сидни, тот гримасничал и кривлялся: мол, наговорил с три короба, а все впустую. Как это понимать? В Париже никто бы не удостоил своим вниманием диспут, на котором ораторы не изощрялись бы в риторике и не украшали бы свою речь стилистическими фигурами, сколь бы абсурдны они ни были. Но оказалось, что англичане, по-видимому, предпочитают совсем иное – простоту и скромность. Смеялись уже без малейшего стеснения, смеялись почтенные члены колледжа, а студенты брали с них пример, кривляясь и передразнивая мой акцент – занятие, достойное школяров! Напротив меня развалился доктор Андерхилл, свободно облокотившись на кафедру. Судя по его улыбке, он уже считал себя победителем. Пфальцграф громко и откровенно зевал.
– Категорически отвергаю! – крикнул я, с размаху ударив кулаком по кафедре, а затем выразительно поднял руку, смех умолк, похоже, все слегка растерялись. – Я категорически отвергаю мнение, будто звезды неподвижно закреплены на небесном своде! Звезды небесные той же природы, что и наше Солнце, и не могут отличаться от него, а область хвоста Медведицы не более заслуживает наименования Восьмой Сферы, чем Земля, на которой мы обитаем. Обладающие разумом должны признать, что видимое глазом движение Вселенной происходит от вращения Земли, ибо куда меньше оснований предполагать, будто Солнце и весь бесконечный космос с его бесчисленными звездами вращается вокруг этого крохотного комочка, именуемого Землей. Напротив, разум требует согласиться с тем, что это Земля движется в космосе. И впредь наш разум не должен находиться в плену представлений об этих восьми или девяти сферах, ибо существует одно лишь небо, глубокое и бесконечное, с неисчерпаемым количеством миров, подобных нашему, и все они движутся по собственным своим орбитам, как вращается по своей орбите Земля.
Я сделал паузу, чтобы набрать в грудь воздуха. Такое начало оказалось, похоже, куда более удачным, нежели моя вступительная речь. Андерхилл воспользовался моментом, чтобы меня перебить:
– Вы это утверждаете, сэр? – Довольная ухмылка не покидала его губ. – А мне кажется, дело не в том, что Солнце стоит, а Земля вращается. Кружится ваша голова, и не могут остановиться ваши мозги!
Он обернулся к соотечественникам, рассчитывая на их похвалу, и не был разочарован: громкий хохот приветствовал его тупую остроту и заглушил мой ответ.
С сожалением должен признать, что диспут не имел успеха и не стоит досаждать читателю более подробным его изложением. Все шло все в том же духе: доктор Андерхилл не мог предложить ничего, кроме старых, изношенных Аристотелевых догм и не искал иных доказательств, кроме ссылок на авторитет схоластов, поместивших неподвижную Землю в центр Вселенной. Ректор также заявил, что Коперникова теория есть не истинное описание устройства Вселенной, а лишь условная схема для вычислений. Все эти аргументы мне уже много раз случалось и выслушивать и опровергать в куда более ученых сообществах, нежели это собрание, однако в оксфордской школе богословия у меня не было ни малейшего шанса убедить публику, ибо Андерхилл не стремился изложить слушателям свою позицию, поскольку все присутствовавшие более или менее разделяли его взгляды и не желали выслушать мои хотя бы из простой любезности. Он просто старался высмеять меня, сделать из меня шута перед коллегами.
Так вот как эти люди понимают ученые диспуты, думал я. Кроме того, эта публика была настолько невоспитанна, что ее болтовня, выкрики и замечания временами вообще заглушали нас.
Во время моей горячей речи, в которой я приводил сложные математические выкладки, меня прервал сначала негромкий, но постепенно нарастающий рык. Естественно, после утренних событий подобные звуки пугали: я вздрогнул и взглянул, откуда исходил рык: голова пфальцграфа упала на грудь, и оказалось, что это просто его вельможный храп. Я сбился, а еще через минуту меня отвлек шум в задних рядах: какой-то студент энергично пробирался вперед, расталкивая публику, ему срочно понадобился доктор Ковердейл. Доктор Ковердейл, сидевший в переднем ряду, встал и двинулся к выходу, громким шепотом извиняясь перед каждым из коллег, кто вынужден был встать, чтобы пропустить его. Я не рассчитывал на любезность Ковердейла по отношению ко мне, однако было довольно странно, что он не выказывает уважения своему ректору и покидает зал в разгар дебатов.
В общем, худо-бедно мы подошли к заключительной части, которая очень мало походила на итог научной дискуссии: я привел собственные сложные вычисления диаметров Луны, Земли и Солнца и их взаимных пропорций в таких терминах, что понял бы даже идиот; Андерхилл же в ответ попросту повторил те замшелые глупости, которые разделяют все те, кто путает науку с богословием и считает Святое Писание вершиной ученой мысли. Ректор также позволил себе многократно упомянуть о том, что я иностранец, как будто иностранец заведомо глупее англичанина. Много раз попрекнул он и Коперника за то, что тому не повезло быть уроженцем Благословенного Острова: где уж ему состязаться с крепким умом британца. Крепкий умом ректор совсем упустил из виду то обстоятельство, что диспут был затеян, чтобы почтить соотечественника того самого Коперника.
Я был рад, когда все это закончилось, склонился в низком поклоне перед лицемерными аплодисментами и сошел с кафедры, униженный и оскорбленный.
Зал стремительно пустел, никто из публики не хотел не то что беседовать со мной – встретиться взглядом. Я опустился на стул под окном и сидел в одиночестве, дожидаясь, пока все они разойдутся, чтобы избежать насмешек или, хуже того, сочувствия, но Сидни, энергично проталкиваясь сквозь толпу, уже спешил ко мне со своего почетного места. Он остановился передо мной и сокрушенно покачал головой.
– Сегодня мне стыдно за родной университет, Бруно! – воскликнул он, и два красных пятнышка действительно проступили у него на щеках. – Андерхилл – подлый хорек, он крутил и юлил и даже не пытался опровергнуть твои аргументы. Стыд и позор! Не ученый спор, а наглость и самомнение. – Он вновь покачал головой, крепко сжимая губы с таким видом, как будто стыдился самого себя. – Самая скверная черта нашей нации – высокомерие: всех-то мы лучше, всех умнее!
– Мне не повезло, что я хорошо знаю тебя и Уолсингема. – Я потряс головой, словно просыпаясь от дурного сна. – Я-то думал, все англичане мыслят столь же свободно, но как же я заблуждался!
– Кое в чем ты сам виноват, Бруно, – меланхолически заметил Сидни. – Что это было за вступление?
– В Париже оно принесло мне славу.
– То в Париже. У нас это не принято. У нас не жалуют тех, кто сами себя чересчур расхваливают. Думаю, тут-то ты и упустил аудиторию. Да в следующий раз и насчет обрезания помалкивай.
– Учту, – угрюмо отвечал я, – если будет следующий раз.
– Не слишком-то веселый получился визит в Оксфорд, старина, а? – Сидни с маху дружески хлопнул меня по плечу. – Сначала общество этого польского осла, потом человека загрызли насмерть у тебя под окном, а теперь над тобой смеются придурки. Мне и правда жаль, что так вышло, но пора нам сосредоточиться на главной задаче, – добавил он, понизив голос. – Вечером мы приглашены на обед в колледж Церкви Христовой. Опустошим их винные погреба, забудем хоть на время все печали и весело проведем вечерок. Согласен?
Я посмотрел ему в глаза. Конечно, я был благодарен за добрые слова и за желание меня развеселить. Но вот только шумная компания меня в этот вечер совсем не привлекала.
– Спасибо, Филип, но, боюсь, сегодня я плохой собутыльник. Позволь мне уйти и в тихом уголке зализать свои раны. Завтра я буду готов к любым приключениям, обещаю.
Сидни был явно разочарован, однако согласно кивнул:
– Ловлю на слове. Вообще-то пфальцграф рвется поохотиться, может быть, даже с соколами в лесу Шотовер, как только дождь утихнет, а я обязан удовлетворять его капризы. Но я не вынесу, если ты не поедешь с нами.
– Взял бы с собой своего нового дружка, Габриеля Норриса.
– Я приглашал его, но у него на завтра другие планы, – простодушно ответил Сидни, издевки в моем голосе он не заметил. – Впрочем, я об этом не жалею – этот петушок и так меня здорово обчистил. В случае чего напомни мне: я зарекся играть с ним в карты.
– Ладно, если высплюсь, непременно присоединюсь к вам, – пообещал я.
Норрис сказал, что волкодав мог забрести в колледж из Шотовера. Я не любитель охоты, но стоило съездить в лес и осмотреться на месте. Сидни пожал мне руку, снова от души дружески треснул меня, на этот раз по спине – ох уж и способ у этих англичан выражать дружеские чувства, – и ушел, предоставив мне пройти недлинный путь к колледжу Линкольна в одиночестве.








