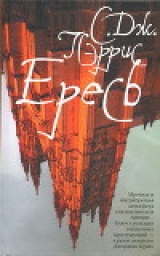
Текст книги "Ересь"
Автор книги: С. Пэррис
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Его пытали? – в ужасе спросил я.
Ректор с таким же ужасом уставился на меня:
– Вы считаете нас варварами, доктор Бруно? Я говорю о самом обычном допросе, хотя, конечно, жестком и тяжелом для юноши. Признаю, ему задавали такие богословские вопросы, на которые иной профессор затруднился бы ответить, и каждое слово в его ответах перетолковывали так и эдак. Что поделать, преступление и изгнание его отца стали делом публичным, государственным, так что мы в колледже обязаны были проявить сугубую бдительность по отношению к сыну. Недоставало только, чтобы нас обвинили в потворстве папистам.
– Насколько я понимаю, раз Томас по-прежнему тут, значит, испытание он прошел?
– В итоге было принято решение позволить ему остаться, однако за собственный счет. Стипендии его лишили.
– Он имеет какие-то средства?
Ректор вновь покачал головой.
– После того как Эдмунд уплатил штраф за отступничество от веры, у него почти ничего не осталось. Юный Томас поступил как большинство бедных студентов: он расплачивается за жилье и питание, прислуживая одному из коммонеров – так у нас называются сыновья богатых людей, аристократов, которые не получают стипендии и платят за учебу. – Презрительная складка губ выразила отношение ректора к «коммонерам».
– Значит, в прошлом году Томас был стипендиатом и сыном заместителя ректора, а в нынешнем перебивается объедками, которые уделит ему хозяин – вчерашний однокашник? Тяжкая перемена, в особенности для столь юного существа! – в негодовании воскликнул я.
– Таковы законы мира сего, – напыщенно произнес ректор. – Но это печально, мальчик-то умный и прежде отличался веселым нравом. Он бы преуспел в жизни, а теперь – вы сами видели. Он то и дело строчит прошения графу Лестеру, умоляет помиловать отца, – я нахожу эти бумаги под дверью своего кабинета и под дверью моей квартиры. Я сказал мальчику, что уже хлопотал перед графом, но его настойчивость только возрастает. Это уже, пожалуй, одержимость, и я опасаюсь, как бы он вовсе не лишился рассудка. И не считайте меня бессердечным человеком, доктор Бруно: я искренне сожалею о его участи. Было время, я думал даже, что он станет подходящим женихом для моей дочери. Отец предназначал ему юридическую карьеру, и казалось, что мальчика ждет блестящее будущее. Мы дружили семьями, и Томас был явно увлечен Софией.
Каково, подумал я, растить дочь посреди этого сборища юнцов, не дававших монашеского обета? Не оттого ли у ректора слегка загнанный вид?
– Ваша дочь отвечала ему взаимностью?
Нос ректора сморщился.
– Ох, стоит зайти речи о браке, с ней не сладишь. Все девушки теперь грезят любовью. Напрасно я позволил ей читать стихи.
– Значит, София – образованная девушка?
Ректор рассеянно кивнул, мысли его где-то блуждали.
– Разница в возрасте между моими детьми была почти незаметной, чуть больше года, и мне казалось несправедливым, чтобы мальчик учился, а девочка только вышивала. К тому же моему Джону трудно было учиться, не так уж он любил книги. И я подумал, что ему полезно будет соревноваться с сестрой, чей разум острее. Ведь мальчик не может допустить, чтобы девочка превзошла его. В этом-то я был прав, но что в итоге? Теперь моя дочь вряд ли выйдет замуж, ей ничего не хочется, только бы просиживать дни напролет в библиотеке, беседуя со студентами, причем она дерзко высказывает собственные мнения, что уж вовсе неуместно для юной леди. Какой джентльмен выберет себе такую жену? Все было напрасно, все напрасно.
И ректор, отвернувшись, испустил тяжкий вздох. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль.
– Почему же напрасно? Ваш сын так и не преуспел в науках?
Лицо моего собеседника передернулось, точно я причинил ему боль, и он с видимым усилием ответил:
– Бедный мой Джон погиб четыре года тому назад, упокой Господь его душу. Разбился, упав с лошади. Нынешним летом ему исполнился бы двадцать один год. Томас Аллен его ровесник.
– Скорблю о вашей потере.
– А что касается Софии, – уже бодрее продолжал он, – да, она была привязана к Томасу и ценила его как друга, но теперь им не следует общаться, принимая во внимание репутацию его семьи. Да и сможет ли он пробить себе дорогу в жизни?
– Еще один удар, вслед за столькими бедами! Несчастный мальчуган.
– Да, жаль, – без особого сочувствия откликнулся ректор. – Однако пойдемте, что ж мы стоим тут, сплетничая как горожанки. Слуга проводит вас в ваши комнаты; полагаю, в камине уже пылает славный огонь, который высушит вашу одежду. Иисусе, какой холодный ветер, будто на дворе ноябрь, а не май! Жду вас к ужину.
Он пожал мне руку, и я последовал за слугой, который должен был проводить меня по сумрачной деревянной лестнице в отведенные мне комнаты.
– Доктор Бруно! – окликнул меня ректор. Я успел подняться на несколько ступенек, и мне пришлось оглянуться, чтобы разглядеть встревоженное лицо Андерхилла. – Прошу вас не упоминать за ужином ни о встрече с Томасом Алленом, ни о том, что я рассказал вам про бедного Джона. Это чересчур взволнует мою жену и дочь.
– Вы можете быть совершенно спокойны на этот счет, – заверил я его.
Мне уже не терпелось познакомиться с его дочерью, столь образованной и твердой, по отзыву отца. Общение с умной молодой женщиной, пожалуй, скрасит ужин у ректора, до того представлявшийся мне довольно скучным.
Глава 3
К обеду я переоделся в чистую рубашку и простой черный камзол, натянул панталоны и остановился на миг, глядя на свое отражение в мутноватом зеркале. Волосы и борода чересчур отросли, что правда, то правда, а под дождем совсем растрепались. Еще будучи при французском дворе, я решил, что состязаться с модниками в нарядах и прическах не стану: жалко времени, да и тщеславия недостает. Однако теперь я подумал о том, что и в тридцать пять лет выгляжу еще совсем неплохо. В зеркале я увидел большие темные глаза; правда, после нашего дорожного приключения на щеке у меня осталась ссадина, но, пожалуй, девушку, живущую в колледже, точно в монастыре, боевое ранение скорее привлечет, а не оттолкнет.
Я привык нравиться женщинам, несмотря на то что не годился в женихи: ни богатства, ни титула и довольно-таки двусмысленная репутация. Возможностями, представившимися мне в Париже, я попользовался на славу, но не встречал после Морганы женщины настолько умной и живой, чтобы она смогла затронуть мое сердце. Однако дочка ректора и впрямь заинтересовала меня, и, должен признаться, ко встрече с ней я готовился, хотя и понимал, что не могу позволить себе подобных развлечений в Оксфорде: слишком мало у меня времени и слишком многое надо сделать.
Я подмигнул своему отражению, провел руками по волосам и слегка покачал головой – мол, дурак ты, дурак – и в прекраснейшем настроении отправился вниз по лестнице к арке восточного крыла, откуда, как мне объяснили, я мог пройти к ректору.
Я вышел в огороженный сад позади здания колледжа. Сад не был изуродован излишним рвением садовников; свободно росли плодовые деревья, у корней их поднималась густая трава, в которой пестрели яркие полевые цветы, а у тропинки вдоль стены были расставлены деревянные скамейки. Будь погода получше, студенты да и профессора с удовольствием посидели бы за работой в этом саду, подумал я. Сейчас сад был пуст, и дождь барабанил по листьям.
Я вернулся под арку, нашел дверь с табличкой, на которой было написано имя ректора, оправил на себе одежду и приготовился вкусить оксфордского гостеприимства.
Из-за двери слышались громкие мужские голоса. Казалось, о чем-то спорили. Старый, измученный с виду слуга открыл дверь и сразу провел меня в красивую комнату с высоким потолком. В противоположной стене был ряд сводчатых окон, две другие были отделаны панелями темного дерева, увешаны гобеленами и портретами. Теперь мне стала ясна причина спора: за дальним концом длинного, уставленного свечами стола сидела девушка лет девятнадцати в простом сизо-сером платье с прямым расшитым лифом; длинные темные волосы она распустила по плечам и спине. Как и все за столом, она прервала беседу, обернулась ко мне, когда я приблизился, и оглядела меня с ног до головы с любопытством и чуть ли не с насмешкой. Это была София Андерхилл. Теперь я понял, отчего ее отец так рвется поскорее выдать ее замуж: это личико с сияющими светло-карими глазами, должно быть, отвлекало от пыльных книжек всех студентов, сколько их было в колледже. Ректор, сидевший во главе стола, с важностью поднялся мне навстречу и протянул руку для традиционного рукопожатия.
– Добро пожаловать, доктор Бруно, добро пожаловать за мой стол. Садитесь, прошу вас. Я хотел бы представить вас старшим членам колледжа и моей семье.
Он указал мне место слева от себя, точно напротив его дочери, что я с удовольствием и отметил. Вежливо поклонившись девушке, я оглядел других гостей. Всего здесь собралось десять человек; и все, кроме девушки и женщины средних лет с усталым лицом, которая сидела рядом с девушкой, были облачены в университетские мантии.
– Разрешите представить вам мою супругу, мистрис Маргарет Андерхилл, – произнес ректор, указывая на усталую женщину.
– Piacere di conoscerla, [7]7
Рад знакомству (ит.).
[Закрыть]– склонил я перед нею голову, и женщина слегка улыбнулась. Вопреки заверениям мужа, ее, кажется, вовсе не радовала перспектива принимать и развлекать гостей.
– А вот моя дочь София, – с невольной гордостью продолжал ректор. – Как видите, я дал ей греческое имя, означающее «Премудрость».
– Так что ее поклонники вправе называться «философами», – улыбнулся я. – «Любящими Софию».
Мать девушки слегка нахмурилась, мужчины постарались сдержать смех, но София ответила мне улыбкой и, слегка покраснев, опустила глаза. Ректор из вежливости также слегка растянул губы в улыбке.
– Меня предупреждали, что ваши соотечественники изощрены в любезностях, – проворчал он.
– В особенности монахи, – фыркнул пожилой человек, сидевший по правую руку от Софии, и гости рассмеялись громче прежнего.
– Бывшие монахи, – подчеркнул я, глядя красавице прямо в глаза. На этот раз она не отвела взгляд и вдруг так напомнила мне Моргану, что я чуть не задохнулся от наплыва чувств.
– Протестую от имени моих земляков, – вмешался темноволосый юноша, мой сосед слева. Внешне он и впрямь смахивал на итальянца, хотя по-английски говорил без акцента. – Или, вернее, от имени земляков моего отца, – уточнил он. – Не понимаю, отчего мы стяжали среди англичан репутацию соблазнителей. Увы, я подобного таланта лишен! – Он вскинул руки, как бы признавая поражение, и вся компания расхохоталась.
Похоже, молодой человек лишь прикидывался скромником: он был красив, изысканно одет, борода и усы тщательно подстрижены. Обернувшись ко мне, он дружески протянул руку:
– Джон Флорио, сын Микеланджело Флорио из Тосканы. Рад знакомству, доктор Бруно из Нолы. Ваша слава бежит впереди вас.
– Которая из них? – спросил я, вновь вызвав общий смех.
– Мастер Флорио – достопочтенный ученый, знаток языков, каким был и его отец, – вмешался ректор. – Он составляет книгу пословиц разных народов. Не сомневаюсь, он и сегодня потешит нас очередными находками.
– Чем женщина набожней, тем ей обожанье дороже, – не замедлил порадовать нас Флорио.
– Это правда, – подтвердила София, притворяясь смущенной; Флорио так и засиял.
– Благодарю вас. – Ректору все труднее было удерживать на лице улыбку. – Доктор Бруно, я подумал, что вам, возможно, будет затруднительно вести беседу на английском языке, и потому посадил рядом с вами земляка-итальянца.
– Весьма любезно с вашей стороны, – поблагодарил я. – Я годами учился английскому языку у путешественников и ученых собратьев, но практики у меня маловато.
– Мой отец, как и вы, бежал из Италии, спасаясь от инквизиции, он был приверженцем Реформы, – заговорил Флорио, наклоняясь ко мне. – Он приехал в Лондон, получил место в доме лорда Берли, а затем преподавал итальянский язык леди Джейн Грей и принцессе Елизавете.
– Значит, он не страдал в изгнании, – подытожил я.
– Всякое изгнание – страдание! – вспыхнул вдруг пожилой человек рядом с Софией. – Можно лишь удивляться жестокости человека, подвергшего этому своего коллегу, не правда ли, Роджер? – И он подался вперед, впившись взглядом в человека, сидевшего по другую руку от девушки; это был крупный мужчина лет пятидесяти, широколицый, с густой, едва начавшей седеть бородой и здоровым деревенским румянцем. Он отвернулся в смущении. – А тем более на своего друга, – безжалостно закончил обвинитель, после чего повисло неловкое молчание.
– Моему отцу и впрямь повезло с покровителями, – торопливо продолжал Флорио, заполняя неловкую паузу, – хотя нас вторично изгнали – уже из Англии, – когда я был ребенком, а к власти пришла Мария Кровавая.
– Упокой, Господи, ее душу, – благочестиво пробормотал все тот же пожилой человек.
На этот раз ректор не выдержал:
– Прошу вас, доктор Бернард!
– О чем вы меня просите, ректор? – Доктор Бернард жестом указал на меня, длинные белые волосы разметались вокруг его лица, будто птичье оперенье. – Я должен соблюдать осторожность в присутствии монаха-расстриги, как бы он не донес на меня графу Лестеру? – Старик уставился на меня. Многих зубов у него недоставало, ему, должно быть, уже перевалило за семьдесят, глаза его слезились, но смотрели зорко. Резкие черты лица с глубоко запавшими щеками рельефно проступали в пламени свечей – наверное, дети его боятся. – Меня сделала профессором сама королева Мария тридцать лет тому назад, когда поборников новой веры изгнали из университета, и я остаюсь на этой должности при всех переворотах, хотя друзья мои давно мертвы или отправлены в отставку, и сам я отрекся от старой веры. – Он рассмеялся, как мне показалось, над самим собой, но тут же снова стал серьезен и, ткнув в меня пальцем, спросил: – А вы разве не католик, доктор Бруно?
– Я итальянец, – спокойно ответил я, – а значит, воспитан в лоне Римско-католической церкви.
– Боюсь, здесь никто не будет молиться с вами на латыни. В Оксфорде уже не осталось католиков, ни одного не осталось. Никто здесь не хранит старую веру. – Он покачал головой, и голос его преисполнился печального сарказма. – Все мы подписали присягу, чтобы спасти свою шкуру, перешли в англиканскую веру, как нам было приказано, ибо все мы – верные подданные, не правда ли, джентльмены?
Все что-то забормотали, соглашаясь с последним утверждением, а ректор совсем разволновался:
– Уильям, Уильям, прекрати!
– Во всяком случае, такими мы кажемся. Но ни один человек в Оксфорде не есть то, чем он кажется, имейте это в виду, доктор Бруно. Да и сами вы, думается мне, прикидываетесь не тем, кто вы на самом деле.
Я поднял глаза и встретился взглядом с доктором Уильямом Бернардом. Тревога кольнула мое сердце: этот своенравный и сварливый старец, похоже, был чересчур проницательным. В мои мысли он проник, кажется, уже слишком глубоко. Я склонил голову и мысленно взмолился о том, чтобы его пронзительный взгляд оторвался от меня. К счастью, желанный перерыв в разговоре тут же и настал благодаря появлению слуг, которые внесли вареных каплунов с черносливом, заливную телятину и добрый кларет.
Пока слуги суетились вокруг стола, наполняя наши тарелки, я подался вперед, чтобы вовлечь в разговор Софию Андерхилл, но в этот момент со мной заговорил сидевший напротив меня бородач.
– Роджер Мерсер, – представился он мне густым баритоном. Акцент, как мне показалось, указывал на то, что он происходит из Западной Англии. Он протянул мне руку через стол. – Мы все рады свести знакомство с вами и с нетерпением ждем завтрашнего поединка между вами и ректором.
– Полно, полно, Роджер, – вновь засуетился бедняга ректор. – За столом мы ни словом не должны упоминать завтрашний диспут. И я, и мой уважаемый гость приберегаем аргументы для дебатов, ведь так, доктор Бруно? Будем, как говорится, держать порох сухим.
Я кивнул в знак согласия, но Роджер Мерсер протестующе вскинул руку.
– Не беспокойтесь насчет диспута, ректор, я другое хотел сказать: я мечтал о встрече с доктором Бруно с тех самых пор, как прочел опубликованный в Париже труд «О тенях идей».
– Кажется, колдун Чекко д'Асколи, которого сожгли как некроманта, упоминал эту книгу – сочинение о черной магии, приписываемое им Соломону? – Доктор Бернард наклонился вперед, загородив от меня Софию.
Она отодвинулась, чтобы не мешать нашей беседе, а сама продолжала разговор с явно очарованным ею Флорио. Я вынужден был против собственного желания отвечать Бернарду.
– Книга, упомянутая Чекко, так и не была найдена, – ответил я, повысив голос, чтобы старику было слышно каждое слово. – Название у нее хорошее, вот я и позаимствовал его, но мой трактат посвящен мнемотехнике, искусству памяти, которое разрабатывали еще древние греки. К некромантии это не имеет ни малейшего отношения, господа! – Я заставил себя рассмеяться.
Роджер Мерсер не отводил от меня пристального взгляда.
– Тем не менее, доктор Бруно, ваша мнемотехническая система применяет образы, в точности совпадающие с символами и талисманами, которые описывает Агриппа в трактате De Occulta Philosophia, [8]8
О тайной философии (лат.).
[Закрыть]а он утверждает, что эти образы используются в ритуалах небесной магии, дабы призывать на помощь силы ангелов и демонов.
– Эти образы соответствуют знакам зодиака и фазам луны, как и в большинстве мнемонических систем, – возразил я, стараясь скрыть замешательство. – Образы эти часто встречаются, поскольку основаны на правильных числовых соответствиях, что и способствует запоминанию. Но в конечном счете это всего лишь образы.
– Для чернокнижника не существует «просто образов», – парировал Бернард. – Все образы, о чем и говорит название вашего трактата, указывают на скрытую реальность. В особенности образы, восходящие к древнеегипетской астрологии, о чем Агриппа был как нельзя лучше осведомлен, ибо он учился у самого Гермеса Трисмегиста, осужденного святым Августином заклинателя демонов.
На последнем слове старик возвысил голос. Я собирался с духом, чтобы ответить, но прежде, чем я успел заговорить, София Андерхилл вновь придвинула свой стул к столу, взглянула на меня в упор и спросила, на полуслове перебив излияния Флорио:
– Кто такой Гермес Трисмегист?
За столом все смолкли; взгляды обратились на меня.
– Мне попадались краткие упоминания о нем в философских трудах, – продолжала девушка с невинным видом, – но в нашей библиотеке нет ни одного его труда, а в другие библиотеки университета мне доступ закрыт.
– Разумеется, закрыт, ты ведь не числишься в списках студентов, – одернул ее отец и оглядел гостей, словно извиняясь за дерзость дочери. – Я позволил тебе пользоваться библиотекой колледжа для усовершенствования твоих знаний, но будь добра ограничить чтение теми книгами, что приличествуют женщине.
Это он явно говорил на публику; София хотела было возразить, но все-таки проглотила резкий ответ, только надула губы.
– Теперь в Оксфорде не сыскать и строчки Гермеса Трижды Величайшего, – зычным голосом ответствовал Бернард и покачал головой. – Прежде у нас были его труды. До того как в шестьдесят девятом году началась чистка библиотек, у нас хранился его трактат, переведенный с греческого флорентийцем Фичино сто лет тому назад согласно последней воле Козимо Медичи. Вам известен этот перевод Фичино, доктор Бруно?
– Я читал перевод Фичино, – подтвердил я, – но читал также и греческий оригинал, хотя он не полон. В моей рукописи отсутствовала пятнадцатая книга. Вы знаете греческий, доктор Бернард?
Светлый непримиримый взгляд уставился на меня.
– Да, молодой человек, я читаю по-гречески, мы тут, к северу от Тибра, отнюдь не варвары. Но отсутствующая книга – миф, ее никогда не существовало, – поспешно добавил он и продолжал уже спокойнее: – Я тоже читал Фичино в годы моей юности, и Агриппу читал. Тогда не боялись древностей, а сейчас множество книг уничтожено Реформой. Столетиями накапливаемые знания обратились в прах. – Он умолк, погрузившись в печальные раздумья.
– Доктор Бернард! – сердито окликнул его ректор. – Вам прекрасно известно, что королевская комиссия шестьдесят девятого года уничтожала еретические книги из бывших монастырских библиотек, дабы они не отравили умы и сердца нашей молодежи своими кощунственными учениями. С этой опасностью мы, профессора и старшие члены колледжа, обязаны бороться постоянно. Полагаю, вы ничего не имеете возразить против этого.
Бернард хрипло расхохотался.
– Ученым запрещают знакомиться с опасными книгами? Как же тогда мы будем оттачивать свои знания? Как научимся различать истину и ересь? И неужели те, кто предписывает и запрещает, не догадываются, что изъятые и скрываемые книги манят мужчину сильнее, чем любая распутница? – Он искоса метнул взгляд на Софию. – О, запретная книга всегда найдет способ вновь явиться на свет, пробьется сквозь все преграды! Или вы этого не ведаете, ректор? Знать бы лишь, где искать! – Он снова усмехнулся, как будто в его словах таился некий намек: коллеги, как я заметил, смущенно заерзали.
– А как поступили с книгами, которые изъяли из библиотек? – Боюсь, я выдал свой интерес: Бернард неожиданно прищурился, взгляд его враждебно сверкнул, и старик выпрямился, словно перед боем.
– Давно это было, – угрюмо отвечал он. – То ли сожгли, то ли власти куда-то увезли их, почем знать? Я уже стар и позабыл те времена.
Однако глаза его блестели, он старался не встречаться со мной взглядом, и я понимал, что старик лжет: человек, только что с такой страстью защищавший книги, запомнил бы аутодафе, даже если бы это произошло несколько десятилетий тому назад. Но если запрещенные книги не были сожжены, в чьи руки они попали? Должно быть, Бернард знал.
– Доктор Бруно, вы так и не ответили на мой вопрос, – вмешалась София.
Подавшись вперед, она неожиданно вольно похлопала меня по руке и уставила на меня взгляд своих широко расставленных темных глаз. Кончики ее полных губ изгибались в улыбке, словно девушка услышала отличную шутку и ей не терпелось поделиться ею.
– Так кто он такой, этот Гермес?
Глубоко вздохнув, я постарался выдержать ее пристальный взгляд, сознавая, что все замолкли в ожидании моего ответа и что мой ответ вполне могут счесть ересью.
– Гермес Трисмегист, то есть Трижды Величайший, был в глубокой древности первосвященником в Египте, – начал я, машинально вертя в пальцах кусочек хлеба. – Он жил вскоре после Моисея, задолго до Христа и даже до Платона. Иногда его отождествляют с египетским богом Тотом, покровителем мудрости. Во всяком случае, это был человек, наделенный удивительной интуицией: наблюдая космические явления и экспериментируя с объектами земного мира, он сумел раскрыть природные и небесные тайны. Он утверждал, что сумел войти в Божественный разум и постичь его. – Я выдержал паузу. – Он утверждал, что может уподобиться Богу.
Дружный вздох пронесся за столом. Все собравшиеся понимали, что ступили на тонкий лед, так что я поспешил добавить:
– Это был первый философ, первый богослов, а также пророк. Лактанций полагает, что он провидел пришествие христианской веры и предсказал это почти теми же словами, какими говорится о ней в Евангелии.
– Августин же ответил: это провидение Трисмегист имел от дьявола, – с жаром вступил в разговор Роджер Мерсер; лицо его разгорелось сильнее прежнего, непрожеванный кусок мяса выпал изо рта и запутался в бороде, а он и не заметил. – Ибо разве Гермес не пишет о том, как египтяне оживляли идолов своих богов с помощью магических ритуалов, призывая на помощь бесов?
– Сказкам о бесах и статуях я никогда не верил, – легкомысленно отвечал я. – Люди всегда строили механические игрушки и заявляли, будто им удалось вдохнуть в эти статуи жизнь. Взять хотя бы медную голову Роджера Бэкона – та якобы прорицала. Все это лишь ловкость рук да хитрости умелых ремесленников.
– Значит, Гермес Трисмегист не был магом? – тихо переспросила София, не отводя от меня глаз. Кажется, она была разочарована.
– Он много писал о скрытых свойствах растений и камней и об устройстве Вселенной, – ответил я. – Одни называют это алхимией или природной магией, другие – научными исследованиями.
– Исследования скрытых и запретных областей именуются чернокнижием, – сурово заявил ректор.
– Удалось ли ему найти действующую магию? – настаивала девушка, не обращая внимания на отца.
– В каком смысле действующую? – уточнил я.
– Мог ли он с помощью магии как-то воздействовать на окружающий мир, хотя бы менять мысли и поступки людей? Описал ли он, как это можно сделать? – Глаза ее разгорались все ярче, в нетерпении девушка почти легла грудью на стол, чтобы оказаться ближе ко мне.
– Рецепты заклятий? – рассмеялся я. – Боюсь, чего нет, того нет. Герметика, магия Гермеса, если уж называть это магией, учит неофита проникать в тайны космоса с помощью естественного света разума. Гермес не научит вас, как приворожить возлюбленного или как заставить его соблюдать верность – по этому поводу лучше обратиться к деревенской колдунье.
За столом при этих словах послышался смех, а девушка сильно покраснела – боюсь, я нечаянно угадал истинную ее мысль. Чтобы не смущать собеседницу, я поспешно продолжал:
– Однако германский алхимик Генрих Корнелий Агриппа рассуждает о подобных вещах в упомянутом доктором Роджером Мерсером трактате об оккультных науках. Он пишет, что в магии возможно использовать и небесные образы, и образы, создаваемые нами самими для наших целей. К примеру, говорит он, чтобы вызвать любовь, нужно создать изображение любовников, слившихся в объятиях.
– Но как? – подхватила София.
Тут ректор многозначительно кашлянул: в залу вернулись слуги, чтобы сменить блюда.
– Чрезвычайно поучительная беседа, доктор Бруно. – Ректор нарочито приветливо, похлопал меня по плечу. – Я так и знал, что общение с вами, ваши необычные идеи оживят наш скромный колледж. Но теперь, до перемены блюд, мне бы хотелось познакомить вас и с другими руководителями колледжа. Хотя я, конечно, с удовольствием послушал бы еще о Гермесе, – неискренне добавил он.
После этих слов ректор вскочил и засуетился, пересаживая сотрапезников, и загнал меня на противоположный конец стола к трем гостям, с которыми я еще не имел возможности побеседовать.
Слуги внесли приправленную говядину в серебряных блюдах и к ней овощной гарнир. Супруга ректора воспользовалась паузой в разговоре и всей этой суетой, чтобы удалиться, сославшись на головную боль и вежливо извинившись передо мной за то, что она, мол, была никуда не годной хозяйкой. С виду она казалось болезненной и склонной к меланхолии. Я припомнил рассказ ректора. Мне доводилось и прежде наблюдать схожие симптомы у женщины, лишившейся ребенка, – порой они сохраняются много лет, как будто разум матери поражен изнурительной болезнью и не может оправиться, – я от души пожалел несчастную. И подумать только, это увядшее создание приходится матерью преисполненной жизненных сил девушке, которая сидит за столом.
Вторая половина ужина была гораздо менее оживленной, чем первая. Разговор с Софией прервался. Напротив меня сидел теперь мастер Уолтер Слайхерст, казначей колледжа, – костлявый человек моего примерно возраста, с тонкими губами, узкими щелочками подозрительных глаз. Возле него сидел доктор Джеймс Ковердейл, пухлый мужчина лет сорока, с копной темных волос, коротко подстриженной бородой и самодовольным лицом. Этот назвался проктором – то есть, как он пояснил, в его обязанности входило поддерживать дисциплину среди студентов. По правую руку от меня оказался мастер Ричард Годвин, библиотекарь. Этот был постарше – лет пятидесяти на вид, – и его толстые, обвисшие щеки живо напомнили мне собаку-ищейку: казалось, этого человека облачили в чересчур просторную для него кожу. Правда, когда он улыбался, его мрачная физиономия преображалась. Все трое были со мной отменно приветливы, но втайне я сожалел о прерванной беседе с Софией. Очевидно, тема этой беседы была не по нутру ее отцу: теперь он усадил ее рядом с собой, на той же стороне стола, что и меня, и с таким расчетом, что заглянуть в лицо девушке и прилечь ее внимание я мог, лишь вопреки всем правилам этикета перегнувшись через моего соседа Годвина.
– Боюсь, доктор Бруно, вы уже отведали порцию «острого языка» по рецепту Уильяма Бернарда, – через стол обратился ко мне Джеймс Ковердейл.
– Этот человек, видимо, разочаровался в мире и в людях, – откликнулся я, убедившись предварительно, что Бернард сидит теперь далеко от меня и ничего не услышит.
– Со стариками это нередко случается, – печально кивнул Годвин. – За свои семьдесят лет он немало пережил, и это сказалось на нем.
– Если он будет с такой же откровенностью выступать перед студентами младших курсов, как сегодня перед коллегами, боюсь, скоро он разделит участь своего друга, – заявил Слайхерст; судя по тону, это его, впрочем, нисколько бы не огорчило. Разумеется, не слишком разумно судить о человеке по внешним признакам, едва познакомившись с ним, однако казначей не располагал к себе. С того самого момента, как нас усадили друг против друга, он пристально смотрел на меня – пожалуй, даже враждебно.
– Участь друга? – переспросил я.
Ковердейл вздохнул.
– Печальная это история, доктор Бруно, и не к чести университета. В прошлом году заместитель ректора, доктор Аллен, был отрешен от должности, после того как его уличили в том… – Ковердейл запнулся, явно подыскивая выражение помягче. – В том, что он нарушил присягу признавать королеву главой Церкви и остался приверженцем Рима.
– Вот оно что! И как же его изобличили?
– Поступил анонимный донос. – Похоже, Ковердейла занимала эта интрига. – Ну, апартаменты Аллена обыскали, и там обнаружилось большое количество запрещенной папистской литературы. А поскольку заместитель ректора – вторая по значению должность в колледже и в отсутствие ректора заместитель исполняет все его обязанности, можете себе представить, какой разразился скандал. Многих из нас вызывали в канцлерский суд и потребовали дать показания против него.
– Университет имеет собственный суд, с помощью которого поддерживает дисциплину, – елейным голосом пояснил Годвин, библиотекарь. – Хотя в делах государственного значения, разумеется, участвует и Тайный совет. Наш канцлер, граф Лестер, постоянно требует от глав колледжей, чтобы те полностью очистились от подозрений в приверженности Риму, так что ректору пришлось действовать быстро и обойтись с Алленом как можно суровее.
– Доктор Андерхилл прежде был духовным отцом графа, – вмешался Слайхерст. – Полагаю, он вам уже успел похвастаться. Он не мог бы спасти Аллена и при этом сохранить свою должность.
– И все же Аллен надеялся на снисхождение, – настаивал Ковердейл. – На милость графа и на верность своих друзей. Увы, его ждало жестокое разочарование.








