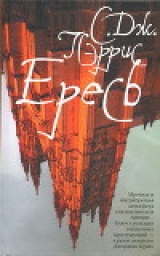
Текст книги "Ересь"
Автор книги: С. Пэррис
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Глава 12
Комната Габриеля Норриса располагалась на первом этаже западного крыла, позади лестницы, на двери красовалась дощечка с его именем. Я громко постучал, изнутри послышалось какое-то движение, однако никто не открывал. Я снова постучал и выкрикнул имя Норриса, тогда послышались шаги, дверь распахнулась, и передо мной предстал Томас Аллен. Очевидно, он исполнял здесь свои обязанности прислуги: рукава рубашки были закатаны выше локтя, в руках он сжимал грязную тряпку.
– Доктор Бруно! – воскликнул он, заливаясь багровым румянцем и комкая тряпку в руках; я застал его врасплох.
– Простите за беспокойство, Томас. Вижу, вы заняты, а мне требуется поговорить с мастером Норрисом.
– Его дома нет, – ответил Томас, тревожно оглянувшись через плечо, как будто не доверяя собственным словам.
Сквозь распахнутую дверь я разглядел просторную и удобную гостиную. Перед камином стояло широкое кресло с деревянной спинкой и выдвижным ящиком внизу. Да уж, по сравнению с большинством студентов Габриель жил в роскоши. Окна по обе стороны комнаты выходили на улицу и на внутренний двор, так что даже в этот хмурый денек внутри было достаточно светло. Под окном, выходившим на улицу, стоял прочный, окованный железом сундук с навесным замком.
– Думаю, он на лекции. А я его обувь чищу, – сердито добавил Томас.
– Вы на лекцию не пошли?
– У меня работы по горло! – буркнул мальчишка в ответ.
Его манеры меня несколько удивили, но я подумал, что все дело в том, что я застал его за этой унизительной работой. Однако…
– Срочно пришлось чистить Габриелю башмаки? – сообразил я вдруг.
Мой тон насторожил Томаса, он нахмурился, приподнял плечи.
– Я их каждый день чищу, – устало проговорил он. – Зачем вам Габриель понадобился?
– Хотел спросить его, когда именно он отнес свой лук в хранилище.
Лицо Томаса выразило некоторое удивление, но он опять небрежно пожал плечами, вытер руки о грязную полу собственной рубашки.
– Я сам сдал его лук в хранилище в субботу утром. Ох и злился же он: сказал, ректор заставил его расстаться с луком, и это после того, как Гейб ректору же оказал услугу, пристрелив того бешеного пса.
– Значит, лук отнесли вы?
Он заморгал: мой тон все больше пугал его. Потом покачал головой.
– Я как раз шел в хранилище, но во дворе меня перехватили доктор Ковердейл и доктор Бернард. Они стояли у лестницы, которая ведет в часовню. Прицепились: что это я по колледжу с оружием расхаживаю. Я все объяснил, и доктор Ковердейл сказал мне, чтобы я оставил лук у его двери на лестнице, а он, мол, сам проследит, чтобы оружие поместили под замок.
– Доктор Бернард присутствовал при этом разговоре и все слышал?
– Он стоял рядом, слышал, разумеется, – все еще недоумевая по поводу моих вопросов, ответил Томас.
– Кто-нибудь мог вас подслушать?
– Не знаю. Какие-то люди во дворе были, но возле нас вроде бы никто не задерживался. Могу я спросить, доктор Бруно, что случилось? – Он снова начал мять в руках грязную тряпку.
– Ничего не случилось, – весело отвечал я.
С минуту мы взирали друг на друга в неловком молчании.
– Доктор Бруно, – заговорил Томас, подходя ко мне вплотную и понижая голос, – вы уж не сочтите за дерзость, но я хотел бы поговорить с вами. Дело важное, а больше мне довериться некому.
У меня чуть волосы на затылке не зашевелились: неужто парень что-то знает про эти убийства?
– Прошу вас, говорите.
– Это личное.
– А мы здесь разве не одни? – Я подозрительно оглядел пустую с виду комнату.
Томас покачал головой, плотно сжимая губы, комкая злосчастную тряпку.
– Нет, сэр, не здесь, не в колледже.
Я призадумался: лишним временем я не располагал, нужно было срочно отыскать того студента, который вызвал Ковердейла с диспута. Но искаженное отчаянием лицо Томаса убедило меня: дело не терпело отлагательства.
– Хорошо, пойдемте. Вы сегодня уже завтракали? Поищем таверну, где мы могли бы поесть и свободно поговорить.
Томас опустил глаза.
– Простите, сэр, у меня нет денег на посещение таверны.
– У меня есть, – ободрил я его. – Я вас приглашаю.
– Боюсь, сэр, на вашем положении в университете это скажется неблагоприятно, не стоит вам появляться со мной на публике, – печально продолжал он.
– Честно говоря, мастер Аллен, мое положение в университете и ломаного гроша не стоит, – проворчал я. – К черту все это, пошли поедим. Укажите мне приличный кабак, и там расскажете то, что хотели рассказать. И наплевать на все.
– Вы очень добры, сэр, – вздохнул парень и вышел вслед за мной из комнаты Габриеля, задержавшись на минуту, чтобы запереть дверь.
Приблизившись к башне, я привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть в пустые окна комнаты Ковердейла – впрочем, окна располагались чересчур высоко, ничего видно не было.
– Все в порядке, доктор Бруно? – с беспокойством спросил Томас. – Вы с утра как будто не в своей тарелке. Что-то случилось?
Я задумался. Томас еще не слышал про убийство, но к тому времени, когда мы вернемся, по колледжу уже успеют расползтись слухи. Если ему что-то известно, нужно воспользоваться этим кратким промежутком времени, пока он не насторожился.
– Нет-нет, все в порядке, идем.
В молчании мы прошли по Сент-Милдред-Лейн до Хай-стрит. Томас был выше меня почти на фут, однако он сутулился, словно старался сделаться незаметнее, так что мы казались почти одного роста. Невозможно было не пожалеть мальчишку. Он как будто прочел мои мысли, обернулся ко мне, руки его были спрятаны в рукава потрепанной мантии.
– Большое вам спасибо, сэр, за то, что согласились меня выслушать. При такой разнице в положении…
– Раз уж вы заговорили о положении, Томас: вы – сын человека, который был членом университета, а я – сын солдата. Все эти различия меня мало интересуют, я еще верю, что придет день, когда человека будут судить по заслугам, а не по его происхождению.
– Это было бы прекрасно, – согласился он. – Но для жителей этого города я навсегда останусь сыном изгнанного еретика.
– А я и сам изгнанный еретик!
Впервые он посмотрел мне прямо в лицо и улыбнулся. Однако через мгновение лицо его вновь сделалось серьезным.
– Вы дружите с королями и вельможами, сэр, – напомнил он мне.
– Дружбой это вряд ли можно назвать. Французский король Генрих любит окружать себя философами, это льстит его тщеславию, ведь он притязает на ум и образованность. Это у вас или у меня могут быть друзья, у королей их нет.
– У меня вовсе нет друзей, – печально возразил Томас. Повисло молчание, оба мы подыскивали, что сказать. – Но ведь сэр Филип Сидни ваш друг, а это уже немало.
– Да, – признал я. – Я имею счастье числить Сидни среди своих друзей. Вы об этом хотели поговорить со мной – попросить, чтобы я заступился перед ним за вашего отца?
Томас еще мгновение колебался, потом остановился и решительно поглядел мне в глаза.
– Не за отца, сэр. За себя. Я должен кое-что рассказать вам, но обещайте не выдавать меня.
Я кивнул, уже не на шутку заинтригованный. Мы остановились на том самом месте, где Сент-Милдред-Лейн переходит в Хай-стрит. Оглядевшись, увидели ряды домиков и светлые стены зданий колледжа. В этот час улица была пустынна, небо спокойно отражалось в воде, заполнившей дорожные канавы.
– Там, дальше по улице, таверна «Цветок лилии», – сообщил Томас, указывая влево. – Дорогое заведение, сэр. – Он машинально дернул самого себя за рукав мантии.
– Пустяки, – легкомысленно отвечал я, побренчав висевшим у меня на поясе увесистым кошельком – даром Уолсингема. Мы неторопливо направились к таверне, выбранной Томасом, и я с деланой небрежностью спросил: – Вообще-то я местных заведений не знаю. Как насчет «Колеса Катерины» – что-нибудь о нем слышали?
Я покосился на Томаса и успел заметить мелькнувшее на его лице выражение страха, однако парень быстро справился с собой.
– Мне кажется, это сомнительное место, сэр. К тому же студентам не разрешается выходить за городские стены. Если кто-то попадется на этом, ему здорово влетит.
– В самом деле? Странно. Вчера я вышел на прогулку и своими глазами видел молодого человека в студенческой мантии, который вышел за городские ворота.
Томас равнодушно пожал плечами:
– Кто-нибудь из коммонеров. – В голосе его не слышалось горечи, он как будто давно уже смирился с тем, что для богатых действуют особые законы, и не ждал перемен к лучшему.
– Кто-нибудь вроде вашего хозяина Габриеля Норриса?
– Если можно, не зовите его моим хозяином, сэр. Разумеется, я прислуживаю ему, но к чему лишнее унижение?
Мы остановились перед двухэтажным побеленным зданием с фасадом по Хай-стрит. Домик был ухоженный и чистый, а внутри мы увидели столь же уютный и приятный зал – в общем, полная противоположность «Колесу Катерины». Аромат жареного мяса защекотал нос, едва мы переступили порог. Выскочил улыбающийся хозяин. Фартук обтягивал его брюхо, такое толстое, что казалось, хозяин вот-вот разродится. Он провел нас к столику, на ходу перечисляя имеющиеся блюда – их было столько, что я успел перезабыть половину, прежде чем его монолог завершился. В итоге мы заказали сыр, ячменный хлеб и каждому по кувшину пива. Томас огляделся по сторонам с таким восторгом, словно впервые вышел в город и ждал от неожиданной свободы всяческих чудес.
– Итак, Томас, – ласково заговорил я. – Что вы хотели мне поведать?
Юноша приподнял голову и пугливо поглядел на меня, решаясь.
– Три дня тому назад, в тот день, когда я так бесстыдно обратился к вам прямо во дворе, в день вашего приезда, сэр… В тот день я кое-что узнал об отце.
Он умолк, тяжело вздохнув, и как раз в этот момент мальчишка-разносчик подскочил к нам с пивом и хлебом. Тут я вспомнил Хамфри Причарда с его латынью и подумал: с тем тоже надо поговорить. Томас уткнулся лицом в кружку и дул пиво так, словно его мучила жажда. Я подождал, пока он опустит кружку на стол, и мягко задал следующий вопрос:
– Вы с отцом, значит, поддерживаете связь?
– Мы переписываемся, – кивнул Томас. – Как вы сами понимаете, все наши письма вскрываются по личному распоряжению графа. Мой отец в Реймсе, в Английском колледже, где готовят священников для миссии в Англии. Любое письмо оттуда представляет интерес, к тому же все считают, что я разделяю убеждения отца, и ждут, когда я выдам себя. Следят за каждым моим шагом, ни с кем заговорить нельзя. Насчет этого, – он указал на хлеб и сыр, – они тоже будут допрашивать меня, когда пронюхают.
– «Они» – это кто? – уточнил я, в свою очередь отпивая глоток пива. – Кто перехватывает письма?
– Ректор. И доктор Ковердейл. Когда отца изгнали, он хотел и меня выпереть из колледжа. Твердил, что, если меня оставить, подумают, будто колледж пригрел паписта.
Говорил он с досадой, но я пристально следил за выражением его лица и готов был поклясться: Томас не знает, что его враг недавно был убит.
– Но на самом деле вы не папист? – подбодрил я юношу.
– Я – сын паписта, а значит, моя верность королеве и Англии под сомнением. В конце концов ректор разрешил мне остаться в колледже, но Ковердейл добился, чтобы меня лишили стипендии. Не думаю, чтобы и ректор особо сочувствовал мне, однако он счел, что моя переписка с отцом еще пригодится. – Парень коротко, сердито засмеялся. – Здорово же они промахнулись! Отец пишет только о погоде и своем здоровье, а я ему про учебу. Ни о чем больше мы писать не осмеливаемся. А тут еще прошел слух, будто граф Лестер поместил в колледж собственного соглядатая, вот до чего они опасаются папистского заговора.
– Соглядатая поместил? Это точно? – Я аж вперед подался.
– Не знаю, сэр. Если он человек опытный, я в любом случае не смог бы его разгадать, правильно?
– Значит, веру отца вы не разделяете?
Томас спокойно выдержал мой взгляд, он был готов к испытаниям.
– Нет, сэр, не разделяю. Плевать мне и на папу, и на Рим. Я мог бы поклясться в этом, но все равно останусь под подозрением. Так что толку?
Я исподволь наблюдал за ним.
– Какие новости вы получили от отца три дня назад? – спросил я. – Он заболел?
Томас покачал головой, энергично работая челюстью.
– Плохие новости, – с горечью заговорил он, когда прожевал и проглотил. – Он… – Парень прервался, поднес кусок хлеба ко рту и посмотрел на меня так, словно видел впервые. Его взгляд тревожно впился в мое лицо: он пытался сообразить, можно ли мне довериться. – Вы обещаете, что никому об этом не расскажете?
– Клянусь, – искренне ответил я, для большей убедительности кивая и глядя парню прямо в глаза.
Он всмотрелся в мое лицо, потом тоже кивнул.
– Мой отец не вернется в Англию. Никогда не вернется, даже если королева Бесс собственноручно подпишет помилование.
– Почему же?
– Потому что он счастлив. – Последнее слово Томас подчеркнул, не скрывая гнева. – Он счастлив, доктор Бруно, он обрел свое призвание. Иногда мне кажется, что он намеренно выдал себя, чтобы получить возможность открыто исповедовать свою веру. Свои письма он диктует писцу – знаете, почему?
Я покачал головой; впрочем, Томас продолжал, не дожидаясь:
– Его допрашивали в Тайном совете. Подвешивали за руки, он висел по восемь часов кряду. Он терял сознание, но так ничего и не сказал. Правой рукой он теперь почти не владеет, но он бы с радостью пошел и на смерть, почитая себя мучеником. Три дня назад я узнал, что мой отец собирается принять обет и стать членом ордена иезуитов. – Голос его стал почти издевательским; вот только над кем он издевался? – Теперь Церковь заберет его со всеми потрохами, и он думать забудет, что когда-то у него были жена и сын.
– Ни один отец так не поступит! – горячо заступился я.
– Вы его не знаете. – Рот Томаса сложился в жесткую складку. – Мы – старая католическая семья, сэр! Но скажите, как может религия, исповедующая любовь, требовать от человека, чтобы он разорвал все узы любви и родства? Проповедовать мученичество ради будущей жизни где-то на небесах, а близкие пусть страдают! Не желаю я знать Бога, который требует подобных жертв!
Нервными движениями он мелко искрошил свой кусок хлеба и потянулся за другим. Рука его высунулась из потрепанного рукава, и я увидел на запястье Томаса грязную, неумело наложенную повязку. Местами она была в засохшей бурой крови, местами в свежей алой.
– Что у вас с рукой? – спросил я.
Он поспешно натянул рукав пониже, скрывая повязку.
– Ничего страшного.
– Выглядит довольно скверно: кровь, похоже, хлестала ручьем. Давайте я осмотрю рану.
– Вы разве доктор? – огрызнулся он, пряча руку, словно боялся, что я и без его разрешения сорву повязку.
– Доктор богословия, – усмехнулся я. – Однако в бытностью монахом я составлял бальзамы и мази. Позвольте мне осмотреть рану, хуже не будет.
– Благодарю вас, не надо. Пустое, я сам виноват: точил Габриелю бритву, и рука сорвалась.
Опустив взгляд, молодой человек сосредоточил внимание на еде; тема была закрыта. Я насторожился, но постарался не обнаруживать своего интереса к бритве Габриеля.
– Стало быть, мастер Норрис к университетскому цирюльнику не ходит? – с деланым безразличием поинтересовался я.
Томас выдавил улыбку:
– Говорит, это циркач, а не цирюльник, и предпочитает бриться сам.
– Когда вы точили бритву?
Томас прикинул:
– В субботу, вероятно. Он собирался побриться перед диспутом.
– И с тех пор бритва лежит на обычном месте?
– Не знаю, сэр. Я не смотрел. Наверное, куда ей деваться?
Он наморщил в удивлении лоб.
– А мастер Норрис когда-нибудь одалживает бритву друзьям?
– Никогда, сэр. Он к своей собственности ревниво относится. Многие вещи у него ценные, или же они дороги ему потому, что достались от отца.
Спрашивать, зачем мне понадобились такие подробности, он не стал, хотя смотрел на меня с удивлением. Мы посидели несколько минут молча, потом я положил остатки хлеба в тарелку и вытер руки.
– Однако это известие об отце вы получили не напрямую, ведь он не стал бы писать вам о своих планах, раз письма перехватываются.
– Нет, у него был другой корреспондент, – с полным ртом отвечал Томас.
– Был?
Томас замер, взгляд его заметался: мальчишка понял, что проговорился.
– Доктор Мерсер? – надавил я: если известие пришло три дня назад, доктор Мерсер единственный человек, о котором уместно говорить в прошедшем времени.
Парень нехотя кивнул.
– Они продолжали переписываться. Отец доверял Роджеру Мерсеру, они были близки.
– Но ведь Мерсер донес на него?
– Вряд ли. Отец так и не узнал, кто его выдал, но он не думал, что это Мерсер. Все, что сделал Мерсер, – дал против него показания на суде.
– Пожалуй, и этого достаточно, чтобы дружбе пришел конец. Или ваш отец наделен даром всепрощения?
Томас отложил нож и сердито посмотрел на меня:
– Вы так ничего и не поняли! О том-то я говорю: им важнее всего дело, важнее всего их вера. Ради веры они пожертвуют дружбой. Отец и не ожидал ничего другого от Мерсера, он и сам дал бы показания против Мерсера, если бы тот попался. Их дружба ничто перед верой. Если бы Роджер заступился за отца, они бы вместе угодили в тюрьму или в изгнание, и кто бы тогда продолжил борьбу?
Я смотрел на парня почти с ужасом.
– Роджер Мерсер тоже был католиком? – прошептал я.
Томас подался вперед, перегнувшись через стол.
– Теперь-то уж все равно, если вам я расскажу, – произнес он. – Только вы сохраните это в тайне, очень вас прошу, иначе его семья тоже пострадает.
– Я никому не скажу. Но если Роджер был католиком, – продолжал я, пытаясь осмыслить услышанное, – и если ваш отец писал ему из Реймса, он, должно быть, делился с ним планами относительно деятельности в Англии? Возможно, Роджер принимал в этом какое-то участие?
– Содержание их писем неизвестно мне, сэр, – ответил Томас, вертясь от неловкости на стуле. – Доктор Мерсер сообщал мне лишь те новости, которые непосредственно касались меня.
– Разве их переписку ректор и его приспешники не перехватывали? И никому не казалось странным и подозрительным, что Мерсер переписывается с бывшим другом, осуждению которого он способствовал?
– Доктор Мерсер получал письма не по университетской почте, сэр. – Голос Томаса упал до шепота. – Он платил кому-то в городе, у кого есть возможность отправлять письма на материк и получать почту оттуда.
– Должно быть, этот «кто-то» – книготорговец?
– Я не спрашивал, это не мое дело. – Томас отвечал равнодушно, однако прятал глаза. Вдруг он подался вперед, лег грудью на стол и ухватил меня за рукав. – Сэр, за моего отца я не отвечаю, ни за его поступки, ни за письма, какие он посылал кому-то. Целый год я пытаюсь объяснить: все, чего я хочу, – это жить спокойно, покинуть Оксфорд, изучать право в Лондоне. Однако покуда во мне видят сына моего отца, никто не позволит мне стать юристом и обзавестись семьей. А уж теперь, когда он иезуитом заделался… – добавил мальчишка, совсем рассиропившись от жалости к себе. – Тайный совет расплодил соглядатаев, и рано или поздно ему все станет известно. Если только за меня какой-нибудь влиятельный человек не заступится.
Томас жалобно взирал на меня, однако я не замечал этого, поскольку в тот момент думал совсем о другом: если Эдмунд Аллен решил стать членом ордена иезуитов, он конечно же связан с католической миссией в Англии. Так вот почему комнату Мерсера обыскивали: письма Аллена, если в них содержались сведения насчет этого, послужили бы достаточной уликой для осуждения заговорщиков. Но убийство Роджера из этого не вытекало. Может быть, он угрожал предать соучастников? Или попросту перешел кому-то дорогу? Возможно, в переписке Роджера Мерсера и Эдмунда Аллена были названы чьи-то имена, и кто-то хотел любым способом спастись от разоблачения? Инициал «Дж», которым был помечен день убийства в календаре Мерсера, вполне мог означать Дженкса, прикинул я. Если человек способен, не поморщившись, отрезать самому себе уши, он столь же хладнокровно убьет любого, кто станет угрозой для его дела. Впрочем, может быть, я сам себя накручиваю, наслушавшись россказней Коббета?.. Слишком много вопросов, и слишком мало ответов. Я опустил голову на руки и уставился на стол.
– Вам нехорошо, доктор Бруно?
– Я подумал, быть может, Мерсера убил католик, – пробормотал я, не отдавая себе отчета в том, что думаю вслух; опомнился, лишь перехватив удивленный взгляд Томаса.
– Доктора Мерсера загрызла собака, – напомнил он мне.
– Полно, Томас! Часто у вас тут в Оксфорде бродячие псы на людей кидаются? Проникают в запертый двор колледжа?
– Не знаю, сэр. – Он снова спрятал глаза. – Знаю лишь то, что сказал нам ректор: калитку оставили незапертой, и в сад забрел бешеный пес.
Он заглянул в опустевшую кружку, словно пиво могло появиться там само собой, стоит лишь пожелать.
– Выпьем еще?
Он с готовностью закивал, я подозвал служанку и попросил принести еще две кружки пива. Когда служанка отошла, я в свою очередь перегнулся через стол и заставил Томаса взглянуть мне в глаза.
– Вы об этом и хотели поговорить со мной наедине? О вашем отце?
Томас поскреб ногтями дощатый стол.
– В день вашего приезда я принял вас за сэра Филипа Сидни, – тихо произнес он. – Вы были добры ко мне, когда ректор Андерхилл принялся меня позорить, и я подумал – глупо, конечно, с моей стороны – но я подумал, если вы дружите с таким человеком, как сэр Филип, вы могли бы заступиться за меня.
– И что мне ему сказать?
Юноша набрал в грудь побольше воздуху, потом медленно выдохнул, повертел ладони перед глазами, как будто на них был записан ответ.
– Я хотел бы покинуть Оксфорд, сэр. Я боюсь. Когда отца арестовали, меня дважды допрашивали в суде канцлера. Никто не верил, что я не был посвящен в его тайну. Меня допрашивали с пристрастием, не верили ни единому моему слову, повторяли одни и те же вопросы и переиначивали ответы, пока я не запутался.
Руки его сильно тряслись, дыхание участилось – ему даже вспоминать эти ужасы было тяжко.
– К вам применили пытки?
– Нет, сэр! Но они разбирали каждый мой ответ, – они же юристы, – все переворачивали, и получался какой-то иной смысл. А я был напуган, запутан, и в какой-то момент вдруг понял, что подтверждаю то, чего никогда не говорил, что вовсе не соответствует истине. Если они захотят кого-то в чем-то уличить, то невиновного заставят поверить в свое преступление. Я испугался, что по глупости могу сам себя оговорить. Это было ужасно, сэр.
– Представляю себе. – Я не мог не посочувствовать: ведь до сих пор ужас охватывал меня при одном воспоминании о той ночи, много лет тому назад, когда аббат объявил, что передаст меня в руки инквизиции. – И вы опасаетесь, что вас будут снова допрашивать, если узнают, что отец ваш сделался монахом-иезуитом?
Томас кивнул и впервые посмотрел мне прямо в глаза.
– Они и прежде не верили мне, что же будет теперь, когда станет известно, что отец вступил в орден? Меня повезут в Лондон допрашивать! Я слыхал о том, что делают с людьми, чтобы добиться от них нужных сведений! Они заставят человека сказать все, что им угодно.
Я припомнил разговор в саду Уолсингема, и меня даже пробрал озноб. Изнуренное лицо Томаса исказилось страхом. Он не притворялся – это был ужас, самый настоящий ужас.
– Власти сочтут, что вам достаточно известно и что имеет смысл подвергнуть вас суровому допросу? – мягко спросил я.
– Ничего я не знаю, сэр, ничего! – запротестовал он, и щеки его побагровели от волнения. – Но у меня не хватит мужества, и я не знаю, что могу наболтать, если меня будут пытать.
– Для начала скажите правду мне, Томас, – решительно потребовал я. – Я не смогу вам помочь, если вы что-то утаиваете.
– Я ничего не хотел знать, сэр, – прошептал он, смаргивая слезы. – Я просил отца не впутывать меня. Он требовал, чтобы я участвовал во всем, хотел взять меня с собой во Францию, чтобы ему не пришлось выбирать между верой и семьей. Он сообщал мне о всех их встречах и собраниях, хотел воспитать во мне преданность к этим людям, а я чувствовал только, что мне навязывают то, чего я вовсе не желаю знать. Я страдаю за чужую веру! – вскрикнул он вдруг, ударяя кулаком по столу.
– А добровольно расстаться с этими секретами вы не хотели бы? – осторожно предложил я. – Вы же понимаете: граф Лестер наградит любого, кто сообщит ему важные сведения о католическом заговоре в Оксфорде, а вы, безусловно, располагаете такими сведениями.
Томас уставился на меня, как будто смысл моих слов не сразу дошел до него.
– Я думал об этом! Вы когда-нибудь видели, как в Англии казнят обличенных в католицизме?
Я признался, что Бог миловал, не доводилось.
– А я видел. Отец повез меня в Лондон на казнь Эдмунда Кэмпиона и других иезуитов. Это было в декабре восемьдесят первого. Должно быть, отец хотел, чтобы я понял, какие ставки в этой игре. – Мальчик провел рукой по глазам, словно пытаясь изгнать из памяти страшную сцену. – Их распотрошили, как свиней на бойне, намотали кишки на веретено и стали медленно их вытягивать – заживо. Они все кричали, взывая к Господу, а в это время их внутренности палач предъявлял на потеху толпе, покуда не вырвал их сердца и бросил в печь. Я не мог смотреть на это, доктор Бруно, отвернулся и увидел лицо отца – он был в восторге, словно видел самое прекрасное зрелище на свете. Я не хочу быть к этому причастен, не хочу, чтобы у меня кровь была на руках. Сэр, я одного хочу: чтобы меня оставили в покое! – Голос его сделался пронзительным, парень невольно схватился за раненое запястье, словно от волнения у него вновь разболелась рана.
– Томас, – заговорил я, но вынужден был прерваться: служанка вернулась к столу с пивом. Когда она поставила кувшины и отошла, я наклонился к нему и тихо заговорил: – Томас, могли в Оксфорде остаться католики, которые знают, что ваш отец называл вам их имена? Люди, которые знают, что вы не разделяете их веру, которые боятся, что на допросе вы можете их предать?
И снова он отвел глаза.
– А сами вы не боитесь, что эти люди попытаются заставить вас замолчать, пока вы их не выдали? Покончат с вами, как с Роджером Мерсером?
– Я больше ничего не скажу, доктор Бруно, – дрожащим голосом ответил он. – Вам этого знать не нужно, клянусь. Об одном вас прошу: если можно, поговорите обо мне с сэром Филипом, заступитесь за меня, скажите, что я настоящий англичанин, я верен королеве и Англиканской церкви!
– А разве вы не утратили веру в Бога? – поддразнил я его.
– Я говорю о Церкви, а не о Боге, – парировал он. Где-то за окном зазвонил церковный колокол, и Томас аж подпрыгнул. – Доктор Бруно, не сочтите меня дурно воспитанным, но мне пора возвращаться в колледж. Скоро Габриель вернется с лекции, а я еще не прибрал.
Мне показалось, что парень слишком спешит свернуть разговор: должно быть, не ожидал, что за услугу, о которой он меня просил, ему придется отвечать на столько вопросов. Я допил пиво и уплатил хозяину. Томас с нескрываемой завистью провожал взглядом каждую монету, что я извлекал из кошелька Уолсингема. Мне стало стыдно: если бы он знал, что деньги я получил от тех самых людей, которые внушали ему такой страх, что это был, можно сказать, аванс за тайны его отца и его собственные, – разве этот мальчик смотрел бы на меня с уважением, надеждой и мольбой?
Мы вышли из теплой таверны. Пронзительный ветер и косой дождь ударили в лицо. Томас поплотнее завернулся в плащ. Мы брели по Хай-стрит, с крыш домов лило ручьем, мы оба молчали: Томас погрузился в свои невеселые размышления, а я пытался увязать полученную от него информацию с убийствами Мерсера и Ковердейла. На повороте к Сент-Милдред-Лейн я вспомнил, что еще кое о чем хотел спросить молодого человека.
– Вы сказали, что у вас здесь нет друзей. А разве вы не дружите с мистрис Софией Андерхилл? – Я замедлил шаги, чтобы Томас успел мне ответить прежде, чем мы доберемся до ворот колледжа.
Он посмотрел на меня с удивлением.
– Было время, когда я считал ее другом, но я для нее все равно что кукла: прежде я забавлял ее, а теперь ей стало со мной скучно, и она дала мне отставку.
– Потому что ваш отец впал в немилость?
– Нет. – Томас тщательно обошел лужу; башмаки его были совсем разбиты. – Нет, со мной она рассталась намного раньше. Когда моя мать умерла, а отец по приглашению графа решил вернуться в Оксфорд, меня он оставил жить в городе. Как вы знаете, только ректор имеет право жить в колледже с семьей, все остальные члены университета должны оставаться холостяками. Но семья ректора пригрела меня, нас с отцом часто приглашали в гости. Вообще-то они предполагали, что я стану приятелем Джона, сына ректора, но он потом погиб. Конечно же меня больше интересовала София. – Парень вздохнул и сгорбился еще сильнее, как будто эти воспоминания давили ему на плечи. – Когда Джон погиб, ректор Андерхилл всерьез взялся за дочь. Прежде он мечтал, что она сделает прекрасную партию, мать должна была вывести ее в свет. Но мать слегла после гибели Джона, а у Софии вместо женихов только и была компания что студенты колледжа. К ней приглашали гувернанток, но ни одна не задерживалась надолго. – Томас грустно рассмеялся. – Бедняги! Я бы не взялся воспитывать Софию против ее воли.
Я кивнул, припомнив, как она разделалась с ворчливым дворецким по имени Адам.
– Да уж, пожалуй. Но думать о ней вы не перестали?
Он покосился на меня и вновь насторожился.
– Не все ли равно? Теперь я ей не пара.
– Появился кто-то другой?
Лицо его окаменело, в глазах мелькнул гнев.
– Что бы вам ни наговорили, это ложь! У Софии верное сердце, но ее легко обмануть… – Голос его сорвался; я испугался, как бы парень не заплакал, но он сдержался и продолжал: – Если уж вы спрашиваете – да, я всегда буду ее любить и сделаю все, что угодно, лишь бы ее защитить. Все, что угодно!
Я заметил, с какой силой он произнес последние слова, и резко переспросил:
– От чего вы собираетесь ее защищать? Ей что, грозит опасность?
Томас отступил на шаг, напуганный требовательным тоном и выражением моего лица.
– Нет-нет, я просто хотел сказать, что, мол, если ей понадобится, она всегда может рассчитывать на меня.
Я схватил парня за руку. Тот вскрикнул – я совсем забыл про его рану.
Выпустил руку, ухватил его за ворот мантии, притянул к себе:
– Томас, если София в опасности, ты должен сказать об этом мне!
Он прищурился, выпятил подбородок и отступил на шаг.
– Должен, доктор Бруно? Что вы можете ей предложить? Свое покровительство? Еще что-то? А через пару дней вы со всей компанией отправитесь в Лондон, и что с ней тогда будет?
– Вы обязаны сообщить об угрозе тем, кто мог бы ей помочь. – Я постарался произнести эти слова равнодушным тоном и отпустил его, однако сам понимал, что уже поздно: я выдал свой интерес к Софии, и теперь парень считает меня соперником.
Томас встряхнулся и двинулся прочь по Сент-Милдред-Лейн в сторону колледжа; длинными руками он обхватил свое тощее тело, как будто озяб.







