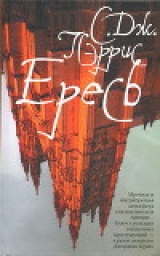
Текст книги "Ересь"
Автор книги: С. Пэррис
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
В коридоре вновь зашумели голоса, на этот раз голоса ректора и его дочери. Оба раздраженно спорили. Из его слов я разобрал только «неприлично» и «папист», а из слов Софьи «нелепо» и «гостеприимство». Потом София вдруг яростно завопила:
– Ты ругаешь меня за то, что я взяла на себя роль хозяйки! Но тебя самого вечно нет дома, а настоящая хозяйка не желает вылезать из спальни! Кто, кроме меня, позаботится о доме и о гостях?!
– Ступай в свою комнату, дочка, и поразмысли о своем положении и своем долге, пока я не отправил тебя к тетке в Кент. Пожалуй, мне стоит вновь пригласить гувернантку, чтобы она не давала тебе бездельничать и научила, как следует себя вести приличной девице! – Кипя от раздражения, ректор распахнул дверь кабинета и обратил ко мне багровую от гнева – и, подозреваю, от славного винца из подвалов колледжа Церкви Христовой – физиономию. Впрочем, увидев меня, он сразу сделался прежним ректором. Отвесил вежливый поклон, глядя мне в лицо, правда избегая встречаться глазами.
– Доктор Бруно! Вы застали меня врасплох, в такой час… – Самодовольное выражение мгновенно исчезло с его лица, глазки забегали, и я почувствовал некоторое удовлетворение: одно дело издеваться над оппонентом в присутствии пяти сотен человек, в чьей поддержке ты уверен, и совсем другое – встретиться с ним с глазу на глаз. Ректор держался настороженно и, похоже, боялся, как бы я не возобновил наш спор. – Позвольте вас заверить, этот вечер…
– Доктор Андерхилл! – прервал я его излияния. – Мне требуется ваш совет по другому поводу: это связано с гибелью Роджера Мерсера.
Ректор побледнел, взгляд его забегал. Он поднес руку ко лбу и вытер пот рукавом.
– Да, за ужином в колледже Церкви Христовой только об этом и говорили, но, полагаю, нам удалось замять дурные слухи и клевету. – Он призадумался. – По-видимому, завтрашняя служба в часовне будет поминальной. Да, так и сделаем, ведь похороны придется отложить до окончания следствия, а это, как я выяснил, займет несколько дней, ибо сейчас коронер в отъезде. Надеюсь, доктор Бруно, вы сможете задержаться в Оксфорде и дать показания?
Вместо ответа я протянул ему листок с вырезанной из книги цитатой.
– Вам это знакомо?
Доктор Андерхилл низко наклонился, вчитываясь в мелкий шрифт, затем поднял голову и уставился на меня с недоумением и страхом.
– Пшеница Христова, – прошептал он. – Игнатий. Что это такое?
– Значит, это цитата из Фокса?
Он все так же замедленно кивнул.
– Мученичество святого Игнатия – епископа Игнатия Антиохийского, как мы теперь говорим, – пострадавшего при императоре Траяне. Фокс приводит его последние слова перед тем, как его бросили на съедение хищникам. – Он вернул мне листок; рука его дрожала, но лицо, как мне показалось, стало злобным.
– Этот листок подсунули мне под дверь, пока я был на диспуте. Видимо, кто-то хочет привлечь внимание к характеру смерти доктора Мерсера.
– Изуродовав книгу? У кого на нее рука поднялась? Боюсь, я вас не очень понимаю, доктор Бруно.
– Это уж как всегда, – проворчал я, но вовремя вспомнил, что следует соблюдать вежливость. – Сегодня утром Роджера Мерсера заперли в саду с изголодавшимся псом, чему мы с вами оба свидетели. Вполне вероятно, кто-то заманил доктора Мерсера в сад под предлогом важной встречи и натравил на него пса. Возможно, этим он хотел кощунственно спародировать сцену мученичества. И вот теперь этот кто-то оставляет мне послание, чтобы не оставалось никаких сомнений: ему известно, почему Роджер Мерсер умер именно такой смертью, а может быть, известен и сам постановщик.
Андерхилл отчаянно замахал руками, призывая понизить голос и тревожно оглядываясь на дверь кабинета. Он явно был напуган до смерти. Но, надо отдать ему должное, сумел-таки собраться, придать лицу спокойно-достойное выражение и даже засмеяться, правда, хриплым, нервным смешком.
– Господи, ну и фантазия у вас, итальянцев! – покачал он головой. – Боюсь, что в смятении и страхе от разыгравшейся перед нами трагедии мы поспешили с выводами. Да, мы сами себя запугали. Непозволительно, чтобы эмоции брали верх над рассудком, чтобы естественные для нормального человека потрясение и скорбь превратили несчастный случай в невероятный вымысел. Что же до этой бумажки, то похоже, кто-то шутит над вами, дразнит ваше и без того воспаленное воображение, чтобы потом посмеяться над вами. Советую вам не поддаваться.
Я отвернулся от него. Чтобы сдержаться и не наорать на этого напыщенного идиота, я вонзил себе ногти в ладони.
– Я – очевидец, доктор Андерхилл. Я осматривал тело Роджера Мерсера и место трагедии, пока вы, как баба, блевали на свои башмаки. Мои показания будут гораздо более весомыми, чем ваши.
Он уже не скрывал враждебности:
– Неужели? Показания иностранца? Католика? Уличенного колдуна, человека, который открыто заявляет, будто Земля вращается вокруг Солнца?
Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и сгоряча не вмазать ему как следует, а затем распахнул дверь.
– Спасибо, что уделили мне время, ректор. Не смею более надоедать вам.
– Одну минуту, Бруно. Ваши итальянские обычаи мне неизвестны, однако в Англии считается неприличным, чтобы незамужняя девица из хорошей семьи беседовала наедине с мужчиной, пусть даже с джентльменом. А потому я запрещаю вам впредь приватно беседовать с моей дочерью. – Он торжественно сложил руки на груди.
– При всем уважении к вам, ректор, вряд ли вы можете командовать мной, словно одним из студентов. Но если хотите, наймите и для меня гувернантку, пусть научит меня приличному поведению. Мне бы это пригодилось. – И, подмигнув напоследок, я прикрыл за собой дверь, чувствуя, как бьется сердце.
Слуга Адам подал мне плащ и пожелал спокойной ночи – почти оскорбительным тоном. Я вырвал у него плащ и ринулся к двери: задержись я среди этих несносных людей еще на минуту, боюсь, могло бы произойти второе убийство.
Глава 8
В воскресенье я проснулся перед рассветом и долго лежал на своей узкой жесткой кровати, следя, как в щель между шторами постепенно проникают и растекаются по потолку лучи бледного света. Спал я дурно: возмущение против Андерхилла и его коллег не давало мне покоя. Я пришел к выводу, что мне нет смысла оставаться в Оксфорде – ни ради высокого гостя, ни ради следствия. Как только рассветет, решил я, заберу своего коня из ректорской конюшни и отправлюсь в Лондон. Ничего полезного для Уолсингема мне разузнать не удалось, и вряд ли он благосклонно примет мои объяснения, – решит, что я, потерпел публичное унижение и с досады поспешил покинуть университет. Однако мне столь явно дали понять, что здесь я нежеланный гость, что у меня пропала всякая надежда завоевать доверие членов колледжа и добыть здесь хоть какие-то сведения.
Со вздохом я перевернулся на другой бок, закутавшись в простыню от утреннего сквозняка, и мысли мои вновь обратились к дочери ректора. Ночью я долго не мог заснуть, думая о ней. Только ради нее одной и стоило бы остаться в Оксфорде – из-за нее же имело смысл и поскорее уехать. Давно уже я не был так близок с женщиной, как с Софией в тот миг, когда она едва не упала мне на руки, и теперь мучительная тоска сжимала мне грудь. Дорого бы я дал, чтобы узнать, чувствовала ли она в тот момент то же самое. Во время нашего разговора были такие моменты, когда ее взгляд встречался с моим, и мне казалось, она как будто просит меня прочесть что-то в ее глазах; впрочем, я понимал и другое: мне, гостю ее отца, нужно соблюдать величайшую осторожность и деликатность.
И еще одно: она с презрением, хотя и с сочувствием говорила о зависимости своего отца от покровительства влиятельных людей, – а разве я сам не находился в таком же точно унизительном положении? У меня не было никакой собственности, не было средств на женитьбу и содержание семьи; ничего я не мог предложить молодой девушке из приличной семьи, разве что свою любовь, а этот товар отцы недорого ценят. Я не мог ухаживать за Софией, ибо не мог сделать ей предложение. И хотя достаточно было мимолетного прикосновения в той комнате, перед камином, чтобы желание властно пробудилось во мне, я прекрасно понимал, что не стану даже пытаться соблазнить эту девушку – слишком она мне нравилась и слишком я ее уважал. Другое дело, что я всей душой стремился еще раз увидеть ее, но чего я от этого ждал – и сам не мог бы сказать. Одна картина неотвязно стояла у меня перед глазами: как изменилось ее лицо в тот миг, когда я показал ей Коперникову диаграмму, как промелькнуло в ее взгляде узнавание, когда она увидела тот символ-колесико. Что она знала и как мне завоевать ее доверие?
Все громче пели за окном птицы. Я откинул простыни, подошел к окну, раздвинул шторы и окинул взглядом внутренний двор колледжа. Ранний розовый свет вспыхивал то и дело на небе между рваными тучами. Дождь на какое-то время стих, но поди знай, осталась ли проезжей дорога на Лондон после двух дней непрерывного ливня.
Ночная влага еще блестела на камнях двора, в мелких лужицах отражались лучи солнца. Стоя у окна, я не мог разглядеть стрелки башенных часов, но решил, что пора одеваться: как только в колледже начнется жизнь, можно будет спросить у Коббета, как мне получить моего коня. Стоит ли официально прощаться с ректором? Я мог бы сказать ему, что меня ждут в столице неотложные дела, однако опасался услышать, что закон обязывает меня оставаться в университете, пока я не дам показания коронеру. Нет уж, лучше удрать, а потом сослаться на то, что здешние правила мне были неизвестны. И пусть Андерхилл не думает, что это он изгнал меня как беса. Только, покидая Оксфорд, нужно было бы, пожалуй, оставить записку Сидни.
Приняв окончательное решение, я отошел от окна, но в последний момент краем глаза подметил какое-то движение во дворе: фигура в черном плаще, с низко опущенным капюшоном поспешно вывернула из-за угла здания и растворилась под башенной аркой. Я не успел разглядеть этого типа, но инстинктивно напрягся. Интересно, кто это тут рыскает в столь ранний час? Я схватил рубашку, но вовремя спохватился: ведь я же решил – все, что происходит в колледже, все его секреты, кто тут и где бродит по ночам и возвращается по утрам, меня не касается. Сегодня я уезжаю. Вполне вероятно, что в колледже прячется убийца, но пусть достопочтенные профессора сами разбираются. Я пытался обнаружить истину, но что получил в награду? Презрение и угрозы. Больше я не желаю иметь с этим ничего общего.
Я, уже не спеша, натянул рубашку и штаны. Зазвонил колокол – печально, негромко звал он на заутреню, а я только теперь почти с ужасом сообразил, что наступило воскресенье. Все слуги отпущены, – кто подскажет мне, в какой конюшне стоит мой конь? Но даже если я найду его, с ним придется расстаться в Виндзоре, откуда мы выехали верхами. А как я доберусь из Виндзора в Лондон без спутников и в праздничный день? Кроме того, теперь в безжалостном свете занимавшегося дня бегство представилось мне малодушным; более того, сам план был неразумен и практически неосуществим.
На маленьком столике стоял кувшин для умывания. Я поплескал себе воды в лицо. Что ж, если придется пробыть в колледже еще день, попробуем извлечь из этого хоть какую-то пользу и начнем с посещения часовни. Англиканская служба как таковая меня мало интересовала – меня и католическая-то месса не вдохновляла, несмотря на то что паписты хотя бы старались создать пышное, театральное зрелище, англиканская же служба казалась мне безвкусной и пресной, как непропеченное тесто. Тем не менее надо пойти: в часовне соберутся все обитатели колледжа, у меня будет возможность присмотреться к ним, и, если среди них будет тот, кто подсунул мне под дверь загадочное сообщение, он, хотелось бы надеяться, выдаст себя чем-нибудь – хотя бы взглядом или жестом. Заканчивая умывание, я вновь с досадой подумал об этом таинственном информаторе: если человеку есть что сказать, отчего бы не выражаться яснее?
За ужином в первый вечер Джеймс Ковердейл упоминал, что ректор читает проповеди по книге Фокса; если убийство Роджера Мерсера представляло собой извращенную пародию на мученичество, в чем аноним, видимо, пытался меня убедить, вполне вероятно, что именно проповеди ректора подсказали ему идею преступления. А если так, вполне вероятно, что преступник явится на службу. От этой мысли я вздрогнул, но продолжал одеваться. Надел башмаки и под заунывный звон колокола поспешил вслед за облаченными в черные мантии фигурами к арке северного крыла. Когда я проходил под часами, было без нескольких минут шесть.
Часовня занимала большую часть первого этажа по правую руку от арки. Вместе со студентами и преподавателями я поднялся по сумрачной лестнице, освещенной лишь подвешенным под потолком светильником. У двери я заметил чашу для святой воды; сама вода в ней давно уже высохла. Пол в скромной, выбеленной комнате с деревянными балками под потолком был устлан камышом, в дальнем ее конце, напротив входа, стоял небольшой алтарь, по правую руку от алтаря – кафедра.
Вдоль стен и на алтаре горели свечи. Собравшиеся рассаживались на жестких дубовых скамьях – интересно, эти сиденья специально делают такими неудобными, чтобы прихожане не уснули во время службы? В узкие сводчатые окна без витражей бил яркий утренний свет, играл бликами на белой известке стен и на длинных темных волосах Софии Андерхилл – она заняла место в переднем ряду, напротив кафедры, под бдительным присмотром отца. Спасибо и на том, что он пускает ее в часовню вместе со студентами: наверняка ее присутствие отвлекает молодых людей от благочестивых мыслей. Возле Софии сидела ее мать, – узкие плечи, спина сгорблена, виден только прикрывающий волосы белый чепец. Рядом с женщинами и позади них в передних рядах расселись преподаватели, далее – студенты постарше, те, кому вскоре предстояло сдавать магистерский экзамен или защищать диссертацию; у самой двери места для младших. Я стоял в дверях, раздумывая, где положено сидеть мне, и заодно имел возможность прикинуть количество членов колледжа. Всего их было человек тридцать, и, поскольку все они жили вместе и все были друг у друга на виду, неудивительно, что кто-то из них лучше других знал подоплеку вчерашней трагедии.
Окинув взглядом помещение, я заметил среди молодежи Томаса Аллена и Лоренса Уэстона. Однако где же Норрис и его горлопаны-дружки, с которыми он вчера приходил в таверну? Похоже, и от утренней службы богачи могут откупиться, как и от прочих университетских правил. Уильям Бернард и Ричард Годвин, библиотекарь, сидели в переднем ряду, Джона Флорио я разглядел подальше, в центре, он о чем-то оживленно болтал с соседом. Больше я ни с кем не был знаком лично, однако тот, кто меня интересовал, вполне возможно, и не входил в число представленных мне членов колледжа. Но он, несомненно, был здесь своим человеком, раз так легко нашел мою комнату. Я прошел внутрь и оглянулся на задние ряды: сидевшие там юнцы без любопытства встретили мой взгляд. Эти английские мальчишки все с виду одинаковы – бледные, беспокойные, недокормленные какие-то. Возможно, один из них что-то знал и хотел сообщить мне, но боялся. Но – который из них?
Я хотел устроиться так, чтобы со своего места видеть все собрание, однако Годвин приметил меня у двери, с улыбкой поманил к себе и указал свободное сиденье в переднем ряду. Отказаться было бы неприлично. Под взглядами десятков глаз – я чувствовал, что и София смотрит на меня, – я прошел по центральному проходу в передний ряд и уселся подле Годвина. Тот шепотом приветствовал меня и вновь склонил голову в молитве. Уолтер Слайхерст и Джеймс Ковердейл отсутствовали. Ректор прошествовал от двери к алтарю в сопровождении четырех юношей в белых облачениях певчих, и все дружно встали.
Я поднял голову и встретился взглядом с ректором. Возможно, он удивился моему появлению среди протестантов или же пожалел о вчерашней своей резкости, однако на его лице ничего не выразилось. Он склонился и начал молитву.
– Господи, отверзи уста мои! – провозгласил он, и все собрание прилежно отвечало:
– И уста мои возгласят Тебе хвалу!
Я не был знаком с чином англиканского богослужения, а потому произносил ответы шепотом, чтобы мои невольные ошибки не привлекали внимания. Годвин вышел к кафедре и прочел отрывок из Евангелия от Матфея, затем он сел, и хор на четыре голоса спел по-английски Те Deum Laudamus [21]21
Тебя Бога хвалим (лат.).
[Закрыть]– простенько, но так, что почему-то брало за душу.
– Джентльмены! – решительно заговорил ректор, уставившись поверх голов присутствующих. – Джентльмены, вчера наша маленькая община была поражена неожиданным трагическим событием. Я знаю, что гибель Роджера Мерсера, постигшая его в тот час, когда он гулял и молился в саду, до глубины души потрясла всех нас. Я также знаю, что подобные страшные события настолько возбуждают сознание, что люди, потрясенные несчастьем, чересчур легко поддаются всевозможным нелепым вымыслам и слухам. – Тут он метнул на меня взгляд, острый и такой быстрый, что большинство, вероятно, этого не заметило. Доктор Бернард захрустел костяшками пальцев, и этот хруст раскатился в мертвой тишине часовни.
– Было бы гораздо полезнее, – продолжал ректор, возвышая голос, словно перед ним сидело не тридцать человек, а три сотни, – если бы вместо бесплодных сплетен мы извлекли из этой трагедии урок, сосредоточив наши помыслы на краткости земной жизни и ожидающей нас всех вечности, и поразмыслили о том, какими мы сами в скорости предстанем пред Господом. Давайте же простимся с Роджером, как подобает, но обратим его смерть себе на благо и зададимся вопросом: если бы смерть поразила нас сейчас, в сей миг, кто мог бы встретить ее с уверенностью в спасении?
– Можно подумать, он предвидит еще одну смерть, – шепнул я Годвину; Андерхилл пронзил меня гневным взглядом, хотя и не мог расслышать мои слова, стоя за кафедрой.
– А теперь, как и в прошлые воскресенья, обратимся к повествованию мастера Фокса о мучениях первых христиан, наших предков, которые пострадали за веру в те дни, когда Церковь была чиста и едина. Мы не поклоняемся им, словно идолопоклонники, и не именуем святыми, как делает это Римская церковь, ибо они были обычными, подобными нам мужчинами и женщинами. Но их вера является высоким образцом истинной веры, и мы все должны стремиться к тому же. Нам подобает знать древнюю и прекрасную историю страданий во имя Христово, ибо первые христиане в наш беспокойный век служат примером твердости в вере и для мучеников Реформации. Ныне, вспоминая житие Альбана, первого из британских мучеников, зададимся вопросом: на самом ли деле твердость в вере остается первейшим благом в наших душах? Ибо настали трудные времена, друзья мои. – Он еще более возвысил голос, всем телом подавшись вперед и суровым взглядом пронзая своих «друзей». – Церковь Британии осаждают со всех сторон те, кто хотел бы вновь привести нас под власть Рима. Вы, молодые люди, сидящие здесь передо мной, вы – будущие вожди Церкви и государства. Именно вам предстоит отстаивать свободу и независимость государства и Церкви в грядущие годы. Достанет ли вам решимости даже перед лицом смерти? Будете ли вы защищать нашу свободу от тех идолопоклонников и тиранов, которые попытаются отнять ее у нас? Молюсь, чтобы вы были готовы к этому.
В задних рядах слышался какой-то шорох и шум: юноши подтягивались и горделиво выпячивали грудь, отвечая на этот воинственный призыв. Тон Андерхилла мне не нравился, он явно отдавал фанатизмом; вместе с тем содержание его речи напомнило мне слова Уолсингема.
В целом это больше напоминало лекцию, чем проповедь, но я с удивлением обнаружил, что ректор гораздо лучше толкует чужой текст, нежели излагает в публичном диспуте свои собственные идеи. Впрочем, своих идей я у него как раз и не обнаружил.
Под его занудную речь я до такой степени погрузился в размышления, что прослушал, как он произнес заключительные слова службы, и очнулся лишь от дружеского толчка Годвина: все вокруг уже поднимались.
Ректор и хористы гуськом двинулись к выходу, прихожане разминались, тоже собираясь уходить. Какой-то ярко-рыжий веснушчатый мальчишка, на вид совсем еще ребенок – даже странно, как это мамаша отпустила его в университет, – возился у алтаря, убирая утварь, закрывая оставшуюся на алтаре огромную Библию, гася свечи. София прошла мимо меня, улыбнулась и что-то хотела сказать, но ее мать, заметив это движение, решительным жестом ухватила дочь за руку и повлекла к двери. На ходу София оглянулась через плечо, и мне показалось, будто она о чем-то просит меня взглядом; возможно, и впрямь показалось.
– Простите, что столь бесцеремонно толкнул вас, доктор Бруно, – шепнул мне Годвин, – но я опасался, что вам нелегко следить за ходом нашей службы. Должно быть, она вам совершенно незнакома.
Рыжий мальчишка, прибрав у алтаря, подошел к нам и передал Годвину последнюю свечку, чтобы мы могли светить себе по дороге.
– Не то чтобы совсем незнакома, – усмехнулся я. – Вы все-таки немало у нас позаимствовали.
Мой собеседник вежливо негромко рассмеялся.
– А как вам понравился наш маленький хор? – жизнерадостно спросил он, провожая меня к двери и согнутой ладонью защищая мерцающий огонек свечи от сквозняка.
– Доводилось мне слышать большие хоры, которые куда хуже справлялись с пением псалмов, – искренне ответил я.
– Композиция мастера Берда, придворного композитора ее величества, – радуясь похвале, сообщил мне библиотекарь.
– Кажется, он и сам католик?
Годвин смутился:
– Ну да, да. Но не этим же он мне нравится, – поспешно оговорился он. – Если уж королева терпит этого еретика ради его прекрасной музыки, мы тоже можем проявить терпимость.
– Разумеется. И еще меня восхитило ваше чтение: вы передаете евангельский текст с истинно поэтическим чувством. – Я постарался вложить в свои слова как можно больше пыла.
– Благодарю вас. Вообще-то это обязанность заместителя ректора, но, поскольку доктор Ковердейл не явился сегодня на заутреню, ректор в последний момент попросил меня заменить его.
Годвин не пошел за студентами вниз по лестнице, а пересек площадку, открыл деревянную дверь напротив входа в часовню и, одной рукой все еще прикрывая пламя свечи, поманил меня за собой.
– Помнится, вы интересовались нашей библиотекой, доктор Бруно. Не хотите ли заглянуть, раз уж мы здесь? Если только вы не спешите завтракать, – заботливо добавил он.
Он передал мне свечку и вытащил из-за пояса связку ключей, нащупал самый крупный из них.
– С радостью, – ответил я, следуя за ним, хотя в тот момент меня больше занимало отсутствие доктора Ковердейла. – Значит, доктор Ковердейл отлучился из университета?
– Не знаю, он никого не предупредил, – сердито ответил Годвин, поворачивая ключ в замке. Дверь заскрипела, застонала, открываясь, как будто обидевшись, что ее потревожили.
Я припомнил, как накануне во время диспута какой-то мальчишка прибежал за Ковердейлом, и тот, по словам Коббета, примчался обратно в колледж так, словно за ним гнались. Однако привратник не говорил, что Ковердейл затем вновь ушел. Может быть, он незаметно ушел ночью или на рассвете? Не связано ли это как-то с предстоящим расследованием или с теми угрозами, которые мне пришлось выслушать от него?
– Странно, что и казначея, мастера Слайхерста, тоже не было на службе, – как бы между прочим заметил я.
Годвин прикрыл дверь и небрежно махнул рукой.
– Слайхерст часто отлучается по своим должностным обязанностям. Он должен регулярно осматривать недвижимость колледжа в разных концах графства, а ведь до иных несколько дней пути верхом. Думаю, нынче утром он отправился в Бэкингсмшир, а завтра вернется. А вот и наша библиотека! – Он широко раскинул руки, словно пытаясь единым жестом охватить свои владения, и поощрительно улыбнулся мне: давай, мол, высказывай восхищение.
Библиотека располагалась в первом этаже северного придела напротив часовни и несколько уступала ей в размерах. Внешне оба помещения были схожи: те же деревянные балки под потолком, тот же камыш на полу. Здесь сохранилась обстановка прошлого столетия: длинные деревянные кафедры, за которыми читатели стоя могли изучать огромные фолианты, прикованные для верности медной цепью к медному же шесту, стоявшему между кафедрами. В углах горели фонари, закрепленные под сводчатым окном; вдоль стен комнаты стояли деревянные скамьи, а в дальнем конце еще и низенький столик у окна с видом на двор. Годвин подошел к столику, положил ключи, затем взял у меня из рук свечку.
– Вас интересует какая-нибудь книга в особенности, доктор Бруно, или для начала показать вам самые ценные наши манускрипты? – спросил он, обернувшись ко мне через плечо, в то время как сам уже шел вдоль рядов, педантично зажигая свечу за свечой.
– Полагаю, этим ваше собрание не исчерпывается? – указал я на прикованные к столам книги.
– Ну конечно же нет, здесь только ценные старинные тома, которые полагается хранить таким образом, – стыдно сказать, но мы опасаемся воров. Здесь находятся книги, которыми чаще всего пользуются студенты. В основном это сочинения по схоластическому богословию, и все они представляют собой величайшую ценность. Большинство подарены нам нашим первым покровителем.
– Декан Флеминг привез их из Италии, – сказал я, кивнув. – А где вы прячете запрещенные книги?
Годвин отшатнулся, побледнел и вытаращился на меня. Похоже, я не на шутку его напугал.
– Нет у нас никаких запрещенных книг, доктор Бруно. О чем это вы?
– Полно, мастер Годвин, – воскликнул я и легкомысленно махнул рукой: мол, ничего особенного не имел в виду и никого не хотел обидеть. – В любом университете есть книги, которые убирают подальше с глаз молодежи. Книги, доступные пониманию лишь старших членов университета.
Годвин вздохнул с видимым облегчением.
– А, ну да, конечно, у нас есть немало книг, которые выдаются только преподавателям, и они уносят их к себе в апартаменты, чтобы там читать без помех. Мы держим их в ларях в той комнате. – Подойдя к стене позади письменного стола, он отворил в ней маленькую, почти незаметную дверцу; по другую сторону дверцы в слабом мерцании свечей можно было разглядеть полутемную комнату и большие сундуки вдоль стен. – А я уж было подумал, вы о еретических книгах ведете речь, – со смущенным смешком добавил библиотекарь.
– Нет-нет, те, как я понял, королевские эмиссары конфисковали и уничтожили много лет тому назад.
Годвин печально кивнул.
– В шестьдесят девятом году прошла большая чистка университетских библиотек. Все, что уцелело во время прежних чисток, – при отце ее величества, при ее брате и сестре, – забрали и уничтожили. Между нами говоря, ничего особенно еретического в тех книгах не было, но после католического разгула в царствование Марии Кровавой университеты попали под подозрение, и всем колледжам пришлось избавляться от любого сочинения, которое могло показаться хоть сколько-нибудь неортодоксальным. К сожалению, в ту пору и наше собрание пострадало.
– Понятия о ереси меняются в зависимости от того, кто приходит к власти, – поддакнул я. – И что же стало с этими опасными книгами?
Библиотекарь посмотрел на меня с недоумением, как будто сам он никогда не задумывался над судьбой конфискованных книг.
– Полагаю, их сожгли, хотя публичной церемонии не было. Продать их не могли, поскольку они были внесены в список книг, запрещенных для чтения. Я в ту пору был студентом, так что не очень-то обращал внимание на происходящее – потел над греческим, старался поменьше думать о девочках. Но если бы у нас тут сложили костер из книг, такое я бы запомнил. – Он ностальгически улыбнулся. – Вы бы спросили Уильяма Бернарда, в то время он был здесь библиотекарем.
Это уже была ценная информация, и я удивился, отчего Бернард ни словом не обмолвился о своей прежней должности во время того разговора о книгах за ужином у ректора. Сообщение меня взволновало: кто знает, этот вспыльчивый старикашка вполне мог утащить в свое логово драгоценные книги, которые сочли слишком опасными для студентов, предназначенных стать высшими чиновниками и определять будущее Англии? Да, был шанс, хотя и весьма призрачный, что среди этих скрываемых сокровищ, если таковые здесь вообще есть, обнаружится и рукопись, купленная за сто лет до того деканом Флемингом у некоего флорентийского книготорговца, – книга, смысла и цены которой покупатель себе не представлял. Почему же Уильям Бернард столь яростно отрицал даже саму возможность нахождения ее в университете?
Я глубоко вздохнул и попытался скрыть свое волнение от библиотекаря. Я понимал, что, скорее всего, книги в колледже нет, – но имел же я право надеяться? Единственный, кто мог ответить, находилась ли греческая рукопись, не внесенная в каталог, среди приобретенных деканом книг, – это Уильям Бернард: он дольше других работал в колледже, он читал по-гречески и, попадись манускрипт ему в руки, уж он бы понял, что это такое. Проблема в том, как заставить его довериться чужаку – нравный старик и так отнесся ко мне с подозрением: как же, иностранец, да еще и безбожник.
Годвин тем временем зажег последнюю свечу и обернулся ко мне, словно гостеприимный и слегка озабоченный хозяин.
– Хотите посмотреть наш экземпляр De Officiis [22]22
Об обязанностях (лат.).
[Закрыть]Цицерона, который декан Флеминг скопировал собственноручно? – предложил он, указывая мне рукой на одну из дальних кафедр. – Я зажег свечи, потому что даже по воскресеньям многие студенты любят посидеть тут, позаниматься, тем более что младшим не разрешается брать книг с собой.
– А нет ли в вашем собрании книги мастера Фокса? – по возможности небрежно осведомился я.
– «События и памятники»? – удивился Годвин. – Да, есть издание пятьсот семидесятого года, вторая редакция. Не уверен только, здесь книга или на руках. Она вам нужна?
– После утренней проповеди ректора хотелось бы заглянуть в текст.
– Можете почитать, – неуверенно кивнул Годвин, – однако, боюсь, Фокс не слишком-то благосклонен к вашим единоверцам. Однако я вынужден просить вас читать здесь, выносить книги дозволено только членам колледжа: это как бы некоторая гарантия, на случай если книга пострадает.
– Кому гарантия? – пошутил я. – Книгам или читателям?
Годвин любезно рассмеялся, а затем подвел меня к большому сундуку в задней комнате. Пока он, наклонившись, доставал оттуда стопки книг, я огляделся по сторонам и заметил сундук поменьше, спрятанный в угол да еще и запертый на замок. Годвин аккуратно разложил тома на полу, затем снова нырнул в сундук и вытащил толстый фолиант в простом переплете.
– Я видел эту книгу в Парижской библиотеке, – сказал я, принимая ее из рук библиотекаря, – но тогда только пролистал. Сейчас же проповедь ректора пробудила во мне любопытство. Скажите, житие Игнатия также включено в рассказы о первых мучениках?







