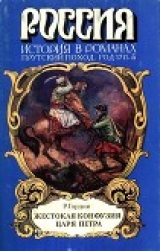
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Глядите, глядите, царь подгребает к купальне!
Господа неспешным шагом отправились к новоявленной пристани, где царь ошвартовал свою «Царицу». Предстояло торжественное освящение новопостроенного судна с последующим катанием, равно и с распитием вин и водок.
– Господа! – воззвал Пётр. – Добро пожаловать на «Царицу». Ветер поднялся, всё благоприятствует плаванию. Будем крейсировать меж островов.
– Ежели удастся, – довольно дерзко вставил Макаров.
Охотников нашлось немного. Похоже, шляхтичи не доверяли корабелостроительному искусству русского царя. Тем паче что плавать они не умели, а вода была чуждой стихией.
На скамьях разместились царица с княгиней Долгоруковой, боярышни и комнатные девушки, министры и денщики. Посадка прошла благопристойно. Пётр с силой оттолкнулся, и «Царица», слегка покачиваясь, медленно отплыла. Парус постепенно расправлялся, и вот уже ветер наполнил его.
Впервые со времени отъезда Пётр испытывал чувство, похожее на счастье. Всё дурное, всё тяготившее его – мысли о войне, худые вести от Шереметева, неготовность интендантской службы, пустые магазины, напустившиеся на него недуги, – всё-всё отошло, сгинуло и, казалось, более не вернётся.
Ровная озёрная гладь манила. И призывными загадочными приютами разлеглись вдали зелёные островки. Бывал ли кто там, живал ли зверь либо птица?..
Все на борту «Царицы» молчали точно заворожённые. То ли замкнули языки необычность и новизна происходящего, то ли опасение какой-нибудь неожиданности. Дамы опасливо смотрели то в воду, то под ноги, мужчины устремили взоры вперёд.
Подошли к острову. Он был наибольшим, а может, это только казалось. Пётр маневрировал парусом, обнаруживая и ловкость и навык. Наконец бот уткнулся в небольшой заливчик. Царь проворно выскочил на берег и, натужившись, подтянул бот. А потом самолично принимал на руки повизгивающих девиц и робевших дам и помогал сойти неловким министрам.
Островок оказался необитаем и вполне приспособлен для пикников. Рослые деревья стражею окружали его со всех сторон. А в центре, словно бы нарочито устроенная, лежала зелёная лужайка, представлявшая об эту пору сплошной цветущий ковёр. Зайцы прыскали в разные стороны прямо из-под ног, их было множество, и, как видно, они чувствовали себя здесь в полной безопасности.
Пётр вёл себя совершенно не по-царски: вприпрыжку гонялся за зайцами, потом легко приподнял Екатерину и, не внимая протестам, опустил её в цветущий ковёр и сам прилёг рядом. Он блаженствовал ровно отрок и не испытывал никакого стеснения.
Вокруг были свои, привыкшие к простецким, а порой и озорным выходкам своего повелителя. А потому не удивлялись и не конфузились. Однако мало кто из них осмеливался давать волю своим чувствам. Даже царицыны боярышни вели себя чинно. Но в конце концов царь их расшевелил. И девицы, подхватив юбки, принялись гоняться друг за дружкой.
– Человек остаётся человеком даже взошед на самую вершину власти, – вполголоса произнёс Шафиров, обращаясь к Головкину.
– Да, ежели он и в самом деле человек, – отозвался Гаврила Иванович.
Говоря это, он думал не о царе, а о себе. Гаврила Иванович был человек непростой и с самомнением. Порой самомнение брало верх, и тогда он бывал непомерно важен. В такие минуты Пётр над ним подтрунивал, и Головкин сникал, даже опасался, не лишил бы царь его канцлерства.
– Почаще гляди на себя в зеркало, – наставлял его Пётр. – Что изнутри в тебе деется, то в наружности отражается.
Головкин глядел в зеркало и видел в нём рыцаря Печального Образа, то есть Дон Кихота ликом. Канцлер был человек начитанный, в библиотеке его был немецкий перевод романа испанского сочинителя Сервантеса. Будучи в Берлине, он приобрёл эту книгу, и так как то посещение было весьма памятно ему по причине Пожалования его величеством королём Фридрихом прусским редкого ордена Великодушия, то роман тот он прочёл с великой прилежностью. Что сказать? Он чувствовал себя рыцарем великодушия и потому с особой гордостью нацеплял на себя золотой крест с голубой эмалью, увенчанный курфюршеской шляпой, с надписью: «Ля женерозите». Самомнение, однако, первенствовало, а великодушие убывало и убывало. Тощий, длинный и нескладный, Головкин становился желчным, завистливым скупцом. Тем не менее царь ценил его за здравый смысл и таковые же советы, почитая желчность канцлера полезной.
Гаврила Иванович и в царе видел многие недостатки, но благоразумно помалкивал, хотя его повелитель не прятал ни своих достоинств, ни своих недостатков.
– Прост наш государь, чрезмерно прост, – бормотал он сейчас, глядя на царские вольности. – Мыслимое ли дело оказывать себя среди вельможных особ в плотницком деле либо в кувыркании. Всё ж таки царь всея Руси...
– Человек, – отозвался Шафиров. Он глядел на царя с умилением и обожанием, хотя и побаивался его. Эти его чувства можно было понять: Пётр был благодетель его семейства. Он, можно сказать, вытащил батюшку и его из грязи – из лавочных сидельцев – если не в князи, то в бароны. Такое при любом царствовании было немыслимо, ежели принять во внимание иудейское происхождение Шафировых. Однако же царя Петра занимало более всего не происхождение, а умение, способности, познания, преданность делу...
– Да-с, человек, и это допрежь всего, – повторил Пётр Павлович.
Он было взялся развивать свою мысль, но царь внезапно поднялся, давая знак к отплытию, и они отправились в обратный путь.
Приём следовал за приёмом, званый обед за обедом. На свидание с царём прибывали сановные особы. Не теряли надежды всё-таки увидеть и короля Августа. Оплакивали цесаря Иосифа австрийского. Более всего печалился канцлер: цесарь произвёл его в графы Римской империи четыре года тому.
– Помер в младых летах, – скорбно наклонив голову, печалился Головкин. – В возрасте Христа, тридцати трёх лет.
– Бог прибрал, – односложно констатировал князь Ракоци. Он-то вовсе не предавался скорби. Смерть Иосифа оживила надежды на перемены к лучшему и в его положении, и в положении восставших венгров.
Пётр угадал мысли Ракоци – это было несложно – и как бы между прочим заметил:
– Сильно опасаюсь, князь, что положение ваше не изменится: у покойного цесаря сердитые наследники.
Разговор этот вёлся за обедом в апартаментах царя. После этой реплики Петра за столом воцарилось молчание. Обмысливали последствия смерти Иосифа. Многое могло перемениться в мире, и прежде всего в войне за испанское наследство, которая тянулась более десяти лет. Покойный император был главным ненавистником венгров, ибо боялся потерять венгерскую корону, возложенную на него отцом в одиннадцатилетнем возрасте. Пётр же надеялся, что преемник Иосифа ужесточит свою турецкую политику. Пока что в начавшейся войне у него практически не было союзников, хотя Оттоманская империя была вековечным врагом европейских народов. Август? О, это ветреник, а не союзник. Пётр хотел вдохнуть в него хоть сколько-нибудь решимости: султан в союзе с Карлом представлял прямую угрозу его владениям, оба они могли согнать его с престола.
Мысли эти были досадительны. Он был намерен вытрясти из Августа обещание помощи, как бы он ни увёртывался, как бы ни ускользал. Хоть бы двадцать тысяч солдат выставил – всё благо. Потому и оттягивал свой отъезд из Яворова: полагал, что Август усовестится и ответит на его призывы.
Август, однако, не усовестился и прислал объявить, что в Яворов не прибудет, а о месте свидания известит особо.
Пётр поначалу взъярился, а потом неожиданно утих. Он останется в Яворове и станет ходить под парусом – эка благодать – до той поры, когда король не соизволит позвать его.
Худой союзник, худой. Но, увы, иных нету. Датский король Фердинанд не лучше. Остальные тайно враждебны, явно же дружелюбны – всё-таки его опасаются. Он бы предпочёл, чтобы было наоборот, а то так и не ведаешь, какие козни строит король Солнце, либо римский цесарь, либо Анна, королева английская...
О кознях всё равно доносят – конфиденты и благожелатели, тайное становится явным. Слава Богу, в доношениях такого рода недостатка нету: в доброхотных ли, в купленных – всё едино.
Князь Радзивилл, гетман Сенявский, князь Ракоци и иные вельможи любили сладко есть и сладко спать, а потому вставали поздно. И добро. Он, Пётр, уже в четыре утра, когда белёсая полоса только обозначалась на востоке, был уже на ногах.
Брал с собою двух денщиков – царица почивала на своей половине. В парке шли отчаянные турниры соловьёв. От воды тянуло запахами водорослей, рыбы, она чуть светлела, пробуждаясь вместе с утром.
Пётр ставил парус, а потом по его команде денщики отталкивали бот, и вот уже утренний ветер раздувал брезентовое полотнище, и бот ходко устремлялся вперёд, к дальним пределам.
Один, один! И парус, выгнувший грудь, и озеро, кажущееся безбрежным, и солнце, ещё прячущееся где-то за горизонтом, – всё для него одного. И нет любопытствующих, вечно чего-то ожидающих глаз, которые сопровождают его во всё время странствий. Быть одному среди природы, среди её возвышающей тишины – не есть ли в этом великая милость и столь же великая истина?!
С каждым днём Пётр чувствовал, что эти утренние часы наедине с озером всё более отдаляют его от цели – цели отталкивающей, тревожащей, пагубной, душегубной... Остаться бы здесь подольше... шёл к концу месяц в Яворове, а он так и не насытился им...
Наконец военные обстоятельства взяли его в оборот. Курьеры с доношениями являлись каждый день, одолевая немыслимые расстояния и столь же немыслимые опасности. Вести становились всё тревожней. Великий визирь с бессчётной армией двигался к Дунаю. И будто бы застиг турок великий шторм. И ветер будто бы переломил древко и изодрал в клочки зелёное знамя пророка. Визирь пришёл в смущение и не знал, как быть дальше. В том якобы заключалось предзнаменование, данное от Спасителя...
Весть не особо утешительная. Пётр трезво относился ко всякого рода предзнаменованиям. Однако на всякий случай спросил Прокоповича:
– Как думаешь, Феофане, истинно ли то знак от Господа?
Феофан был скептичен и мыслил трезво, несмотря на своё монашество. Но как сказать царю, что знак знаком, но всё зависит от воинской готовности, от распорядительности тех, кто поставлен во главе войска.
– Господь, наш повелитель, всемогущ, – отвечал он. – И знак сей, конешно, не напрасен. Однако же всецело полагаться на него я бы не осмелился.
– Ну ладно, – вздохнул Пётр. – Истина, всё едино, сокрыта от нас. – И сказал Головкину, ожидавшему распоряжений: – Отписать надобно английской королеве Анне под моим полным титулом о шведе таково: понеже король шведской, на силу турков и татар полагаясь, к. нарушению с нами вечного миру привёл, мы, стало быть, почитаем себя свободны действовать. И можем в пределы шведские вторгаться. И подпиши: вашего королевина величества склонный брат. И более никаких наклонений.
Приехал царевич Алексей с многочисленной свитой за благословением: направлялся к своей невесте. Длинный, в отца, он ещё больше вытянулся с тех пор, как они не виделись. В коричневых глазах сына, казалось, навсегда застыла растерянность. Отвечал на вопросы коротко: да, батюшка, ваше величество; нет, батюшка, аше величество.
– Меня аккурат в твои годы женили, – вспомнил Пётр. – Должно и тебе, видно, сие испытать. Готов ли ты?
– Как прикажете, батюшка, ваше величество.
– Не вижу радости в тебе, – покачал головой Пётр. – Однако, сын, партия сия убыть может, и того будет жаль. Поезжай к невесте. Сказывают, хороша она собою и благонравна, да и Брауншвейг-Люнебургский дом родовит. Вот составим договор брачный, с тем и поедешь.
Пётр похлопал сына по плечу, а потом, сочтя этот жест одобрения и ободрения недостаточным, обнял его и поцеловал в лоб.
– Ну, ступай к себе. А мы тут с господином канцлером договор составим, бумага сия весьма пространна быть должна.
Царевич Алексей уехал с пространной бумагою. Расстались без должного трепета. Бракосочетание положили совершить по окончании кампании. Холоден, пуглив был сын, холоден оставался отец.
– Отчего это, Катеринушка? – Пётр устало смежил глаза, лёжа рядом. – Ровно чужой он мне.
Екатерина неожиданно засмеялась – то ли от переполнявшей её женской радости, то ли от своей победительности. Но тотчас осеклась, почувствовав, что смех неуместен.
– Более любят младшеньких, – как бы невзначай напомнила она. – А отцы – девочек.
Пётр вспомнил и тоже засмеялся.
– Да, в Лизаньке души не чаю.
– Чисто вашего величества дочь, – подтвердила радостно Екатерина.
– Алексей с тобою почтителен был?
– Без охоты. Чужой, – вздохнула она. – Мачеха я ему, иного и не жду.
– При родной-то матери инако быть и не может.
Екатерина смутилась. В самом деле: Евдокия хоть и ушла от мира, приняв иноческий чин, здравствовала. Доносили: сын тайно видится с матерью. Можно ли пресекать? Пётр пребывал в затруднении, но так ничего и не решил.
– Хорошо мне тут, – Пётр обнял Екатерину. – Вольготно и спокойно. Век бы не съезжал.
– Ждут вас, государь-батюшка, – со вздохом напомнила Екатерина. – Полки-то уж далеко ушли.
– Чаю, близ границы волосской. – Пётр разомкнул руки и неожиданно сел. – Как полагаешь, Катинька, непременно ли царю либо там королю быть при армеи? Ни султан турский, ни король французский, ни цесарь римский, царствие ему небесное, в воинские сражения не хаживали. Разве токмо мы с Карлом...
– Поздно, царь-батюшка, об этом думать, – рассудительно отвечала Екатерина. – Уж коли и прежде во походы хаживали и себя в них отличили, коли и ныне поход ваш миру известен, то уж надобно идти до конца.
Пётр снова улёгся, заложив руки за голову. Он размышлял: только что высказанная мысль давно не давала ему покоя. Зачем подвергать себя опасности, отвлекать от дел по устроению государства, наконец, и не жить в своё удовольствие, как все потентаты, коли есть опытные военачальники, такие, как, скажем, тот же Шереметев, как Меншиков и иные? Отчего ему неймётся? Можно было по молодости лет, с тогдашним азартом, жаждою подвига, стремлением испытать себя... Ещё при Полтаве он кипел молодым кипением, и чувства тогда были совсем иные.
Всего два года минуло, а как он огрузнел, отяжелел. Тогда он чувствовал себя по крайности ровнею Карлу, хоть и был на десять лет старше.
Бремя власти тяжкое и сладкое. Счастие и смерть, радость и кровь, повсечасное напряжение, великое отягощение. Богатырскую силу надобно иметь, чтобы снести всё это.
Дана ему эта сила, дана. От Бога. Но надолго ли её хватит? Ведь с каждым годом она пока ещё неприметно, но убывает. И порою, вот как сейчас, так хочется скинуть сверхтяжкую ношу. Ибо старит она, гнетёт и старит, накладывает морщину за морщиной. И точит и точит волю...
– Не по-царски себя оказываю, Катеринушка? – неожиданно спросил Пётр. – Кудесничаю, а?
Екатерина смутилась. Нагляделась она разного чванства – княжеского, графского, баронского, шляхетского и прочего. Царь же ведёт себя разно: когда по-царски, когда по-простецки, но не чванится, где бы ни был.
– Я так скажу, – осмелела она. – Коли вы государь, то и вольны в поступках своих, равно и в речах. А я? Более всего человека в вас, государь-батюшка, вижу.
– Славные у тебя глаза, Катеринушка. И славно ты видишь.

Глава восьмая
ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ БРАТ, ДРУГ И СОСЕД...

Непорочность прямодушных будет руководить их,
а лукавство коварных погубит их...
Правда прямодушных спасёт их, а беззаконники
будут уловлены беззаконием своим.
Книга Притчей Соломоновых
Голоса: год 1711-й, май
Пётр
Господа Сенат. Зело мы удивляемся, что мы по отъезде нашем с Москвы никакой отповеди от вас не имеем, что у вас чинитца, а особливо, отправлены, ли по указу на Воронеж новые полки, также и в Ригу рекруты, что зело нужно, о чём мы уже дважды к вам писали... исполнено ли то, или нет.
Пётр – Шереметеву и В. В. Долгорукову
Понеже мы изо всех мест ведомости имеем и напоминания, а особливо нам непрестанный прошения от господарей мультянского и волоского и всех тех народов знатных людей доходят, чтоб мы, как наискоряе, поспешили, буде невозможно со всем корпусом главным нашего войска, то хотя б знатную часть оного, более в кавалерии состоящую, послать в Волоскую землю и зближатца к Дунаю, где турки велели делать мост, предполагая, что сколь скоро те войски наши вступят в ту землю, то они, господари, с войски своими к Бендерю, куда им по указу турецкому иттить повелено, не токмо не пойдут, но тотчас с войски нашим совокупятца и весь народ свой многочисленной побудят к восприятию оружия против турков; на что глядя, и сербы (от которых мы такое же прошение и обещание имеем), також и болгары и другие христианские народы против турка восстанут...
Пётр – царице Прасковье
Я зело удивляюсь тебе, что ты не пишешь о своей дочери (а моей племяннице, кнегине курлянской), ибо вчера я у Рена видел писмо: пишет Кайзерлинк, что она подлинно беременна (речь идёт о будущей императрице Анне. – Р.Г.) А мне люди про то сказывают, что надлежало б мне ведать, ибо в том много надлежит. О чём немедленного уведомления прошу.
Пётр – Куракину в Лондон
По получении сего письма приищи у охотников токарной станок (на котором возможно точить овал и розан) доброва мастерства, и чтоб оной уже в деле несколько был; также довольное часло долот, а именно вдвое или втрое, и с собою вывези в Голандию, а оттоль пошли в Ельбинг или в Ригу... Также привези с собою две или три преимективы... доброго мастерства, а особливо чтоб немалое место вдруг мочно было видеть...
Шереметев – Петру
...с кавалериею пришёл на Воложскую границу к реке Днестру. И хотя там неприятелей татар было немало, однако же под местечком Рашковым помянутую реку безо всякого препятия перешёл. И отбив их, пришёл близ Яс, резиденции воложских господарей, и послал туда бригадира Крупотова с сильною партиею для принятия господаря воложского князя Дмитрия Кантемира...
Пётр – Шереметеву
...При входе же в Волоскую землю заказать под смертною казнию в войски, чтоб никто ничего у християн никакой живности, ни хлеба без указу и без денег не брали и жителей ничем не озлобляли, но поступали приятельски.
Чёртов король! Заставил-таки ехать к нему на поклон!
Обязанный ему много, многими благодеяниями. Обязанный польским троном! И вот изволь ехать к нему! Он, видишь ли, отягощён. Знамо чем – блядством.
Всё забыл, всё. Забыл, что Карл шведский заставил его дать деру, бросив своё королевство. Заставил подписать унизительный Альтранштадтский мирный договор, в коем Август был принуждаем отказаться от всех прав на корону Польши. Ею Карл увенчал своего покорного ставленника Станислава Лещинского. Август тогда отрёкся от него, Петра, и, дрожа заячьей дрожью, засел в своей курфюршеской столице Дрездене.
Август Сильный? Он и в самом деле сильный – завивал трубкою серебряную тарелку. И в детородстве сильный – наделал три с половиной сотни детишек. Никем не брезговал – обсеменял всех подряд: крестьянок и графинь. Его канцлер только успевал выдавать пособия на содержание королевских чад. Незаконных, вестимо.
Тут-то он сильный – ни смелости, ни ума не надо: знай себе суй. Кабы не он, Пётр, не Полтава, не видать бы Августу снова Варшавы: царь высвободил его из оков Альтранштадтского договора, и он снова принялся обсеменять польских панночек.
Чёрт с ним! Хоть и худой союзник, но по нынешним обстоятельствам нельзя терять и такого. Правда, ненадёжен: ежели что, предаст и глазом не моргнёт – оказал себя пять лет назад перед Карлом. Но может быть, урок сей пошёл ему впрок?
Нет, на благодарность Августа ему, Петру, рассчитывать нечего, коли, несмотря на все просьбы и резоны, король так и не явился в Яворов, а предложил царю явиться в Ярослав.
Катерину оставил в Яворове – для собственного спокойствия. Август мог и на неё накинуться. Зачем его искушать. К тому ж меж них дела государственные, опять же возвернуться придётся через Яворов...
Что-то в нём было, в этом Августе, какой-то магнетизм, равно притягивавший к нему не только женщин, но и мужчин. Лихач, бражник, гуляка. Пётр испытывал к нему слабость со времени их первой встречи. Славно они тогда грешили: пир за пиром, дворец за дворцом, дама за дамой. Переменялись, а после хвастали как мальчишки: кто сколько поставил...
Жили ровно братья. Вот отчего и именовал его в письмах «любезнейший брат, друг и сосед». После того что меж них было всё обще, как иначе!
Остались воспоминания – сумбурные и сладчайшие. Столь много всего, всяких и всех было перепробовано, такая крутилась карусель, молодая да знатнейшая, что голова шла кругом. И досель стоило вспомнить, как всё оживало, да.
Не для того ль Август зазвал его в Ярослав? Неужели не угомонился? Меж них два года разницы всего-то, ему, стало быть, пятый десяток.
Нет, такой не угомонится. Он создан для сладкой жизни, для утех любовных и потех застольных. Таково его поле битвы. Лишь на эдаком поле он – Август Сильный. С иного поля, настоящего, он мгновенно ретируется.
Что ж, каждому своё. Может, тем и притягателен Август для Петра, что другого такого более нет.
До Ярослава – два дня пути. По счастью, дороги исправились, можно стало ехать, не опасаясь завязнуть. Жаль было покидать Яворов, расставаться с ботом – он провёл там более месяца, да так и не насытился. И Катеринушкой не насытился. И озером. И обществом гетманши Сенявской – с трудом продрался сквозь Катеринину ревность, впервой её почувствовал. Утвердилась, видно, в звании царицы. Подарил гетманше бот в знак любви мимолётной, но благоуханной.
Конечно, с Августом ему не равняться, но любовный пыл не угас. И зовы женщины были покуда ему внятны и желанны. А тут был именно зов. Можно ли было пренебречь?! Брат Август, тот не разбирал – есть зов или нет: точно ястреб кидался и когтил.
Он стал не таков: Катеринушка отдавалась ему щедро и всяко – как никакая другая. После неё все казались пресны. И всё-таки иной раз позывало. Более всего ради сравненья – может ли быть слаще.
Пока что не было. Вот и с гетманшей тоже, хоть и весьма притягательная дама, обворожительная, истинно женщина с барственной шляхетской тонкостью. Так что было познание, а не похоть. Более всего познание. И что же? Очарование осталось позади. А жаль...
Что же сам гетман Сенявский? Сказывала: он стар и не ревнив. Меж них соглашение: каждый свободен в своих поступках, привязанностях и желаниях. Но только без огласки, равная свобода меж мужем и женой – что может быть разумней! Супружество ненарушимо, а вот верность – предрассудок.
Гетман в Ярославе, встречает своего государя. Он занят своими мужскими делами и не ревнив. «Ревность есть чувство низменное» – утверждала гетманша Сенявская.
Вот он, Пётр, как будто бы не ревнив. В нём более всего говорит собственник, хозяин. Ежели женщина, с которой он связал свою судьбу, изменит, он не возревнует, но оскорбится. Царь есть владыка животов и персонального живота, и без указу никто не вправе покуситься на принадлежащий ему живот...
Ах, нет, не о том, не о том. И не туда сворачивают мысли. Должен быть озабочен делом. Недоволен он собою, конечно, недоволен! Писал он Меншикову, что в конце мая будет к Днестру, но теперь ясней ясного: сего не исполнит.
Пётр оборотился к Макарову:
– При тебе письмо Шмигельского?
– При мне, государь.
– Чаю, господа министры его не читывали?
– Нет, государь, – разом отозвались Головкин с Шафировым.
– Чти им вслух. Да пусть на ус мотают.
– Кто сей Шмигельский? – осведомился Головкин.
– Креатура Лещинского. Письмо сие перехвачено и к нам прислано.
Письмо было довольно длинное, и Макаров где читал, а где пересказывал.
– Получил Шмигельский объявление от приятелей из Польши, что саксонцев только семь тысяч, а Москвы четыре тысячи. «Постановлено есть у нас и с тем войском итти отчаянно на саксонцов и на москву, которых свободно разгоним». Комаццировано-де к ним две тысячи шведов. Пишет, что столь великой силы турской и нашей Москва не выдержит. «А король Август чаю, что прежней договор воспримет и спрячетца в Саксонии».
– Вот сии строки мы и приготовили для Августа, – усмехнулся Пётр. – Покушение на власть его затеяно, и без нас ему не отбиться.
– А нам – удар в спину?
– Князю Меншикову копия с сией цидулы послана, дабы принял свои меры. За ним не пропадёт. – Пётр снова усмехнулся. – Августу же – шпага в задницу.
– Напужается, – предположил Шафиров.
– Пусть его. Зело пуглив, – улыбка не сходила с уст царя. – Альтранштадтский мир помнит и вовек не забудет.
– Да уж, изрядно побит был Карлом.
– Сильный-то он сильный, да вся сила в портки ушла, – Пётр позволил себе непочтение к королевской особе. Себе – иных же непременно осадил бы. Досада не проходила: настоял-таки Август на своём, не приехал в Яворов, как сулился, и вот его, Петра, благодетеля своего, выманил.
– С ним надо бы пожёстче, – сказал Головкин.
– Знаю. Боюсь, однако, отпугнуть. Он нам ныне зело надобен в алианций против турка. Султан с Карлом зарятся на Польшу да на Украйну. Мазепа помер – Орлик объявился.
– Ну, Орлик – не орёл, – хихикнул Шафиров. И все засмеялись, оценив шутку.
– Невелика птица, – согласился Пётр, – а нагадить может.
– Завозились мы с вами тут, – неожиданно расхрабрился Головкин, как видно вспомнив, что он, канцлер, есть тоже власть, и власть немалая. Но Пётр неожиданно согласился и даже поддержал его:
– Верно говоришь, Гаврила Иваныч. И я тому причинен. Более месяца в Яворове катался, и никто меня остановить не взялся.
– Как остановишь, ваше величество. Не могли поперёк слово молвить. Опять же Августа ожидали.
– А надо бы, надо бы молвить. Когда по делу, я не обидчив.
– Всё едино опасаемся. Можно ли высочайшей особе слово в противность?
– Мы единый интерес имеем. А вы есть ближайшие помощники и сотоварищи в деле государственном. Я строптивцев не жалую, а коли по справедливости, никто не должен опасаться.
– Так-то оно так, – и Головкин опасливо покосился на царя, – но ваше царское величество яко бомба без фитиля взрываетесь.
– Доведут – взорвусь. Без фитиля, говоришь? Нет, фитиль-то непременно есть, токмо невидимо он тлеет. Верным да справным никогда обиды не чинил. Который из вас жалобиться хочет, говори! Смело говори!
Все смущённо молчали. То ли память прохудилась, то ли не было обид, то ли боялись, но никто рта не раскрыл.
– То-то! – удовлетворённо хмыкнул Пётр. – Ибо верных да справных берегу. А что грех порою случится, так конь о четырёх ногах, да и тот спотыкается. А ещё говорят: у царя да у Бога всего много.
В Ярослав приехали, а Августа нет. Неужто опять надул? Великий коронный гетман и кастелян краковский Сенявский поспешил успокоить их: король-де задержался в пути. Он был ретивым сторонником Петра, гетман, и выказал царю своё уважение, выехав ему навстречу.
Пётр выбрался из кареты, потянулся так, что хрустнули кости, и пошёл навстречу гетману.
– Рад приветствовать ваше величество на земле Ярослава, владетелем коей я являюсь.
– Весьма благодарен вашей ясновельможности, – торопливо произнёс Пётр и, наклонив голову, отдалился на несколько шагов от гетмана, как видно приготовившего приветственную речь. Царь испытал некоторую неловкость: гетман оказался не столь уж стар, как обрисовала его супруга.
Впрочем, коронный гетман, оставшийся с открытым ртом, так и не успел его закрыть, потому что вдали показался королевский кортеж и ретирада Петра могла сойти за встречу.
Конные жолнеры, сопровождавшие королевскую карету, по данному им знаку отстали. Августу дали знать, что царь идёт навстречу.
Карета остановилась в нескольких саженях от Петра. Дверца распахнулась, и Август тяжело сошёл на землю, поддерживаемый с двух сторон подоспевшими придворными.
Он шёл навстречу Петру, картинно распахнув руки – большой, грузный, краснолицый, сильно обрюзгший со времени их последней встречи. Сошлись и заключили друг друга в объятия: пусть подданные видят, сколь сердечна их связь. Демонстрации такого рода меж союзных монархов благотворны – оба они прекрасно знали это.
Политес был соблюдён. Теперь они шли рядом, оживлённо разговаривая. Свита следовала в некотором отдалении, охватывая их полукругом.
Всё неприятное – на потом. А пока им было что вспомнить. Их связывал общий грех – такая связь сильней иных других. Пётр осведомился о здравии королевы Христины – то был знак вежливости. Август в свою очередь полюбопытствовал, как поживает новая супруга царя. Он уже прознал об Екатерине – такого рода новости распространяются с непостижимой быстротой, несмотря на то что иностранные потентаты не были официально уведомлены об этом.
– Хороша она? – спросил Август. И глаза его загорелись любопытством старого волокиты.
– Пригожа, коли взял за себя.
– Отчего не привёз?
– Оберегаю от лишнего трясу и от лихого сглазу.
– Не от меня ли? – хохотнул Август.
– Чать, друг, брат и сосед. Можно ли?
– Мы славно с тобою резвились, – перевёл разговор Август, воссев на своего любимого конька. – А потому повязаны тесно-телесно. Я и в этот раз приготовил тебе угощение, дорогой брат. Не всё же войны и политика.
– Согласен, брат Август, – нехотя согласился Пётр. Он было настроился на деловой лад, но решил на этот раз уступить, а лучше сказать – отступить, дабы потом неожиданно перейти в наступление. Он понимал, что король расставляет те же сети, в коих они бывали вместе, чтобы потом ловчей ускользнуть от запутавшегося царя. Расчёт был слишком прост.
Август был мот. Денег у него вечно не бывало: двор и утехи поглощали их с ненасытной жадностью. Этим он разительно отличался от Петра, слывшего скопидомом и щеголявшего в штопанных Екатериной чулках и старых сношенных башмаках. То было, разумеется, не скопидомство, а бережливость радетеля государства.
Август, похоже, почувствовал душевную настороженность Петра, а потому принял тон, приличествовавший монарху:
– Когда собираетесь отбыть, ваше царское величество?
– Что ж так сразу – отбыть? Я ещё как следует и прибыть-то не успел. У нас общего интересу много.
Король состроил кислую мину и некоторое время шёл молча. Наконец он сделал некий знак, и к нему приблизился шедший в нескольких шагах позади юноша в жёлтом парчовом камзоле. Он был непомерно завит и надушен.
– Позвольте, ваше величество, представить вам моего сына и наследника престола, будущего Фридриха Августа Третьего.
Юноша поклонился и отчего-то зарделся. Пётр подал ему руку.
– Точь-в-точь мой Алексей, – произнёс он добродушно. – Только Алексею-то быть Вторым: первым был его дед.








