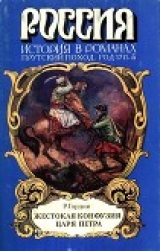
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
– И патриарх не благословит, – вторила ей старая царевна Марфа Матвеевна, вдова царя Фёдора. – Господь не попустит.
– Патриарха я своей волей поставил, – Пётр продолжал усмехаться, колючие усы сердито топорщились. – Он лишь место блюдёт. Коли захочу – сгоню с места. – И вдруг набычился и крикнул: – Цыц, бабы! Не вашего ума дело. Моя воля – мой закон, понятно?!
Испугались, замолкли. Знали: страшен царь в гневе. И то знали: коли что решил – настоит на своём. Помнили: Пётр есть камень.
Не бунтовала лишь царевна Наталья: интерес братца был главным в её жизни. Давно смирилась с его полюбовницей: поняла – настоящее это, большое чувство. Безропотно пасла дочек, прижитых Катериной от царя, а потому и приняла его решение.
Все прежние увлечения братца Петруши прошли перед её глазами. Обычно то бывал бурный наскок, вроде отроческого штурма Прешбурга, недолгое топтание во взятой крепости и скорая, часто стремительная ретирада.
Но бывало, бывало... Затягивало. Затянула Монсовна[8]8
Затянула Монсовна... — Имеется в виду любовница Петра I – Анна Монс, с которой он познакомился в Немецкой слободе в Москве.
[Закрыть], да так затянула, что уж на Москве вовсю поговаривали: обусурманился, онемечился царь, на немке Маисовой оженился. Кабы не сама немка царя орогатила – с прусским посланником Кайзерлингом соблудила и тот её в жёны взял, так бы оно и стало.
Но царь, вестимо, не стерпел и оскорбился: ему, царю, мужу истинну, великой мужской силы, немку осчастливившему, до небес её возвысившему, предпочесть какого-то пруссака!
Но царевна Наталья женской своей натурой, проницанием сердцеведки понимала: царь для той Анны Моне был как бы журавль в небе, он был слишком огромен и непомерен для простой мещаночки, а тут подвернулся пруссак – синица в руки, человек простой, немецкий да вдобавок с положением. И схватилась за него нимало не мешкая.
Да и братец Петруша недолго досадовал, одну за другой переменял, случалось, собственной племяннице юбки задирал, пока не наткнулся на Марту-Катерину. Служанка-то она служанка, да ведь допрежь всего – женщина.
Женщина, прямо-таки по мерке царской скроенная! Носила его на себе радостно, не уставая и не жалуясь, была редкой выносливости, удивляя и радуя Петра. И что ещё восхищало: каждый раз переменялась, умела быть иной, отдавалась своему повелителю как бы заново.
Вспыхивал возле неё жарким пламенем, разгорался и был неутолим. Столь великой жадности давно не испытывал – позабыл про всех своих метресок. Даже стал опасаться: кабы не истощиться, не иссякнуть, кабы не приковала к себе мягкой, но липучей бабьей цепью...
А когда стала рожать Катерина, и вовсе к ней прилепился. Стало быть, была плодна, а это тоже в радость. Стало быть, родит наследника, может, и не одного – выбор будет. И почал серьёзное думать. И были те думы неотвязны. Они настигали его в самых неподходящих местах: в Адмиралтействе, средь стружек и тюканья топоров, либо в токарне, любимом его прибежище, а то и средь сидения консилии, в кругу пышных париков и не менее пышных стариков...
Стоял на самом краю. И предстояло сделать последний шаг.
Заробел.
Отчего-то не мог в одиночку. И вот наконец разрешилось!
– Садись, Алексей, в ногах правды нет.
– Не смею при особе монарха в токовой торжественный момент.
– Садись, говорю! – и Пётр пригвоздил его к креслу. – Итак, ты сказал, я сделал. А то ведь всё стоял, подъявши ногу, а ступить не решался. И с царями таково бывает. А теперь, коли молвил ты слово мужское, верное, решился я. И зальём мы то решение...
На крытом зелёным сукном столе стоял штоф, три кружки, сбоку притулилась чернильница, в стакане – перья, лежала стопа бумаг.
Пётр хлопнул в ладоши. Раз, другой, третий. Явился заспанный денщик.
– Не хлопай очами – принеси яблок мочёных. Чего стоишь – более ничего не надобно, ступай.
Не прошло и минуты, как полная миска яблок стояла на столе, дразня обоняние запахами смородинного листа и той терпкой кисловатой свежестью, от которой сводит скулы и рот наполняется слюной.
Пётр поднялся. Голова его едва не касалась потолка. Он сказал голосом умягчённым против обычного:
– Теперь шагнём. Тяжек был приступ, шагнём легко. Ну, благословясь!
И он богатырскими глотками осушил кружку.
Морщины на его лице разгладились, усы перестали топорщиться, и весь он, непривычно умиротворённый, благостный, опустился в кресло.
– Тяжело мне сие далось. Более всего непереносимо осуждение церковное, его же предвижу. Иерархи наши сего не перенесут. Однако заставлю! – И Пётр коснулся кулаком столешницы. – Царь-де второбрачный да на простой девке оженился, на лютерке... Знаю я их песни. Бог есть любовь. И брак есть любовь. Брак мой нынешний освящён детьми: Катерина мне двух дочек принесла.
Улыбнулся умягчённой улыбкой, вспомнив, и добавил:
– Мои. Нашего, нарышкинского роду...
Замолк Пётр, брови снова сошлись на переносице, выпуклые глаза расширились – размышлял о чём-то заботившем.
– Первое дело – митрополита Стефана перебороть: упрям старый козёл, Авдотьин радетель он тайный, понеже явно страшится гнева моего. Второе же дело – соблюсть закон християнский. Брак есть таинство, перед отъездом к армии должно совершить венчальный обряд.
Осмелел Макаров – вино развязало язык:
– Как же быть, государь? Царь венчается принародно, в Успенском соборе, обряд сей свершает сам патриарх, тот же Стефан, яко местоблюститель. Обойти сего не можно...
– Обойду! – Пётр тряхнул головой, весь взъерошился, глаза же глядели весело. – Здесь, в Преображенском, и обойду.
И, прочтя в глазах Макарова недоумение, смешанное с недоверием, прибавил:
– Обвенчает нас духовник здешний отец Ювеналий, в церкви нашей домовой, а в свидетели поставлю тебя да сестрицу Наталью.
– Осмелится ли? – усомнился Макаров. – Узнают – запретят, а то и расстригут и в монастырь сошлют на вечное покаяние. Царя-де венчал самодурственно, невежественно, пренагло, не сказавшись прежде митрополиту.
– Царёвой волей венчал. Мне важно Господнее установление соблюсть, быть чисту перед Богом. Я почему на сию дерзость покусился? – Таким доверительным, открытым Макаров царя не видел. – Мне голос был: прилежаны-де вы друг другу. Лучшему-де не бывать. Я и сам так чувствую.
– Знамо: вышняя воля, от ней не открестишься.
– Так оно, так, – произнёс Пётр с видимым облегчением. – И отлагать сей обряд не будем: дел много, да и ехать надо.
Послали за царевной Натальей. Она выслушала брата молча, а потом неожиданно приникла к нему и расплакалась.
– Полно, Наташа, полно. Будто ты не ведала, будто сердце тебе не сказало.
– Да-да, – торопливо отвечала Наталья, меж тем как Пётр неумело отирал ей щёки кончиками длинных загрубелых пальцев. – Один токмо отец Ювеналий испужается: статочное ли дело – венчать-де царя не соборно, а келейно.
– А мы ему скажем, – и Пётр назидательно поднял вверх палец, – венчание есть таинство, и таинством оно и пребудет меж нас, посвящённых. Поди оповести его. Да и Катерину тож.
– Скор ты, братец: Катерину приготовить надо. Разве к завтрему...
Отец Ювеналий, духовный наставник высокородных обитателей Преображенского, священник не из простых, умевший замаливать грехи своей паствы и не терявшийся при обстоятельствах крайне щекотливых, где его рядовому собрату головы бы не сносить, на этот раз пребывал в смятении.
Наталья, сообщившая ему царёву волю, перепугалась: отец Ювеналий побагровел, словно только что выскочил из бани, казалось, его вот-вот хватит кондрашка.
– Не можно мне, не можно, дочь моя, – и он простёр перед собой руки, как бы обороняясь. – Не по сану, великий грех, грех неотмолимый взвалю на душу. Суровым духовным судом судим буду, епитимью наложат и в монастырь заточат.
– Его царское величество защитит и оправдает...
– Как бы не так! – вдруг вскипел Ювеналий. – Его царское величество отмахнётся яко от мухи назойливой. Знать, мол, его не знаю и ведать не ведаю.
– Государь наш не таков, – укорила его Наталья. – Он услужливых не забывает. Да и я, отче, вступлюсь.
Ювеналий махнул рукой. Глаза слезились, борода, обычно ухоженная ради взоров его дамской паствы, растрепалась, весь он являл собою вид жалостный. Боялся он сурового царя, боялся и архиерейского суда и, оказавшись меж молота и наковальни, совсем пал духом. Одна у него оставалась надежда – на предстательство царевны Натальи. И, веря, что она не выдаст, поплёлся он готовиться к свершению обряда.
Макаров всё ещё продолжал пребывать в состоянии озадаченности. Коли дело дошло до тайного венчания, чего прежде ни с одной царёвой полюбовницей не было да и быть не могло, стало быть, государь и в самом деле вознамерился сделать безродную служанку царицею. Макаров успел хорошо изучить характер своего повелителя. «Пётр есть камень» – коли царь решил, ни громы земные, ни громы небесные не в состоянии отвратить его и переменить решение. Камень – твёрдость, камень – кремень, камень – храмина, камень – крепость.
Трудненько дался ему этот шаг, однако! То-то прямая как стрела линия жизни царя за последнее время несколько искривилась. Правда, примешалась ко всему злосчастная война с турком. Войско надлежало собрать да подготовить, озаботиться заготовкой припаса, провианта. Всё лежало на царёвых плечах – всюду нужен был его догляд. Ему приходилось додумывать многое за старого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, ибо кого иного, способного занять его место, не было.
Велико было царёво нетерпение, требовательна мысль, а потому многие повеления писал своею рукою, не дожидаясь появления Макарова либо Головкина. После Полтавы Пётр исполнился уверенности, что российское войско с любым неприятелем сладит. Так что турок представлялся ему слабосильным, внушая опасение лишь множеством своим. Зато обнадёжился царь посулами християн, бывших под турецким игом, – сербов и негропонтовцев, или черногорцев, греков и болгар, мунтян и молдаван, или волохов. Два княжества, Молдавия и Валахия, твёрдо обещали помочь не только провиантом, что было важно при столь великом отдалении от российских пределов, не только потребной амуницией, но и полками. На них, на православных, можно было положиться безо всякого сумнения.
Покамест сношения с ними были тайными, чрез верных посыльщиков. Уже обменялись они договорными пунктами, уже обещались подпасть под покровительственную царскую руку. И Пётр был ими весьма и весьма обнадежен.
Беспокойство вызывал у него лишь главный швед – король Каролус, засевший в турецких пределах и, как видно, спевшийся с султаном и его пашами. Это он побудил турка открыть войну – Пётр нимало в том не сомневался. Но как теперь выкурить шведа – вот вопрос, казавшийся неразрешимым...
Это были заботы до поры отдалённые. Сейчас же царя целиком заняла забота ближняя, матримониальная и представлявшаяся ему главной. Он-таки наконец разрубит этот гордиев узел! И станет свободен пред Богом. А люди? Пред ними отчёта он держать не намерен.
Шли поспешные приготовления к церемонии. Как ни противилась царевна Наталья, Пётр облачился в парадный Преображенский мундир – ей же хотелось царского облачения. Екатерина была в парчовом платье, как видно одолженном у какой-нибудь из цариц. Оно было тесно и коротковато для её крепкого, сильного и стройного тела. У брачащихся вид был одновременно торжественный и какой-то смущённый.
Отец Ювеналий, похоже, всё ещё не мог прийти в себя от той миссии, которая так нежданно выпала на его долю. Это читалось и в наморщенном лице его, и в неуверенных суетливых движениях, лишённых той плавности, к которой обязывает церемония бракосочетания...
Ради такого случая было возжжено великое множество свечей, и небольшая уютная церковь вся сияла позолотой царских врат, окладов, бронзой паникадил. Светилась и парчовая риза отца Ювеналия.
– Блаженны вси, боящиеся Господа! – возгласил он, выводя Петра и Екатерину на середину храма, а затем к царским вратам.
Всё было необычно в этой церемонии: и тишина, нарушаемая лишь слабым потрескиванием свечных фитилей, а не пением церковного хора, и присутствие шестерых человек, из коих ни один не прислуживал священнику. Канон был нарушен, он нарушался с каждой минутой всё более.
Отец Ювеналий взял чашу с красным вином. Он протянул её сначала Петру. Тот, пригубив, с улыбкой передал её Катерине.
– Брак честен есть и ложе не скверно, – как-то неуверенно произнёс священник.
Соблюл апостольскую формулу отец Ювеналий, да только неуклюже и неуместно – можно было вполне обойтись без неё, помня, что венчающиеся второбрачны. Но он боялся царя, боялся панически. И, подняв на него глаза, едва мог удержать дрожь.
Круглое лицо царя медленно багровело, выпуклые глаза готовы были вылезти из орбит.
– Венцы! Пошто венцы не возлагаешь!
– Царь-государь, ваше царское величество, – пробормотал иерей побелевшими губами. – Номоканон возбраняет возлагать венцы на второбрачных...
– Что мне твой Номоканон! – рявкнул Пётр. – Господь мой покровитель, а не Номоканон. Совершай всё по уставу Божьему!
Отец Ювеналий поспешно закивал головой.
– Венчается р-раб Божий Пётр с рабою Божией Екатериной, – дрожащим голосом протянул он.
Он стал возлагать венец на голову царя, и тому пришлось наклониться и даже слегка присесть, потом венчал Катерину. Они шли по церкви гуськом: впереди священник, за ним Пётр с Екатериной. Шествие замыкали свидетели – Макаров, царица Прасковья, Пётр принудил, и царевна Наталья. Полагалось быть ликующему церковному хору, множеству поздравляющего молодых народа. Но они шли в молчании, слышалось только недовольное сопение царя, которому хотелось поскорей завершить обряд.
Наконец отец Ювеналий разлепил губы и жидким тенорком прогундосил:
– Слава тебе, Боже, слава!
– Слава тебе, Боже, слава! – подхватили свидетели.
– Боговенчанных царей и равноапостольного Константина и Елену призываю в молитвенное ходатайство к брачащимся Петру и Екатерине, равно и великомученика Прокопия, приведшего двенадцать благородных жён от радостей земных, от одежд их брачных к радостям небесным...
– Слава тебе, Боже, слава! – теперь провозгласили уже все шестером.
Ритуал продолжался без задорин. Переменялись перстнями: Екатерина получила массивный золотой перстень супруга, свободно болтавшийся на её пальце, её же серебряный был Петру узок. Так женской слабости, олицетворяемой серебром, передавался мужественный дух злата.
– Венчаю вас в плоть едину, и да ниспошлёт вам Господь плод чрева благодатный, восприятие благочадия на все времена.
Церемония закончилась. Отец Ювеналий и свидетели по очереди поздравляли новобрачных. Было церемонное целование, было и вольное: Пётр на радостях впиявился в Катеринины сочные губы не по храмову обычаю.
Впрочем, всех отпустило и все размякли. Более всех был весел сам царь. Скинул-таки ношу! Тяжка она была, но теперь всё позади. И он наконец обрёл себе женщину и жену по давно вымеренной мерке. Он не заглядывал в её прошлое, не воздвигнул между ним и собой плотную стену, хотя, разумеется, был о нём достаточно сведан.
Он нуждался в настоящем и в будущем. То, что было прожито, было изжито и поросло травой забвенья. Ему, как и любому его подданному, нужно было обрести счастие. А в этой своей ипостаси он и был всего только подданным. Подданным любви и счастия, как какой-нибудь плотник, либо солдат, либо корабельщик...
– Вознаграждение емлешь, отче Ювеналий, – и Пётр подал ему золотой крест и кошелёк с дукатами. – И ничего не опасайся – обороню. Ежели что – скажи дочери своей духовной, – и царь оборотился к ней. – А теперь, Наташа, поди распорядись: устроим у меня пирок малый. Большой же пир с торжеством – после одоления турка и посрамления саптана.
Воодушевлённый, он снова обнял Катерину. Теперь уже свою перед Богом.

Глава третья
ВИВАТ, ГОСПОДА СЕНАТ!

Итак, увидел я, что нет ничего лучше,
как наслаждаться человеку делами своими:
потому что это – доля его; ибо кто
приведёт его посмотреть на то, что будет
после него?
Екклесиаст
Голоса: год 1711-й, февраль – март
Стефан Яворский – Петру
Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, богомолец твой государев Стефан, митрополит рязанский, Бога молит и челом бьёт... об отдаче по милости вашего царского величества на Пресне двор с хоромы и садом и верхней пруд для московского моего жития. И за вашу такую превысочайшую царскую малость, чего я, богомолец ваш, и не достоин был, по премногу благодарен и челом бью. Но понеже той верхней пруд, который был мне отдан, есть безрыбной, и рыба в нём не живёт для тины великой, и сам в себе мал и мелок, того ради молю ваше царское пресветлое величество повели мне, грешнику, до указу своего царского величества владеть Красным прудом...
Д. М. Голицын, киевский губернатор – Петру
Всемилостивейший царь, государь. Получил я ваш, государев, указ, в котором изволите писать: послан капитан-порутчик в Белгород, велено ему паттоны (понтоны) вести оттоль чрез Киев в армею, которые немедленно мне исправить, ибо зело нужно надобно, чтоб те в последних числах апреля тем стали... Писал я о паттонах в Белгород, чтобы оныя с великим поспешением отправлены были в Киев...
Г. Ф. Долгоруков – Петру
Премилосердый государь. По получении дву указов вашего величества... с общаго з генералом Янушом и с князем Голицыным, и з гетманом коронным з господином Синявским для диверсии из Украйны хана крымского и выгнания из здешнего краю з Буджацкой ордою ханского сына и воеводы киевского с изменником Орликом, который обретаютца недалеко Белой Церкви, господин генерал-лейтенант князь Голицын з девятью драгунскими полками и з двемя пехотными, Ингермонланским и Астраханским, и с волохами и казаки, отправили, куда також и полских около петидесят хоронгвей посланы дабы тем походом диверсию хану в Украйне учинить и из здешнего краю выгнать... А в Ясы, государь, не послали для того, дабы тем не дать Порте подозрения и не принудить бы турок чрез Дунай скорого и сильного в Волоскую землю приходу, по которое время наша армия не в случении. И ежели, государь, даст Бог, наша пехота со всем скоро сюда счастливо прибудет, то, чаю, лутче, государь, в то время всей нашей кавалерии марш иметь к Дунаю, где намерен неприятель мост делать, дабы оных о той реке удержать, куда таком и всей нашей пехоте надлежит за оною следовать. И ежели, государь, даст Бог, можем во времени то учинить, то не токмо волохов и мултян, но и всем краем по Дунай за Божией помощью овладеть, что неприятель принуждён будет или полезного нам миру искать или вовсе пропадать...
Пётр – Меншикову
Благодарствую вашей милости за поздравление о моём пароле, еже я учинить принуждён для безвестного сего пути, дабы ежели сироты останутся, лучше бы могли своё житие иметь, а ежели благой Бог сие дело окончает, то совершим в Питербурху.
Тайное венчание – о нём покамест никто не знал, кроме его участников, – преобразило Катерину.
Услужница с робкими манерами, осторожными движениями, старавшаяся пореже попадаться на глаза хозяевам Преображенского, даже благоволившей ей царевне Наталье, как-то сразу распрямилась. Прежде торопливые семенящие мелкие шажки сменились шагом твёрдым, уверенным, спокойным. Она как бы почувствовала на себе избраннический перст. Вещественным о нём напоминанием и стал царский обручальный перстень, который она, недолго поносив, спрятала, а взамен надела другой, плотно сидевший на пальце.
– Кабы не утерять, – объяснила она Наталье. – А ещё – от глаз завистливых, злых, от языков чумных. Опасаюсь...
И речь её переменилась: стала ровной, незаискивающей. Стала брать уроки у подьячего в Приказной канцелярии.
Служанка Марта, в святом крещении Екатерина, – Трубачёва, Василевская, Сковородская, как только её ни прозывали, – мало-помалу становилась государыней царицей Екатериной Алексеевной.
Теперь она нимало не сомневалась в прочности сказочной перемены своей судьбы. Залогом её неизменности стал сам Пётр, его твёрдость, его надёжность.
Любил ли её Пётр? Прежде, когда их близость была в известной мере случайной и кратковременной, то была скорей привязанность – плотская, мужская.
Ныне, когда они жили под одним кровом и спали в одной постели, она уже не сомневалась – любил! Среди множества своих больших, важных, государственных и тревожных дел – любил.
Екатерина расцветала на глазах – только любовь может столь сказочно преобразить женщину, возвратив девичество и всё связанное с ним: бархатистую, с лёгкой смуглянкой кожу, упругость тела, искрящиеся глаза, счастливую улыбку, не сходившую с уст, летящую походку, грацию движений.
А к царю вернулась жадность возлюбленного. О, они были парой, рождённой друг для друга. И жадность Петра сторицей вознаграждалась Катериной.
Пётр перестал ходить в токарную. Он набрасывался на неё по утрам – будил, если она спала. Он затаскивал её в опочивальню с вечера, сразу после ужина. И начиналась та сладостная телесная борьба, в которой каждый попеременно становился победителем, где она уступала, но и требовала – мягко, по-женски умело, раззадоривая его всё сильней и сильней.
Царь забросил все дела и пропадал в Преображенском. А Преображенское всё видело, всё замечало десятками пар завистливых женских – да и мужских – глаз. Преображенское как бы затаило дыхание, с жадным вниманием вглядываясь в едва ли не сотрясавшийся фахверковый домик царя.
Тайна открывалась сама собой. Впервой царь-государь был столь открыто поглощён любовью. Стало быть, это нечто серьёзное, венец его жизни – эта Катерина-услужница.
Первой стала обращаться к ней с подчёркнутой уважительностью царевна Наталья. За нею – царица Прасковья. И все поняли: по-старому более нельзя. И переменились. Стали низко кланяться при встрече, бросались оказывать услуги, которых прежде требовали от неё.
И все продолжали придирчиво изучать царскую избранницу. Хороша? Пожалуй, но уж на царской-то дорожке попадались и покраше. Взять ту же Монсовну – экий цвет лазоревый. Видно, в этой, в Катерине, было нечто такое, некая особливость, тонкость, притягательность, телесный магнетизм, чего не было в других царских метресках. Что это было такое, мог сказать лишь сам царь, а все остальные обитательницы Преображенского терялись в догадках.
– Нет, тут дело нечисто, – шептались, – тут чары, зелье приворотное, иноземное. Ясное дело – лютерка она, а они искусны в колдовстве да в чернокнижии. Нечисто дело... – Высматривали да допытывались, но так допытаться и не могли.
А тем временем Наталья приставила к Катерине трёх комнатных девушек для услуг. Стало быть, дело-то серьёзное, стало быть, опасно шептаться и слухи разносить про колдовство – свиреп царь, эвон как в пыточном-то застенке вздёргивают тех, кто распустил языки. Примолкли... Пробовали расспросить девушек – не могли они своей новой госпожой нахвалиться.
Катерина была добра к ним. Прошлое не забывается, особенно когда ты не успел сильно отдалиться от него и когда всё ещё опасаешься ненароком в него вернуться. От прошлого у неё остались сильные руки работницы, проворство и умение, хозяйственность и доброта. Доброта человека, прошедшего всё – огонь, воду, медные трубы и чёртовы зубы. И ничего не забывшего. Ей выпал дивный жребий, и потому она хотела ладить со всеми и быть доброй. Она испытала подневольное состояние, и это усиливало в ней приливы доброты.
А потом... Она была царицей покамест лишь в постели государя. К ней пока ещё никто не обращался: ваше царское величество, государыня царица. Официальной церемонии не было, не было и приказа относиться к ней как к венчанной царской супруге.
Она не торопилась. И не торопила. Она понимала: время всё поставит на своё место. В ней было вдосталь природного здравого смысла. И потому её комнатные девушки Настёна, Феклуша и Палаша преисполнились любви и преданности к своей госпоже, обращавшейся с ними как с ровней.
Они называли её госпожой и лишь месяц спустя стали называть её государыней – когда у Катерины уже был свой небольшой штат. Ещё не статс-дамы, ещё не фрейлины, а такие же услужницы, какой некогда была она сама.
Зато Екатерине стоило великого труда переменить обращение к царю. Она неизменно, даже в постели, среди ласк и объятий, среди телесного неистовства двух любовников, называла его не иначе как «ваше царское величество». С большим трудом дался ей «государь». Потом был найден счастливый вариант: «мой господин» и «мой повелитель». Но «ваше» осталось на всю жизнь, как на всю жизнь осталось прилюдное «ваше величество».
Порою Пётр даже негодовал:
– Ну назови меня хоть раз по имени – Петею. Петрушею! Господь дал мне имя, а не титул. Неужли когда ты ложишься со мною, когда я вхожу в тебя, то всё ещё продолжаю быть величеством?
– О, ещё каким! – радостно и благодарно смеялась она. – Самым великим величеством, каких больше в целом свете нет.
– Уж будто нету? – ревниво допытывался он.
Она глядела на него, искренне недоумевая: неужто он может сомневаться? Неужто он не слышит её стонов, не видит её изнеможенья? Она не могла сказать ему, что носила на себе многих, но он среди них – истинный царь. Царь-мужчина.
– Так будет всегда, – повторяла она. – Царь-государь, каких в свете нет и не будет.
Пролетали часы в любовных схватках, становившихся всё ожесточённей, всё изобретательней, с переменою мест, с полной потерей сил, когда оба внезапно засыпали с блаженной улыбкой. И вместе с тем текли, утекая, государственные дни и дела. Сотни вёрст успели протопать по снежным разбухшим весенним дорогам гвардейские полки, а царь всё опоминался.
На носу был март. Февраль был ветродуй, март – зимобор. Он всё сильней борол зиму. А там, в тех краях, куда медленно текли русские полки, март был уже весновеем и грачевником. Там из-под снега уже пробивалась первая нежно-зелёная трава. А это был сигнал, что можно пускать своим ходом главную ударную силу – кавалерию.
– Время убегает, – опомнился наконец Пётр, постепенно разгоравшийся к делам. – Доложи, Алексей.
Макаров доложил. Утешительного было мало. Войска разворачивались вяло. Орды татар разоряли Украйну. Союзники никак не пошевелились.
Пётр взял лист бумаги и стал писать Михаиле Голицыну, находившемуся на главной линии:
«Господин генерал-лейтенант. Понеже татары уже в Украйну вступили, того для и вам надлежит в границу вступить и потщитца конечно, с помощию Божиею, что нибуть учинить против неприятеля...»
: По мере того как Пётр писал, усы вставали дыбом – первый знак того, что царь осердился.
– Давно надлежало войско двинуть и быть ему сейчас возле границ волосских: тамо-то уже тепло и коню трава выросла, – Пётр выговаривал всё ещё спокойно. – Отправь немедля, да станем совет держать.
Грамоте царя учил Никита Зотов – далеко не изрядный грамотей. А далее Пётр всё ухватывал сам: и по-русски, и по-голландски, и по-немецки. И всё с обычной своей смелостью да ухватистостью, не заботясь о верности слога, а всё больше о точности мысли. Выходило, прямо сказать, без изящества, а точней – коряво, но зато коротко, выразительно и по делу.
– Сенат уж собирался, да не раз, – сообщил Макаров. – Дела распределяли, кому за что ответ держать, сколь часто быть в консилии.
– Завтра всё распишем: и Сенату, и губернаторам, и генералам – всем. Спрос со всех с них надобен строгой, а то дела не делают, а токмо топчутся да рты разевают. Завтра будь к моему выходу.
Это означало в пять утра – царь был ранней птахой, и Макаров привык следовать сему. И ровно в пять утра Пётр вышел к нему застёгнутый на все пуговицы, словно бы изготовившийся к походу.
– Садись, Алексей. Вот тебе допрежь всего указ Сенату, пускай себя окажут.
Указ был, по обыкновению, немногословен: «Собрать людей боярских, подьячих, емщиков (ямщиков), служек монастырских, к тем, который отпускаются 800 человек, ещё четыре тысячи двесте человек, и чтоб конечно в последних числах марта месеца отсель пошли в команду господина адмирала Апраксина».
– Теперь очини перьев с дюжинку, станешь указы писать.
Невелик был царский кабинет в Преображенском: Пётр тремя шагами покрывал его весь. Своими шагами, равными едва ли не трём шагам человека среднего роста. Он диктовал на ходу – так ему легче думалось. «На ходу, – говорил он, – мысль растрясается и легче выскакивает».
– Генерал-майору Бутурлину пиши: «Понеже ныне мы известны, что татары вошед в Украйну без всякого супротивления по своей воле все действуют и черкасы (казаки) к ним пристают и в слободских полках дух бунташный, и для того надлежит вам старатца какой-нибудь против татар, где пристойно, промысл учинить, дабы тем и казаков ободрить, и против них возбудить...»
Ещё прибавь: и чтоб из корпуса солдат в разные поиски отнюдь не посылали, пущай прикажет их собрать. А в конце припиши вот что: «Також отъезжает отсюда господин Адмирал граф Апраксин на Середу и на Дон, и с ним немалое число войск... И ты пиши к нему о всем и впредь требуй от него указу, как поступать, а меж тем действуй по сему указу сколь возможно».
– Как прикажете, государь: по единой бумаге подавать на подпись либо все скопом? – спросил Макаров, не прерывая письма.
– Вестимо, скопом. Из веры не вышел, знаю: лишнего не допустишь, а то и лучше меня скажешь.
Писали долго – много всего накопилось. Не миновали и любезного царю корабельного строения.
– Пиши Ричарду Козенсу и Осипу Наю. Что-де новые сорокавосьмипушечные корабли надобно строить в ватерлинии пошире, дабы они устойчивей были. А Наю прошит, чтоб у одного корабля палубу поднял выше на фут, а то и на все полтора.
«Пункты» доклада князя Васидья Владимировича Долгорукова касательно подготовки полка к дальнему воинскому походу царь взялся просмотреть сам. Он князю благоволил: ревностный служака. И положил произвесть его из подполковников сразу в генерал-майоры.
Далее Махаров представлял бумаги, пришедшие на высочайшее имя, кои могут быть занимательны для царя.
Вот от суконного дела купчина прислал доношение важное: заботился о пополнении казны ввиду великих военных трат. Обличал фаворита царского Григорья Строганова и прочих соляных промышленников в том, что они-де, «не боясь Бога и не радея тебе, великому государю, берут в Помесном приказе подрядом за соль цену за всякой пуд мало что не вдвое...».
– Всякому купчине нажива прелестна, – покачал головой Пётр. – Однако ж и совесть надобно иметь. – И размашисто вывел резолюцию: «Розыскать в Сенате».
Затем чли грамоты, сочтённые канцлером Головкиным и подканцлером Шафировым калмыцкому хану Аюке, мурзам и народу Кубанской и Ногайской Орды, мурзам и народу Крымской Орды, мурзам и народу Буджацкой Орды.
Из них Аюка был верноподданный, и предписывалось ему снарядить на Кубань и в Крым вотских людей ради промыслу в общей войне с турком и его пособниками. Остальные же мурзы призывались обще против турок и услужников их биться, и содержалось обещание принять их в свою оборону; «больше вам вольностей и свободы позволим, нежели вы имели под Турской областию. Буде же противиться нам будете и с войсками нашими битися дерзнёте, то повелим вас огнём и мечем разорять и в полон брать, как неприятелей своих».








