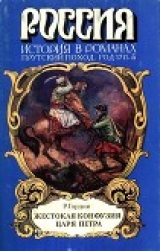
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
– Сколь помню, граф, ты о себе более думаешь, из-под моей палки норовишь ускользнуть. Однако она над тобою пребудет, доколе нерасторопность свою не преодолеешь.
Царь пришёл в полную форму и жаждал действия, движения. Болезнь была отодвинута, хоть слабость ещё давала себя знать.
Накопились бумаги, ждавшие высочайшей резолюции. Но прежде – армия.
– Пиши, Алексей, указ войскам; ныне же открыть марш на Волынь, а оттоль к границе волосской. Идти сколь можно быстро, дабы достичь реки Днестра у местечка Сороки. Тамо переправу навесть, загодя доставить туда понтоны. Графу Шереметеву быть при главном корпусе, барону Людвигу Николаю Алларту с кавалериею поспеть к переправе скорейше.
Скосил глаза на Алларта, он был рядом. Генерал поклонился. Он был исправный служака, и Петру нравилась его ревностность истого военачальника. У большинства иноземцев, служивших в российском войске, ревностности как раз и недоставало. Одно слово – наёмники.
Своих надлежало готовить, своих. Посылал на выучку дворянских недорослей – кого куда. В Голландию либо в Венецию, во Францию либо в Англию. Да толку чуть: учились без охоты, а то и вовсе сбегали под родительский кров – сладко есть и мягко спать.
Были и другие – самоуки. Из тех, что толковы да к делу прилипчивы. Таких отличал, приказывал производить сверх выслуги да срока в очередные чины. На таких – надежда.
Борис Петрович Шереметев был из таких, из самоуков. Воинскому делу учил его отец – боярин Пётр Шереметев, испытал сына на поле брани против крымских татар. Более всего оказал себя в Северной войне, дважды бивал хвалёного Шлиппенбаха, последний его дар царю – взятие Риги.
Пётр ему благоволил, отличал, обходился уважительно даже до почитания: приказано было впускать его без доклада. Да ведь устарел – без году шесть десятков. Отсель обрюзглость, медлительность, неповоротливость. А кем заменишь? Другой, фельдмаршал Ментиков, нужен был для Парадизу – Питербурх обстраивать да отпор шведу давать, того же Крассау держать, дабы из Померании не вылез...
– Ступайте к армии, я вас долее не держу, – сказал обоим генералам. – У нас приспели дела по дипломатической части.
Потом отослал князя Долгорукова. Должен он понужать короля Августа на встречу. Обязан король исполнить союзные обязательства – объявить войну Турку.
– Да ведь он того николи не сделает! – воскликнул князь. – Он войны боится!
– Война сия людей и денег требует, – угрюмо сказал Пётр. – Конфиденты из Царяграда доносят: султан собрал более ста тысяч войска да ещё татар туча немереная. Езжай, князь, потряси короля. Пусть по крайности со мною съедется – ужо с ним потрактую.
– Куриер от господаря волосского дожидается, – напомнил канцлер Головкин. – Сей наш союзник просит, дабы в великой тайности послан был бы ему диплом и пункты, коими мы обязательства свои пред ним и княжеством его утвердили. Он до времени себя сказать не желает, полагаю сие разумным.
– И то правда, – согласился Пётр. – Заготовлен ли прожект?
– Заготовлен, ваше царское величество.
– Вот и ладно. Чти.
Бумага была протяжённою. Пётр был внимателен, вставлял свои замечания и дополнения, поправки делались тотчас же.
«...Имеет помянутый яснейший принц волоский со всеми вельможи, шляхтою и всякого чина людьми славного народа волоского и со всеми городами и местами земли тоя быти с сего времяни под защшцением нашего царского величества, яко верным подданным надлежит, и вечно. И учинить ему, по получении сего нашего диплома, нам, великому государю, сперва секретно присягу, и для уверения написав оною, подписав рукою своею и припечатав печатью княжьею, купно с разными сему пунктами... прислать к нашему царскому величеству с верным и надёжным человеком, как наискорее, по последней мере к последним числам месяца мая, еже у нас до вступления войск наших в Волоскую землю в выщем секрете содержало будет. А междо тем показывать ему нам... всякую удобьвозможную верную службу в корреспонденции и в протчем, елико может, тайно.
Когда же наше главное войско в Волоскую землю вступит, тогда объявится ему, яснейшему принцу, явно, яко подданному нашему князю, и присовокупится со всем войском своим к войску нашему, на которое войско мы в то время ис казны нашей и денежную помощь ученить обещаем... И действовать обще с войски нашими, по указом нашим, против врага Креста Господня и союзников и единомышленников его, елико Всемогущий помощи подаст...»
Семнадцать пунктов набралось. Вроде бы всё предусмотрели. «Ежели неприятель (что всемогущий Бог да отвратит) усилится и Волоское владетелство в поганском владении останется, то он, яснейший принц волоский, в таком случае имеет наше соизволение в наше государство прибежище своё иметь, и во оном из казны нашего царского величества повсягодно толико расходу иметь будет, колико князю довольно быть может, також и наследники его нашего царского величества жалованья вечно не будут лишены...
...Во утверждение сего дан сей наш императорский диплом, за приписанием руки и припечатанном государственный печати нашея, в Луцку, апреля 13 дня 1711 году.
Пётр.
Граф Головкин».
– А что мултянский господарь Брынковян? Подаёт о себе вести? – спросил Пётр, когда дьяки переписали диплом и поднесли царю на подпись.
– Последнее письмо, государь, было от него ещё в генваре месяце минувшего года, – отвечал Головкин. – Писано было на моё имя и тогда ж докладывал вашему царскому величеству.
– Запамятовал я. – признался царь.
– А писал он о том, что салтан к войне приготовляется и что понужают турки нашего посла Толстого согласиться на проход короля шведского чрез Польшу в свои владения.
– Вот теперь вспомнил. О том и Толстой отписывал. Князь Голицын, губернатор киевский, то письмо получил и с курьером переслал.
Память у царя была ёмкой, и он удерживал в ней многое. Подробности, как бывает, не сразу всплывали на поверхность, а лишь тогда, когда приспевала крайняя нужда. Да, память царя порой изумляла его окружение, особенно когда речь шла о давнем поручении, казалось бы забытом царём Нет, он держал его в памяти и, когда являлся случай, тотчас напоминал о нём, ожидая доклада об исполнении. Нерадивому доставалось порою и дубинкою.
– Кое-какие известия от его стороны доходят, – продолжал Головкин, – но всего более чрез торговых людей. А чтоб верного человека прислать, этого нет.
– Мню, что сей господарь и сам не из верных, – заметил Пётр. – А ведь многие милости ему оказаны. И жаловал он от меня кавалерией святомученика Андрея Первозванного.
– А сколь соболей ему послано, – вмешался Шафиров. – Боится он за свой господарский стол, вот что турок-де под боком, скинет в одночасье и на кол посадит.
– Да, сказывают, сильно осторожен сей князь. Боится он пуще всего за сынов своих: они у него в аманатах в Цареграде, – подтвердил канцлер. – Прав, Пётр Павлович: салган чуть заподозрит в сношениях с нами – на кол посадят либо головы отрубят.
– Да, жаль его. И мало надежды, хоть она и остаётся, – Пётр явно сожалел об этом, о том, что тот, кого он числил в надёжных союзниках, с кем были налажены надёжные связи, похоже, отпадёт. Как видно, турок о чём-то прослышал, у него в доносчиках нету недостатка. И всё-таки надежда теплилась: может, не войском, то хоть провиантом поможет господарь Брынковян.
В провианте была едва ли не главная нужда. И заботы более всего было о нём, о провиантских магазинах, устраиваемых на пути следования армии. Разговором о провианте и фураже консилия завершилась, и Пётр отпустил всех.
«Славно пожили у графини Олизар, – думал он. – Всё, что можно, от неё получили. Пора и честь знать: таковое гостеприимство оковывает по рукам и по ногам. Надобно отправляться!»
На его плечах судьба армии да и судьба России. Его волею, его энергией двигалось всё в эту пору. Кабы не болезнь, которая его обездвижила, давно был бы в дороге...
А тут ещё графиня Олизар. И её гостеприимство. Ох, слаб человек – давно сказано то святыми апостолами. И он, Пётр, почитавший себя сильным и не дававший себе поблажки, тоже, выходит, слаб!
Что тому причиной? Впрочем, он знал – отчего это. И, оставшись наедине с Екатериной, в час сокровенный – час близости, когда высота взята и порыв иссяк, когда пришло время разрядить звенящую тишину, Пётр неожиданно признался:
– А знаешь, худо у меня на душе, Катеринушка. Ибо чувствую: лишён я Господней милости. Не оттого ли насылает он на меня многие недуги. Гляди-ка: в третий раз настигает меня в дороге кара. И раз от разу всё тяжче.
– Больно тяжёл путь наш, государь-батюшка, – пробовала утешить его Екатерина. – Забот больно много, думы о сей войне тяжкие да тревожные, душа разворохнута. Много всего накопилось. Вот станет тепло и дороги станут, и всё пойдёт справно.
– Нет, матушка, видно, прогневал я Всевышнего и лишён его милости и благоволения, – твердил своё царь. – Не будет мне удачи в сей войне, вот увидишь. Знак даден.
Таких речей обомлевшая Екатерина ещё ни разу не слышала от своего повелителя. Она на мгновенье потеряла дар речи. Не знала, как отговорить его, как отогнать дурные предчувствия. Поняв, что слова излишни, что утешения всё равно не помогут, обняла его и стала целовать – всего-всего, каждую частицу, всё снижаясь и снижаясь, пока не дошла до самых ступней.
Пётр лежал неподвижно, всё ещё во власти своих невесёлых мыслей и дурных предчувствий. Он решил довести их до края, в смутной надежде, что они уйдут сами по себе.
Может, брак его с Екатериной не угоден Господу и прогневал его?
От этой мысли он невольно застонал. А Екатерина, не оставившая своей ласки, поняла его как призыв. И стала ещё настойчивей.
Впрочем, это и был невольный призыв. Под его жарким натиском Пётр забыл обо всём.
Обо всём, кроме Екатерины!

Глава седьмая
МИЛОСТЬ И ИСТИНА

Милость и истина да не оставляют тебя:
обвяжи ими шею твою, напиши их на
скрижали сердца твоего, – и обретёшь
милость и благоволение в глазах Бога и людей.
Книга Притчей Соломоновых
Голоса: год 1711-й, апрель – май
УКАЗ Г-НУ ФЕЛЬДМАРШАЛУ ГР. ШЕРЕМЕТЕВУ
1. Чтоб всей армии к 15-му, а по нужде кончае к 20-му числу мая стать в поле от Бреславля (Брацлава) к Днестру.
2. Чтоб с собою на месяц провианту было, а к тому ж ещё собрать в той Украйне, сколь возможно, а именно на три месяца...
4. Рекрут, как наискорее, приняв, разделить и учить непрестанно стрельбою, також и драгунам стрельбу пешим и конным твердить, а пороху 20000 пуд послано в Киев...
7. Сие всё исполнить, не опуская времени, ибо ежели умедлим, то всё потеряем. Також судов на Днестре изготовить и плотов. К тому ж чего здесь и не писано, а интерес наш требовать будет, то исполнять, как верному и доброму человеку надлежит.
Пётр
Пётр – Августу II
Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший брат, друг и сосед... дабы мы междо собою принадлежащий уговор и нужные меры восприять могли, того ради требует сей случай... наискорейшего нашего персонального свидания. И для того б я в благоугождение вашему величеству охотно по желанию вашему в Краков приехал, ежели б я ради своей в Слуцком зело Опасной... болезни и в протчем для охранения своего здоровья вешнее лекарство ныне принимать не принуждён был. И сверх того понеже уже кампания приближалась, и ныне войско у волоских границ... збиратца начали, и я тако вскоре принуждён буду туда ехать, того ради прошу... дружелюбно братски ради общего дела на себя труд восприять и даже до Ярославля (Ярослава) или Решева, как наискоряе, приехать...
Пётр – Апраксину
Г-н адмирал. 3 денщиком вашим Таракановым послано к вам виноградных череньев, которые вывезены из Венгров, четыре боченка, из которых пошли для разводу в Азов треть для того, что в той стороне ныне война; а две доли к брату своему Петру Матвеевичю в Астрахань, а для бережёная их послан драгун, которой с ним из Венгров приехал.
Екатерина из Яворова – Меншикову
Доношу вашей светлости, чтоб вы не изволили печалиться и верить бездельным словам, ежели со стороны здешней будут происходить, ибо господин шаутбенахт по-прежнему в своей милости и любви вас содержит.
Пётр
Герцогине Брауншвейг-Вольфенбюттельской Христине Луизе. Светлейшая герцогиня. Из отправленного от вашей любви к нам приятного писания от 30-го генваря усмотрели мы с особливым уважением воспринятое с вашей страны удовольствование о данном от нас позволением к супружественнной аллианции между нашим любезным сыном царевичем и вашей любви принцессы дщери... При рем обнадёживаем вашу любовь крепчайше, что мы всякого способа искать будем и всему вашему светлейшему дому всякие знаки нашей приязни и склонности показывать...
Дворец смотрелся в озеро.
Его окружал регулярный парк, устроенный на французский манер: с куртинами, гротами, беседками, статуями, пышными клумбами. То был как бы малый Версаль.
Дальний берег терялся в дымке. Островки в зелёных4 шапках либо плыли, либо были недвижимы – всё зависело от погоды.
Сейчас озеро было подернуто лёгкой рябью, и островки, казалось, начинали покачиваться, готовясь к отплытию.
Пётр был восхищен: озеро! После Луцка к нему вернулась лёгкость, и здесь, на берегу озера, тревожные мысли отлетели.
Родовой замок Радзивиллов в Яворове был ещё пышней того, в котором принимала русского царя графиня Олизар. Но не пышность его пленяла Петра, не великолепные апартаменты, отведённые им, не парк – истинный шедевр нескольких поколений княжеских садовников, а озеро. Озеро с его манящей притягательной далью.
Весна утвердилась здесь во всей своей щедрости. Всё, что могло цвести, цвело, и благоухание цветущих деревьев и кустарников причудливо мешалось. Казалось, природа спешила загладить все свои предшествующие несообразности. Да, так бывает порой после водополья, после хмурых и тягучих дней припозднившейся весны.
Гармония этого места очаровывала решительно всех, кто здесь бывал. Сюда любил езживать знаменитый король Польши Ян Собеский – неустрашимый воин, наводивший страх на турок и татар.
– Тень короля Яна ещё бродит по этим дорожкам, – сказал Петру хозяин замка канцлер Великого княжества Литовского князь Николай Доминик Радзивилл. – Всего пятнадцать лет тому, как душа его отлетела. Он любил гулять здесь, как мы с вами, ваше царское величество. Он многажды бивал турок. И благословение его непременно пребудет с вами, ибо вы коснулись его тени.
Князь любил витиевато выражаться, но это было и в обычае, и в духе вельможной шляхты. Пётр был ему благодарен – нуждался в ободрении, а тем более в благословении непобедимого короля Яна, тень которого витала над замком и над этими дорожками.
Русский царь стал магнитом. Он притянул в замок Радзивиллов польских вельмож с их обольстительными жёнами. Явился и сын короля Яна королевич Константин – бесцветный молодой человек с мелкими чертами лица, однако с важными манерами, приличествовавшими наследнику знаменитости, который более всего многозначительно молчал.
Зато другой визитёр вызвал неподдельный интерес Петра. То был князь трансильванский и венгерский Франциск Леопольд Ракоци – вождь венгерского восстания против австрийского ига.
О Ференце, как его именовали венгры и как представлялся он сам, Пётр был много наслышан – о его отважности и неустрашимости. Канцлер Головкин склонен был видеть в нём бунтовщика, однако Пётр так не думал: князь в его глазах был неким противовесом заносчивой императорской власти. Таким его видели и французы. Ещё в прошлом году посол Балюз по поручению короля Людовика просил оказать князю всяческую помощь, вплоть до военной, в его Стремлении отложиться от Австрии. Но то был французский интерес, и Пётр ответил тогда, что сия акция ему неподступна, а войско занято шведом.
Потом ему доложили, что Ференц Ракоци подался к Карлу и задумал-де со шведом интрижества против России. Это показалось Петру несообразным, о чём он и сказал докладывавшему ему о том Головкину. Какой, мол, резон Ракоцию идти против России? Ещё четыре года назад он подписал тайный договор с нею, послов своих направил, просил царя о помощи. Тогда отмахнулись, и Пётр о том забыл: шведы наступали на пятки.
И вот они сошлись – царь и Ракоци. Нос с лёгкой горбинкой, упрямо сжатые губы и сильный подбородок, глаза, глядевшие не мигая, – весь олицетворение мужества и прямодушия, князь понравился Петру с первого взгляда. И Ракоци без обиняков приступил к Петру.
– Ваше царское величество, нас теснят австрияки. И хуже того, в наши ряды затесался предатель, барон Каройи, которому я доверил командование армией. Он капитулировал. Наше дело проиграно. Мне ничего не остаётся, как просить у вас защиты, убежища и помощи.
– Россия даст защиту и убежище, князь. Мы приютим гонимых. Но вот помощь... – Пётр развёл руками. – Мне самому надобна помощь. Молись, князь, дабы мы турка одолели. Вот тогда потрактуем и о помощи.
Множество сановного народу съехалось сюда, в Яворов, рада русского царя. Ждали короля Августа. Но он, по обыкновению своему, ускользнул.
«Экий шельмец, – подумал Пётр, впрочем, беззлобно. – Который раз уходит склизкой рыбою из верши. Но я его изловлю-таки и понужу к алиансу. Союзник! Заманивал в Краков при том, что знает, шельмец: дорога моя на войну».
Царь прогуливался с Ракоци, когда к ним подошёл французский чрезвычайный посланник де Балюз.
– Кого ваше величество определит на место скончавшегося вашего резидента при дворе моего короля? – спросил он.
– Покамест определён секретарь Григорей Волков. Далее же полагаю поручить сию миссию князю Борису Куракину, искусному в дипломации. Он был министром при английском дворе.
– Ваше величество сделали прекрасный выбор, – заметил де Балюз. И продолжал: – Я последовал за вами по воле короля Людовика. Он предлагает своё посредничество между вами и султаном, вами и королём Карлом шведским. Мир между Оттоманской империей и Россией, мир между вами и королём Карлом, – вот к чему призывает мой повелитель.
– А вы, князь, чего хотите вы? – обратился Пётр к молчаливо шагавшему рядом Ракоци.
– Того же, что и король Франции, – мира.
– Император Иосиф умер, – торопливо сообщил Балюз.
Это была преважная новость. Пётр перекрестился, Ракоци вздохнул. Казалось бы, он должен был испытать род облегчения: умер тот, кто преследовал его, кто был душителем антиавстрийского восстания венгров. Но он оставался по-прежнему грустен. Балюз с чисто галльской экспансивностью заметил:
– Вас, князь, эта новость должна вдохновлять.
– Увы, наше дело проиграно – я только что рассказал его царскому величеству. Тот, на кого я оставил армию, капитулировал перед австрийским главнокомандующим графом Пальфи.
Де Балюз был ошеломлён. Это означало и поражение Франции. Что скажет король Солнце? Ему, как видно, придётся проглотить пилюлю. Не повлечёт ли это за собой отставку министра иностранных дел маркиза де Торси? И его, Балюза?
Пётр со снисходительной усмешкой глядел на француза. Он понимал, что творится в его душе: год назад по поручению своего короля он ратовал за военную помощь Ракоци. Теперь его должны отозвать: Волкову поручено сделать на сей счёт представление. Балюз-де держит сторону шведа, а это российскому двору неугодно.
Жаль князя – он нравился Петру. В самом ли деле он искал союза с Карлом?
– Не стану хитрить, ваше величество: да, я искал помощи шведского короля, равно как и турецкого султана, – глядя прямо в глаза Петру, отвечал Ракоци. – Россия мне в такой помощи отказала. Я вовсе не пеняю вам, – прибавил он торопливо, – мне известны ваши трудности...
– Великие тягости, лучше сказать. Но Россия всегда окажет вам гостеприимство, а с ним и кредит, как было досель, – произнёс Пётр с теплотой.
Потрясённый француз как-то незаметно исчез. К свите царя присоединился Феофан Прокопович – новый фаворит Петра, вызванный им из Киева, где тот преподавал в духовной академии.
Феофан был истинный златоуст, философ и занимательный собеседник. По его собственному признанию, он прошёл огонь, воду, медные трубы и чёртовы зубы. В своё время оставил академию, подался в униаты, прошёл пешком всю Европу, достиг Рима, Ватикан стал его второй альма-матер, бросил и Ватикан и богословие, отправился пешком же обратно через университеты Лейпцига, Йены, Галле, закончил свой путь в Почаевской лавре, где снова принял православие. Елисей при святом крещении, он в униатах сменил имя на Самуил, а при постриге стал Феофаном.
– Стало быть, прожил ты три жизни, – заметил Пётр, выслушав одиссею монаха, – Елисей – Самуил – Феофан.
Сей феноменальный Феофан изрядно знал языки, упражнялся с успехом в риторике и поэтике, словом, по складу натуры был человек светский и вольнолюбивый, хоть и в монашестве. Петру были по душе его бесшабашность, ироничность и насмешливость в отношении к духовным, как белым, так и чёрным, к которым принадлежал.
Они сошлись – царь и монах. Петру был нужен Феофан – златоуст и проповедник, сполна оценивший значение его реформ и облёкший их в словеса. Царь сбирал талантливых под своё крыло, он притягивал их как некий магнит, да и они льнули к нему, ибо сам он был талант, а может, и более того.
Сейчас меж них зашла речь о вере истинной и ложной. Что есть вера – государственная ли надобность либо просто духовное утешение.
– Хулители веры наносят вред государству, – утверждал Пётр. – Они не должны быть терпимы, поелику подрывают основание законов, на которых утверждается клятва или присяга и обязательство. Посему вера есть условие государственного благоустройства.
– Согласен, ваше величество, – улыбался в бороду Феофан. – Вера суть духовные вожжи для управления людьми. Но вера должна иметь основанием разум, ибо ежели она оголена, то обращается в фанатизм. А всякий фанатик противен Господу.
– И я с сим согласен, – улыбался Пётр. Оба оставались довольными друг другом, потому что мыслили ровно, а не розно, как бы дополняя друг друга. К тому же оба увлекались мыслительной игрою – шахматами. И могли передвигать фигуры часами, к общему неудовольствию.
– Но! – и Пётр назидательно воздел вверх палец, длинный как кинжал. – Ежели сильно умствовать в вере, то она обращается в нечто, недоступное верующему. А вы, философы, своим умствованием запутываете и отпугиваете стадо Христово. Проще, проще надобно, с открытою, незамутнённой мудрованиями душой идти к Господу. В простоте суть истинной веры. И посему я противлюсь патриаршеству. Ибо один человек не может своевольно толковать и устанавливать законы Божии и установления церкви. К такому толкованию способней будет коллегия мыслящих иерархов церкви.
– Важно, – согласился Феофан. – Мысль великая. Кроме того, в государстве должно быть единому управителю. От многих владык – многое несогласие и многая нестройность. Мирская власть – от царя, духовная – от Бога, а не от слуг его. Стало быть, в государстве единый властитель – царь.
– Верно мыслишь, Феофане, – и Пётр добродушно хлопнул монаха по плечу, отчего тот слегка присел. – И беседы с тобой пользительны. Доволен я, и будешь ты отныне при мне безотлучно.
Министры слушали это без удовольствия: ещё один соперник. Провидели они: быть Феофану в епископской митре. Стало быть, не опасен.
Опасен не опасен – к Петру это не могло иметь отношения: он был не из тех государей, что живут чужим умом – умом своих министров, приближённых, фаворитов либо фавориток. Царь всея Руси был единодержавен, единовластен, единомыслен, единоволен... У царя Петра хватало всего своего, и этим он весьма отличался от всех дотоле правивших Романовых и от блаженной памяти батюшки своего Алексея Михайловича. Тишайший был тоже самовит, однако же часто «сумлевался» – как сам признавался. Призывал бояр, Никона – когда тот был в силе – на совет. Боярская дума, случалось, прекословила царю, однако царь Алексей был не из обидчивых – соглашался.
Здесь, в Яворове, Петру было необыкновенно хорошо, он тут тотчас прижился. Не было недостатка в достойных собеседниках, всё располагало к благости, к душевному и телесному отдохновению. Ждал приезда короля Августа, надеялся подвигнуть его на серьёзную помощь.
И в этом ожидании чувствовал некое щемление. И однажды, глядя на безмятежную гладь озера с плававшими островками и стайками уток, он вдруг понял, чего ему не хватает – корабельной потехи.
Да, поработать бы вволю топором, намахаться, вдыхая запах дерева, щепы, ощутить былую силу рук и ту рабочую усталость, которая всегда была для него живительной и радостной.
Господи, как же он раньше-то недомыслия! Была, была усталость, да только от многих разговоров, от застолий, от чинности всей здешней жизни.
Призвал Макарова, спросил:
– Не видал ли на берегу шлюпки какой?
– Нет, государь, народ здесь всё сухопутный. Может, и есть где, да рассохлась. Прикажете разузнать?
– Непременно. А пуще всего охота помахать топором. Нет ли у них материалу да инструменту? Сладил бы бот. Великую охоту к тому испытываю.
Как же – всё нашлось. Имение князя Радзивилла было обширно и богато, с мастерскими и мастеровыми и всяким материалом.
Угодить царю – большая честь. Отданы были распоряжения, напилили досок, навострили топоры. Пётр с плотниками сошёлся, как сходился с мастеровым людом в Саардаме, либо на адмиралтейских стапелях в Воронеже, либо в Питербурхе. Они наперебой старались угодить ему, норовили сработать за него: мол, негоже царю топором махать. Он добродушно отгонял их – сам работный человек.
Увидели – царь-то и впрямь работник. Никому из них не уступит. Может, старый Януш, единственный, кто осмеливался вступать в спор с царём, мастеровитей его. И то сказать: с малолетства хлеб себе плотницким делом добывал, разные художества из дерева творил.
За плотницкой работой отошло всё дурное от сердца Петра. С рассветом приступал. Два помощника было у него: Януш и сын его Мечислав.
Солнце степенно подымалось над озером, озирая и благословляя их. Дерево было податливо, щепа и стружки ковром устилали землю. Тяжёлый дубовый киль отглаживали втроём. В него вгоняли рёбра – шпангоуты. Пётр осаживал помощников: сила ломит да сломит. Кабы не лопнул дуб от излишнего усердия.
Шпангоуты держали обшивку. Доски притёсывали так, чтобы и волос меж них не просунуть. В воде дерево разбухнет – и течи не будет. А ещё надобно бы просмолить. Дуб-то воды не боится, а вот доски...
Наезжали вельможи глядеть на царя-плотника. Пётр глаз не подымал – работал. Ему таковое любопытство было не в диковинку.
Глаза разные. Доброжелательные, восторженные, злые, заискивающие, настороженные, тупые и вовсе бесчувственные... Господи, сколько глаз! Сколько их, видящих вовсе не то, что есть на самом деле, сколько ушей, слышащих вовсе не то, что было произнесено.
А сколь судей в чужих землях! Судящих без доказательств, без свидетелей, едино по своим мимолётным впечатлениям, а всё более по ощущениям. Часто с чужих слов, искажённых недоброжелательством, равнодушием, чем угодно.
Тяжко быть царём. Великое это бремя, неподъёмное для заурядного человека. Обидно быть царём: всяк его судит...
Странно: Пётр особенно остро ощутил это бремя за плотницкой работой в Яворове.
Ловко он топором-то. Сколько голов успел отрубить – наловчился...
Топор ему более пристал, нежели скипетр...
Какой он царь? Эвон его истинное дело...
Ишь, как ладно. Вот бы так и царством правил....
Меж тем дело подвигалось. Бот уже прочно стоял на козлах, поблескивая свежестругаными боками. Да, был он крутобок, строен по морским правилам. И обещал противостоять крутой волне, что в общем-то не ожидалось.
Царица Екатерина, покинутая своим господином на всё время его корабельной прихоти, успела освоиться. Её боярышни приобрели светский лоск, благодаря зорким наблюдениям за вельможными паннами. Эти же были вышколены по-европейски, и манеры у них были самые утончённые, ибо все они бывали при королевских дворах и в Варшаве, и в Дрездене, и даже в самом Париже. Уроков не брали – приглядывались, очи и уши навострив.
Ближе всех сошлась Екатерина с супругой Григорья Фёдоровича Долгорукова. И было к тому времени в недавней служанке столько истинно царского в сочетании с истинно человечным, что княгиня Марья признала её и привязалась.
Ходили они вместе глядеть, как Царь трудится. Не глазели, а чинно прогуливались, приседая в поклоне. Царь махал им, но от работы не отрывался – торопился. Шла к концу вторая неделя его корабельной страды, хотел – а лучше сказать, горел – поскорей спустить на воду своё детище.
Бот вышел вместителен – на пятнадцать душ. Януш с сыном набивали скамьи, Пётр вытёсывал вёсла. Конечно, боту заповедано ходить под парусом, но две пары вёсел непременно должны быть на случай полного штиля. Гребцам достанется, да куда торопиться...
Торжество было назначено на ближайшее воскресенье. Весь народ, что был в имении, равно и окрестные паны, не исключая и челяди, собрался на берегу.
На мачте трепетал треугольный штандарт с петровским вензелем. Его вышила Екатерина, и то был день, когда ей пришлось отказаться от привычного «шпациренганга».
Бот стоял на салазках, в них впряглись мастеровые, слуги, кучера и весело, с гиканьем и криками, потащили-повезли к воде.
Пётр сам окрестил судно. На борту он вывел краской довольно-таки коряво: «Царица».
Всем было ясно, кто был крёстной матерью бота. Царица? Ведомо, какова. Служанка. Царская полюбовница, прихоть Петрова. Однако право великого человека на прихоть не оспорит даже Всевышний.
Бот между тем торопился к своей купели. Он всё ускорял и ускорял движение – берег круто спускался к воде.
Пётр в одиночестве стоял на банке, держась за мачту! Он улыбался.
– Эй, поберегись! – крикнул он, и добровольные бурлаки разбежались в разные стороны. У самого уреза бот плавно соскользнул с салазок и грудью своей поднял волну.
– Ура, ура, ура! – восторженно завопили на берегу. – Экая царица-молодица!
«Царица» важно покачивалась на волнах. Она казалась Петру такою же надёжной, как его новая супруга. Он поднял косой парус, но он беспомощно обмяк.
Экая незадача! Да и куда пристать? Князь Радзивилл был человек степенный, весьма высоко понимавший своё фамильное достоинство, а потому не поощрявший никаких потех – ни на суше, ни на воде. Правда, он приказал в своё время устроить купальню и проложить мостки для любителей уженья рыбы. Но коли нету пристани, сгодится и купальня.
Пётр взялся за вёсла. Кабы не природная сила, в одиночку не сдвинуть бы бот.
Повелитель великой державы ещё и галерный гребец!
Экая немыслимая и невиданная картина: кто бы мог поверить, что на вёслах – русский царь...
Какую силу нужно иметь, господа, чтобы сдвинуть с места это судно.








