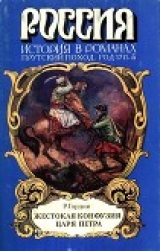
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Народ дикий, и увещания cm напрасны, – махнул рукой Пётр. – Вера Магометова им под нашу руку пойти запрещает. Однако послать надо.
– Станут ли читать, государь, – усомнился Макаров.
– Вот ежели бы нам средь татарского племени завесть орду да обратить её в нашу веру, да чтоб ей привольно жилось, – возмечтал Пётр, – был бы пример даден. А без примеру нет и веры.
– Единоверцы их, татары и башкирцы, на Волге есть, – напомнил Макаров.
– Не добром под нас шли, а неволею, – хмуро произнёс Пётр. – Покорил их царь Иван. И непокорство их сродни ордынскому. Думал я о сём много, нам татары разор и беспокойство чинят, а как их укоротить – не придумал. Народ беглый, бегучий, кочевой, разбоем кормятся. Неужто данью от них откупаться? Прошли те времена, нам нынче самим дань положена...
– За то, что от них в давние времена претерпели и ныне терпим, – подхватил Макаров.
– Вот погоди: ежели Господь сподобит разбить турка, то и татарское племя присмиреет. А вдале предвижу времена, когда мы самое гнездо ордынское, Крым, возьмём под свою державу. И тогда только избудем беспокойства. И ещё потому в том важность великую вижу, что тогда и Чёрное море нам покориться может.
«Достанет ли только веку моего и сил российских, – задумался Пётр. – Подступили к Чёрному морю с востока, вышли на Азов: первый шаг сделан. Однако шаг малый...»
Мечтал царь о широком шаге – утвердиться в Крыму и оттоль грозить Царьграду, захваченному турком, где святыни христианские поруганы басурманами. Сколь единоверцев томится под их пятою: сербы, греки морейские, болгары, волохи, мунтяне, кроаты, черногорцы, далматинцы... Кабы поднять их всех за веру Христову.
Вера едина, одному Богу молимся, а врозь смотрим. Знать, сам Господь попускает, раз не наставит народы сплотиться ради единой веры. Загадка сия велика. И что сильней: вера либо обычай? И какая же сила может сплотить, съединить единоверных?
Вечны сии вопросы. Мучили они Петра. Всесилен ли Бог христиан? Единосущ ли он, как утверждают служители его и священные книги? Опасные вопросы, кощунственные. Но ему, повелителю многих земель и народов, дозволено ими задаться... Право-то у него есть, да только ответа нет. Молчат небеса, молчат, боясь гнева Божьего, служители его, мудрецы и пророки...
Вздохнул Пётр и к делам возвратился. Сказал Макарову, молча дожидавшемуся повеления:
– Пиши указ войскам нашим в Польше и Великом княжестве Литовском. Объявляем-де всем, кому о том ведать надлежит, особливо господам генералам и офицерам и прочим команду имеющим, равно и солдатам, дабы опричь потребного провианту и фуража иных никаких поборов не брать и не вымогать под опасением суда и жестокого наказания...
Пётр перестал вышагивать и опустился в кресло.
– Конца сей писанине нет, хватит на сегодня, – объявил он. – Который час сидим – проголодался я. – И Пётр взял колоколец и позвонил. Вбежавшему денщику сказал: – Пущай на стол накроют, да поболе еды подадут. Катерина где, Алексеевна? Зови сюда.
Пётр ел много и жадно – мог есть во всякую минуту. Равно и пить. Подзадоривал Макарова, отличавшегося умеренностью: какой-де мужик! Аппетит должен быть ко всему: к еде, питью, к бабе – и во всякое время. Коли утроба здорова, здоров и дух.
Среди таких царёвых сентенций вошла Катерина. Глядела она несмело: рабочие часы для неё запретны, и она даже на зов являлась с опаской.
– Катеринушка! – обрадовался Пётр. – Посиди с нами, потрапезничай.
Макаров был свой, дружка, царь его не стеснялся. Притянул Катерину к себе, поцеловал в губы. И, как видно, разгорячился. Поспешно доел, сказал Макарову:
– Ты езжай себе, Алексей. Мы с тобой ныне много переворошили. А я обычай соблюду – на боковую. – И он снова обнял Екатерину.
Макаров согнулся в поклоне и выкатился из дверей. Последнее, что он увидел, – Катерину, повисшую на шее царя, и его длинные руки, обвившие её талию...
А потом, выспавшийся и ублаготворённый, Пётр отправился в токарню. Запах дерева действовал умиротворяюще. Мысль текла ровно и ясно вслед за стружкой, вытекавшей из-под резца. Мало-помалу в голове царя складывался образ. Сначала образ деревянной вазы, а уж потом, когда она стала проявляться, образ тех бумаг, которые ему предстояло сочинить.
У всякой бумаги, сочинённой человеком, пусть она и не из ряда изящной словесности, есть свой строй и свой образ. Он постепенно складывается, когда человек приступает к писанию. Неряшливый, многословный, безмысленный либо подтянутый, строгий, требовательный: как бы капитан в штормовом море средь своей команды, где нельзя молвить пустого, неверного слова.
Ручная работа подгоняла мысль, а резец, казалось, обтачивал и её. Мысль принимала форму. Фраза ложилась к фразе, складываясь в предложение. А станок жужжал, нога Петра неустанно нажимала на педаль, стружка бежала и бежала. Провёл в токарне три отрадных часа. А спать лёг рано – натешился.
Катерина умела быть незаметной, ненавязчивой, понятливой и тихой как мышь. Она старалась оберечь покой своего господина. Понимала: сохранить себя в нынешнем да и в будущем ей удастся, если она станет нести своё счастье как полную до краёв чашу – с величайшей осторожностью. Она научилась упреждать любое желание своего повелителя – наука не из простых. Ибо царь Пётр был человек необыкновенный. Угождать необыкновенному человеку, быть лёгкой для него, дарить его одной только радостью – таков её удел.
Рано лёг – рано встал. Никого не тревожа, прошёл в кабинет, очинил перьев и стал писать то, что обдумал накануне в токарне.
Указ о повиновении всем распоряжениям Сената, указ самому Сенату. С ожесточением ткнул перо в чернильницу, полетели брызги, перо смялось, и он бросил его под стол.
Взял другое перо, и мысли потекли ровней. Сенат оставался за него, стало быть, ему следовало быть на уровне государя. То есть суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести, а то и всего имения, тож и ябедникам последует. Отставить во всем государстве расходы излишние, напрасные. Денег как возможно больше обирать, понеже деньги суть артерия войны – полюбившийся ему образ. Собрать молодых дворян в офицеры, а наипаче тех, которые укрываются, сыскать... Предписывалось персидский торг умножить.
Кабы чего не забыть. Походил по кабинету, пощипал короткие усики, вспомнил и приписал: «Учинить фискалов во фсяких делах, а как быть им, пришлётца известие».
Давно затеивал фискалов, да всё как-то руки не доходили. А меж тем указы царские не исполняются, нерадение множится, а смотреть и предотвращать сие некому. Испытал облегчение: легло на бумагу, теперь Сенат о том порадеет.
В шесть утра явились мужи государственные. Он вручил им свои бумаги, потрактовал несколько и велел всё довести до кондиции. И, ощутив облегчение, отправился снова в токарню – доделать то, что не успел доточить вчера.
Успокаивающе журчал станок, вилась стружка, и в лад с нею вились, множились мысли. Деньги, деньги, деньги – вот что заботило его более всего. Для того чтобы напитать несытое брюхо войны, войны на два фронта, надобилось много денег. Соль – деньги, притом немалые, ремесла – деньги, торговля – деньги... Божьих слуг потрясти не худо бы: у них мошна набита, притом более от жадности, а всего менее от нужды. А ещё нужны России новые люди, кои могли бы влить свежину в её закостеневшие артерии. Отчего бы не иноземцы? У них иной взгляд на жизнь, иной склад ума, иной кругозор.
Пётр охотно привлекал новых энергичных людей, не глядя, какого они роду-племени. И окружал его ныне разноплеменный народ, сошлись в царской службе Запад с Востоком. Вот Владиславич-Рагузинский, серб, потомок княжеского рода из Рагузы – славянского Дубровника. В Турции живал, обычай тамошний знает, давал дельные советы послу в Царыраде Петру Андреевичу Толстому. Исправно служил в Посольском приказе, и был казне прибыток от его торговых дел. Ныне будет состоять при нём в походе на турка. А вот Бекович-Черкасский, крещёный кабардинский князь. Вице-канцлер Шафиров – крещёный еврей, Антон Девьер, его соплеменник из Португалии, стал генералом в русской службе, шотландец Брюс – генерал-фельдцейхмейстер, главноначальствующий в артиллерии...
Он сложил инструмент, стал растирать ногу: прошла по ней судорога. Бросил прощальный взгляд на токарный станок. Увы, теперь свидание с ним откладывается надолго. Бог весть когда закончится эта нежданная нежеланная война с турком.
Министры и новоизбранные сенаторы покорно дожидались его возвращения. Воззрились на него в ожидании царёва напутного слова.
– Господа Сенат! – воззвал Пётр. – За отлучкою моей станете вы править в государстве. Указы вам на сей случай сочинены. Токмо не по единому слову указов, а по сердечной праведности вашей надлежит вам действовать. Главное же по отъезде моём нелицемерно трудиться о денежном сборе, понеже деньги, как писал я в указе, суть главная артерия войны, и без оных последует разбитие войск наших за недостатком оружия, амуниции и разных припасов...
От господ сенаторов речь держал граф Мусин-Пушкин.
– Ваше царское величество пусть не сумлевается – порядок в государстве будем содержать всенепременно я указам ревнительно следовать.
Граф говорил долго и витиевато: среди господ сенаторов он был главным златоустом. Пётр слушал его вполуха. Время утекало меж пальцев, и царь не мог его удержать. То время, которое паче оружия служит иной раз победе либо поражению.
Он бесцеремонно прервал очередного оратора: им был князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский по прозванию «монстра».
– Сир, довольно языком молоть. Недосуг – война кличет, ехать надобно.
Пётр раздувался от нетерпения. Как-то вдруг открылись ему все потери и протори. Он приказал собираться по-быстрому, ибо ожидать никого более не станет.
Много народу в свите, чрезмерно много. А что поделаешь? Огромный выходил обоз. Близ двух тысяч карет, поставленных на полозья, возков, саней. Да ещё конного народу полтора полка. Не только люди военные да чиновные, походные канцелярии, но и жёны офицерские да генеральские, иные с детушками, а с ними слуги да холопья, повара да мундшенки...
Отбывали из Кремля после торжественного молебна с освящением. Наперёд пустили большую часть обоза – самую никчемушную и неповоротливую её часть – дамскую и челядинскую. Царь поглядел на неё издали махнул рукой. Нету сладу со всей этой оравой, камнем повиснет она на шее армии.
Махнул рукой и вернулся в Преображенское. Там полным ходом шли сборы.
– Медленно ворочаетесь, – сердито буркнул он, проходя мимо Катерины. – Когда ещё было сказано всё увязать.
Она неожиданно расплакалась: день-деньской суетится, за хлопотами забыта еда и питьё, а тут попрёк... Несправедливость горше всего.
– Вот ещё чего, – смягчился Пётр. Последнее время он как-то её не видел – занят был по гордо. – Полно тебе, матушка, слёзы-то лить. Чать, не обидел я тебя.
Говорил, а сам понимал: обидел, обидел. Не глядел в её сторону, бурчал.
– Царь-государь, разлюбил, верно, рабу свою, – бормотала она сквозь слёзы. – Али провинилась чем, рассердила, прогневала? Али неугодна стала?
– Угодна, угодна, – торопливо произнёс Пётр и ушёл к себе.
На столе всё ещё громоздилась кипа бумаг на резолюцию. Писал, разбрызгивая чернила, откладывал и снова писал. Раздражение, копившееся весь день, изливалось в надписях: они были коротки и ругательны, вовсе не для деликатного глазу.
Напоследок подумал о Екатерине. Теперь, когда она прикована к нему церковным обетом, как цепью железной, он утратил то беспокойство, которое постоянно ощущал, когда она жила на стороне.
Ощущение прочности – он добивался его во всех своих делах – теперь уж не оставляло его. Прочности их связи, освящённой церковью. И сердцем.
Он погасил свечи и пошёл на половину Екатерины. Она готовилась ко сну, но, увидев своего повелителя, засветилась.
– Ай, вспомнили меня, рабу свою верную, государь-батюшка, – всплеснула она руками.
– Не забывал, – усмехнулся он. – Забот полон рот, отодвинули тебя те заботы.
И обнял её упругое податливое тело, повиновавшееся всякому его движению. И желанию.
Неожиданно она отодвинулась. Розовое тело светилось в полумраке.
– Рубаху сниму. Дозвольте и с вас.
И нетерпеливыми руками стала расстёгивать его камзол.
– Не успел» – оправдывался он.
– И не надо. Это мне в радость. Я всё сама...
– И мне, – бормотал он, покорно отдаваясь её рукам. Не покорствовал и не привык покорствовать, но тут это было ему в радость. Только тут. Желание всё жарче и жарче разгоралось в нём.
– Катеринушка, – простонал он, уже мучимый её руками, её губами, всем её жарким телом.
Теперь они царствовали оба.

Глава четвёртая
ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ

С великою силою и с многочисленным
народом фараон ничего не сделает для
него в этой войне, кота будет насыпан вал
и построены будут осадные башни на
погибель многих душ.
Книга пророка Иезекииля
Голоса: год 1711-й
Пётр – Мусину-Пушкину
При сём посылаем вам книгу артилерискую Бухнерову, которую велите напечатать. Также велите поискать на дворех князь Александра Даниловича Меншикова или на Потешном дворе коляски маленкой, которая, едучи дорогою, чрез инструмент указывает, сколько уедет в час вёрст, и, обыскав, пришлите к нам.
ГРАМОТА ПЕТРА ХРИСТИАНСКИМ НАРОДАМ,
ПОДВЛАСТНЫМ ТУРЦИИ (С ГРЕЧЕСКОГО)
...Я, царь московский и всероссийский, посылаю это письмо... всем верным, всем митрополитам, любящим нас, а также воеводам, сардарам, предводителям клефтов, начальникам и всем единоверным христианам, и ромеям... а также сербам, хорватам, арнаутам боснийцам, и всем, находящимся в монастыре Румелии, в Черногории, черногорцам, яниотам, дерникпидам, торнувлидам... короче говоря, всем, кто любит Бога, и всем христианам шлю привет и вручаю вас Богу. Я беру на себя тяжкий труд ради любви к Богу, для чего я выступил на войну против Турецкого царства...
...каждый, кто любит нас и любит Бога и уповает на него и хочет войти в рай, – все с чистым сердцем пусть возьмут на себя тот же труд... Настоящая война, которую я веду, является справедливой... И объединимся против врага, и опояшем себя шпагой, начнём войну, прославив царство наше, ибо ради освобождения вашего я иду на муки...
Пётр – Сенату
...О высылке в Смоленск провианту подтвердите, дабы определённое число по указу было выслано, что зело нужно, ибо по наш в Смоленск приезд ничего в привозе не было, а половодье приближается и когда вода уйдёт, то по Двине невозможно будет провесть.
Пётр – Меншикову
...На маеора Шулца превеликая есть жалоба не точию в грабеже, но в убивстве; того ради изволь его к нам прислать с провожатым. Також зело удивляюсь, что обоз ваш с лишком год после вас мешкает; к тому ж Чашники будто на вас отобраны или претендуют... В чём зело прошу, чтоб вы такими малыми прибытки не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбитца о том, ибо первая брань лутче последней, а мне будучи в таких печалех уже пришло до себя и не буду желеть никого.
В протчем предаю вас в сохранение Божие, и здесь пили в вашей вотчине про ваше здоровье.
Пётр – Апраксину
Господин адмирал. Понеже мы слышали ещё на Москве при отъезде своём, что татары как кубанцы, так и хан ушли паки в свои жилища, и когда так учинилось, то уже вам корпус Бутурлина требовать и с оным случатца, також и вам на Украине долго мешкать не для чего. Того ради и рассуждаю вам итьтить к Азову и казаками и калмыками и протчее действовать с начала весны водою и сухим путём, как говорено и как Бог вам вразумит...
Пётр – королю Августу II
Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший брат, друг и сосед. Нашему королевскому величеству и любви не могу оставить, не объявя, что я третьяго дни в Слуцк приехал и тотчас отсюды в Луцк на Волынь чрез почту еду. И понеже при нынешних случаях наша общая полза нужно требует, дабы нам с вашим королевским величеством, коль скоро возможно, видетися, и тако прошу ваше величество паки, да изволите такоже в близость от того места приехать и место назначить, где мы счастие и увеселение имети можем друг друга приветствовати и о настоящих нужнейших делех согласие учинить.
Утоптали, уездили дороги к Преображенскому, стали они широкими да гладкими – до блеска, в лучах восходившей луны, в колеблющемся свете смоляных бочек, факелов, фонарей...
Весна всё ещё медлила, с вечера начинал хватать крепкий морозец. И слава Богу, слава зиме! Санный-то путь лёгок и быстр, не то что колёсный. А ежели наездить дорогу, то вовсе распрекрасно.
Наездили, да ещё как! Все дороги окрест были запружены. И самому царю пришлось бы пробивать себе путь.
Он же всё ещё приуготовлялся. Домашние держали его за полы, мужи его совета, сенаторы и прочие, касавшиеся до управления, – за бумаги да резолюции. Словом, как перед всяким отъездом: на охоту ехать – собак кормить.
Стефан-митрополит с причтом из иерархов святили каждую карету, каждый возок да сани. Всем досталось по капле святой воды – обороны от нечистой силы.
Толпились вкруг царя сановники, отправлявшиеся с ним в неведомый путь, сенаторы, губернаторы, призванные для проводов царя: князь Матвей Петрович Гагарин, правитель всея Сибири, великий лихоимец; ближний боярин Пётр Матвеевич Апраксин – губернатор казанский, братец адмирала; Алексей Курбатов – правитель архангелогородский, из простых мужиков, возвышенный царём за смекалистость; управитель Московской губернии Василий Семёнович Ершов... Народ сиятельный и народ попроще – все толпились за оградою Преображенского – кто где.
Время утекало. Несильное мартовское солнце неспешно, но неотвратимо укатилось на запад. Ему наследовал месяц, выныривавший из облачных ухабов. А в Преображенском всё гомонили.
Пётр вывел Екатерину на крыльцо. Он цепко держал её за руку, словно боясь бегства.
– Почитайте Екатерину Алексеевну за царицу, – громогласно объявил он.
Новоявленная царица залилась краской, и это ей шло.
– Вот уж поистине маков цвет, – вполголоса сказал подканцлер Пётр Павлович Шафиров канцлеру Гавриле Ивановичу Головкину. Они поклонились новой царице низким поклоном. Знали: старая царица пострижена под именем инокини Елены и надёжно упрятана в Покровском монастыре в Суздале.
По людям как волна прошла – поклонились все. Среди вельмож не было, однако, таких, кто не знал бы происхождения царицы. А что было ведомо вельможам, ведали и холопья их.
– Царь Мидас прикосновением своим обращал всё в злато, – вполголоса заметил Головкин. – Наш царь Пётр Алексеевич и холопа прикосновением своим обращает в высокородного.
То был прозрачный намёк не только на явление новой царицы, но и на стоявшего рядом подканцлера. Пётр Павлович Шафиров был крещёный евреин и взят из лавочных сидельцев в Посольский приказ за знание языков разных. Гаврила Иваныч несколько ревновал царя к своему подначальнику, волею прихотливого случая попавшего из грязи если не в князи, то в бароны. Пётр нуждался в нём и часто призывал для совета – гораздо чаще, чем самого канцлера.
Ждали слова царя, глазели на новую царицу: мало кто лицезрел её прежде.
– Пригожа, пригожа, – прошелестело в толпе, окружившей крыльцо.
И в самом деле пригожа. Статная, белокожая, чернобровая, она казалась боярского либо дворянского роду-племени, во всяком случае под стать царю. И выбор его был молчаливо одобрен.
– Езжайте, – наконец произнёс Пётр.
Сказал негромко, но был всеми услышан, ибо то было слово царя, и относилось оно ко всем и ни к кому в частности.
– Езжайте с Богом, – повторил он и оборотился в дом.
Открылась суета, задвигались кареты и возки, заскрипели, зашуршали полозья, причудливо заплясали огни факелов. Место перед главными воротами, дотоле заставленное сплошь, быстро очищалось, давая дорогу царскому поезду.
Царь прощался с любимой и единственной кровной сестрицей своей царевной Натальей. Комнатные девушки, окружавшие её в светлице, завидев его, в испуге прыснули за дверь.
– Прощай, Натальюшка, – он трижды поцеловал её и перекрестил.
– Прощай, государь мой батюшка. Храни тебя Господь, – она трижды перекрестила Петра. – Наклонись-ка, дай поцелую тебя.
Пётр покорно наклонился. Наталья обвила его шею руками и заплакала.
– Храни тебя Бог, – повторяла она сквозь слёзы. – В Катеринины руки отдаю тебя. Они у неё сильные... Она тебя соблюдёт...
Пётр вздохнул. Он не любил чьих бы то ни было слёз.
– Душа мается, – признался он и рукой отёр слёзы Натальи. – Перестала бы реветь, и так тошно. Далёкий, неведомый путь...
– От Полтавы недалече, – перебила его Наталья. Глаза её высохли, она глядела ясно. «Мудро молвила, – подумал Пётр. – И в самом деле, недалеко, и путь вроде свычен». Наталья же, словно угадав его мысли, продолжала: – Бывал ты тем путём. А потому освободи душу, братец. Господь будет над тобой. И все мои мысли с тобою.
– Спасибо, Наташа. Береги себя – ты мне надобна и любезна. – И он снова поцеловал её в лоб. – Девочек моих призри, Аннушку и Лизаньку.
– Не беспокойся, государь-батюшка, глаз с них не спущу.
– Пошёл я.
– Ступай, братец, с Богом.
Царица Прасковья с племянницами, царевны Милославские поджидали его на крыльце. Милославских было много. Все они не любили царя, но глубоко прятали эту свою нелюбовь: царь был грозен, страшен я непонятен. Непонятность и непредсказуемость страшили более всего. Полно, в самом ли деле зачала его Наталья Нарышкина от богобоязненного и милостивого царя Алексея? Не вмешался ли нечистый либо немчин окаянный? Эвон какой он, царь-то, огромный да рыкающий, с лютерским семенем якшается, одно оно ему по сердцу. В жёны-то от живой православной супруги боярского корня взял безродную лютерку. Все установления презрел. Ну не срам ли!
Пётр Прасковью облобызал и племянниц тож, остальным поклонился. После разговора с сестрой стало ему легче, душа и в самом деле мало-помалу облегчалась. Видно, от того, что ко времени вспомнила Натальюшка Полтаву. А и в самом деле: и тогда путь был далёк и безвестен, а неприятель куда как грозен, не чета турку...
Была Полтава, был Азов – тоже край земли, вотчина татар да турок. Сладили. И со шведом, и с басурманам.
– Готова ль ты, государыня, в дорогу? – повернулся он к Екатерине.
Екатерина почти сбежала с крыльца. За нею следовали боярышни, назначенные в свиту, будущие фрейлины, и комнатные девушки. Присела перед ним в поклоне, торопливо произнесла:
– Готова, ваше царское величество.
Пётр стоял, раздумывая. Хотелось бы ему в Катенькину карету, да привалиться к её тёплому плечу, вдохнуть запах её тела я задремать под укачивающий бег саней. Но этикет нельзя было нарушить: в царицыной карете место её боярышень...
Вздохнув, подозвал Макарова:
– Со мною кроме тебя да денщика Головкин и Шафиров. Выдюжит карета нас?
– Во многих дорогах проверена, – отвечал Макаров. – Сильная карета.
– Ну и с Богом, – заключил Пётр. И зашагал, не оскользаясь, саженьими своими шагами. За ним засеменили остальные.
Морозец хватал чувствительно, темень была раздвинута многими огнями, плясавшими на ветру. Огромный царский обоз, скрипя полозьями, правил на юго-запад.
Снежные просторы были немы и мертвы. Не было, казалось, окрест ни жилья, ни человечьего духа. А то, что гляделось тусклыми огоньками деревень, были рискучие волчьи глаза.
Невольная тоска пред этими просторами, тоска по тёплому дому, с которым, Бог весть, придётся ли свидеться, охватила всех...
Молчал Пётр, молчал Головкин, молчал обычно говорливый Шафиров... Все они были немолоды, утеряли былую подвижность: да и былое любопытство путешествующего: успели на своём веку побывать в разных странах, наглядеться диковин. Покойной бы теперь жизни, в кругу детей да внуков...
И даже царь – самый неуёмный из них, самый беспокойный и любопытный – притих и оборотился взором внутрь себя.
Там была Катерина. Ни за что и никому, даже сестрице Наташе, которой он доверял всё, не признался бы в этом. То была его слабость. Слабость человека, а не повелителя огромной страны. Он же слыл, и совершенно справедливо, человеком, не ведающим слабостей. Можно ли было счесть слабостями корабельное строение, токарное ли дело и иное рукомесло, коему он был привержен? Нет, разумеется, то было увлечение, коему подвержены и цари и короли. Такое же увлечение и Катерина. И бражничанье и шутейство...
Господь всё простит, ибо несёт он, Пётр, сирень камень, на плечах своих огромную тягость – великое царство. Труждается ради блага его – единая то цель его жизни. Дабы могло оно, царство Российское, процвесть среди всех языков и племён.
Катерина его – малая слабость. Единственная женщина в его жизни, без малого сорокалетней, которой он пока так и не насытился. Единственная женщина, в которой он испытывал нужду. Что-то в нём она открыла, какую-то задвижку. И хлынула из сердца теплота и нежность, которых в нём почти не было прежде. И не иссякает этот благостный источник.
Её ли это любовь беззаветная? Видно, любовь может из, казалось бы, заурядной женщины свершить чудо преображения в как бы природную царицу.
Не было в том игры, нет. Всё было естественно. Любовь сотворила царицу. А в глазах глядящих со стороны? Осталась ли она безродной служанкой пастора Глюка, какой была до своего пленения?
Карета Катерины следовала за царской. Ох и хотелось Петру перебраться к ней! Но то была бы слабость, её грешно было обнаружить.
Да, вот она, его ахиллесова пята. На первых порах. Со временем – он знал это – чувство затупится. Мало-помалу его заменит привычка, а за нею проберётся равнодушие, быть может, даже отталкивание. К тому времени явится новая приманка. Может, и раньше... Ныне же всё свежо, всё остро, всё так прекрасно, как прекрасно ясное весеннее утро...
Спутники царя молчали. Видно, ждали, когда заговорит их повелитель. Шафиров подрёмывал, Головкин тоже клевал носом. Слышен был лишь скрип полозьев и глухие удары конских копыт о наледь.
Молчание копилось, сгущалось и наконец стало невыносимым. Пётр это почувствовал и первым разрядил его:
– Алексей, где ставать будем?
Спутники его мгновенно задвигались, а Макаров, которого тяготило молчание, обрадованно ответил:
– В Вязьме, стало быть, ваше царское величество.
Макаров ведал расписанием поездки в недальних её пределах и сочинял «Походный юрнал».
– Всю ночь будем ехать, на подставах кормить лошадей, знать, ещё полдня уйдёт, пока достигнем. Ежели, государь, приказать изволите, то и посреди пути можем стать.
– Придётся небось, – пробурчал Пётр. – Нужда заставить может.
– А вот в Туретчине, – обрадованно заговорил Шафиров, – батюшка мой сказывал, ездят токмо днём, до захода солнца. Ночью же Аллах, мол, ихний возбраняет правоверным всякое передвижение. Кто сей закон нарушит, платит в казну бакшиш, то бишь штраф.
– Там будто за всякую мелочь откупаются, – поспешил вставить своё слово Головкин. – И налоги есть будто на зубы и на ноги...
– Насчёт этого не знаю, – снова вступил Шафиров. Служа в Посольском приказе, он напитался рассказами бывалых людей, и все они осели в его вместительной памяти. Он мог рассказывать часами свои, а более всего слышанные от других истории, и всегда находил охотников их слушать. – За всё надобно платить, да. И чем чиновник именитей, тем плата дороже. Княжье место тоже выкупать надлежит. Кто боле заплатит, тому и место либо кресло.
Пётр подивился:
– Неужто господари мултянский да валашский тож выкупали свои престолы?
– Беспременно, государь. Вот когда вступим в ихние пределы да достигнем их, тогда из первых уст скажется...
– Какие ж они князья? – фыркнул Головкин. – На откупленном-то месте?
– Над ними турок властвует, – подтвердил Шафиров.
– Всё едино – союзники они наши, – недовольно заметил Пётр. – Сказано: с волками жить, по-волчьи выть. В своей же земле они, полагаю, княжат без умаления.
– Сумлеваюсь, государь, сколь надёжна их власть, – не унимался Головкин. – Там небось над ними турецкие соглядатаи поставлены и всё султану докладают.
– Слыхал я о том, – удовлетворённо подтвердил Шафиров. – Всё в сих княжествах от великого визиря и иных султанских чиновников направляется. И дань они платят не токмо натурой, скотом, хлебом, но и детишками своими. Называется сия дань по-турецки девширме – дань кровью. Детишек у них отбирают, стало быть, и увозят в неволю. А там из них выращивают янычар. И всё-то они терпят, всё сносят, потому как истинной власти у них нету.
Пётр недоверчиво передёрнул плечами.
– Страсти рассказываешь. Мало мы знаем, сколь угнетены единоверцы наши. Вот когда придём, всё там и откроется, – рассудительно заключил он.
Здравомыслием царь возвышался над своими приближёнными, отметая всяческие россказни. Оно было порою слишком жёстким и трезвым, но то было истинно царское здравомыслие, которое подчас не могли оценить современники.
Порою, слушая сентенции царя, ловя ход его мысли, ближние его министры да бояре переглядывались и перешёптывались: «Не наш, не российский это царь, не по-нашему рассуждает, верно говорят – согрешила царица Наталья с немчином, вот и занемечилось её дитя. Что в нём от батюшки, от блаженной памяти царя Алексея? Да ничего! Ни ликом, ни статью, ни мыслью не удался в отца. Звон какой орясиной вымахал – несуразный, саженный, строптивый. Демонское в нём нечто, нечистое. Эк корчит его родимчик...»
Пётр знал об этих пересудах, дак ведь не урежешь всем языки. Приказано было Ромодановскому сыскивать и хватать в кабаках за таковые зазорные речи. Но не в хоромах, нет. Довольно с них и того, что Против воли бороды обрили да в немецкое платье вырядили.
Боялись царя. Боялись гнева его громоносного да поносного, боялись глаз, метавших молнии, и голоса, гремевшего громом. Верили, что во гневе да и просто так может царь наслать порчу.
Докладывал обо всех таковых пересудах страховидный ликом да повадками, но простодушный князь Фёдор Юрьевич Ромодановский – князь-кесарь, превосходной верности подданный. Он занимался сыском и дознанием, вздёргивал на дыбу, жёг огнём, сёк плетьми уличённых в поношениях царского имени.
Ныне Пётр на него всю Московскую Русь вставил. Сенат Сенатом, губернатор губернатором, а Ромодановский гадами испытан я верней их всех.
Катились навстречу морозные вёрсты, разговор мало-помалу заглох, кони бежали ровно, усыпляюще покачивалась карета, сон накатывал волнами. И перед тем как сморило всех, Пётр приказал:
– Господа министры, ступайте в свои кареты. Мне тесно, мне место надобно, кое вы заняли. Будет день, будет и беседа...
Сделали короткую остановку. Господа министры вывалились в ночь, подоспели молодцы с факелами и проводили их по каретам.








