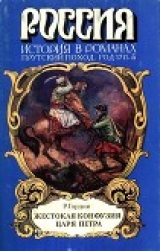
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)

Глава шестая
БЕЗ МНОГИЯ СКОРБИ НЕТ МНОГИЯ РАДОСТИ

И обратился я, и видел под солнцем,
что не проворным достаётся успешный
бег, не храбрым – победа, не мудрым —
хлеб, и не у разумных – богатство, и не
искусным – благорасположение, но время
и случай для всех их.
Книга Екклесиаста
Голоса: год 1711-й, март – апрель
Пётр – М. М. Голицыну
Г-н генерал-лейтенант. Два письма ваши до нас дошли, на которые ответствовать вам ничего не имеем, токмо надобно вам трудиться, дабы неприятеля из своих границ выбить. Однако ж смотрите того, дабы людей (а паче в нынешнее время лошадей) не утрудить...
У противных, которые неприятеля приняли, велите брать лошадей и тяглых волов, которые надобны в наши полки, ибо лошади в нынешний трудный марш у наших не мало пропали, и нетолько что в наши, но и сверх того соберите в другие полки и под артилерию.
Пётр – Августу II
Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший брат, друг и сосед...
...потребно нынешния конъюнктуры требуют, чтоб ваше величество свой возврат в Полшу, сколь скоро возможно, ускорили и нам случай подали с вами свидетца и о воспринимаемых с нашей стороны при сих конъюнктурах намерениях согласитца и совершенно постановить могли, для чего мы сей далней путь в Полшу предвосприяли, и ныне в Яворов идём, и тамо вашего королевского величества возврату в Полшу, покамест наше войско при волоских границах соберётца, ожидать хощем.
Пётр – княгине А. П. Голицыной
Вселюбезнейшая моя душа кнегиня святлейшая Настас Петровна. Здравствуй на многия лета, а мы здесь здоровы. О здешних ведомостях объявляю, что турки конечно на войну идут и визирь знак свой, именуемой туй, выставил, что конечной походу их знак, чего для ити протиф оного ружья с щитом своим готовься во стретение противным.
Канцлер Головкин – в Посольский приказ
Желает его царское величество ведать подлинно из правил французских, английских и венецыйских, Какое у них определение как в недвижимых местностях и домах, так и пожитках детям по отцах оставшимся мужеска и женска пола в наследствии и разделе оных, как знатнейших княжих, графских, шляхецких так и купецких фамилий: и вы поищите таких правил в книгах, которые вывез к Москве Пётр Посников, и ежели того нет, то спрашивайте и ищите оных правил на Москве у иноземцев, и ежели где что сыщется, то велите немедленно перевесть.
Князь Я. Ф. Долгоруков – Петру
...И всемилосердный Бог предстательством Богоматери дал нам, союзникам, благой случай и бестрашное дерзновение, что мы могли капитана и солдат, которыя нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружьё их отнять и, подняв якорь, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль и не доехав до Стокгольма за 10 миль поворотили на остров Даго. И шкипер наш и штырман знали путь до Стокгольма, а от Стокгольма чрез Балтийское море они ничего не знали, и никогда тамо не бывали и карт морских с собою не имели; и то море переехали мы безо всякого ведения, управляемые древним бедственноплавающих кормщиком, великим отцем Николаем Угодником, и на который остров намерились, на самое то место оный кормщик нас управил.
Пётр – Меншикову
...Что ваша милость пишете о сих грабежах, что безделица и взята у поляков, то не есть безделица, ибо интерес тем теряетца в озлоблении жителей. Бог знает, каково здесь от того, и нам никакого прибытку нет; к тому ж так извольничались, что сказать невозможно, и указов не слушают, в чём принуждён, буду великим трудом и непощадным штрафом живота оних паки в добрый порядок привесть.
Воистину: без многия скорби нет многая радости.
Были, были многие скорби! Господь на время отвернулся от православного царя. Верилось: на время. Царь-то – истинный столп России.
В Слуцке, малом городке, который, впрочем, был отдельным княжеством до того, как им завладели князья Радзивиллы, зачем-то застряли на пять дней.
Верно: прибыли к его царскому величеству фельдмаршал Шереметев и генерал Репнин. И держали совет: как далее быть, коли дороги худые, непроезжие, провианту кот наплакал, солдат лихоманка трясёт.
Как быть? Подаваться на юг, в тёплые края, в сытные края. Там и дороги станут и трава подымется. Под крыло господаря Кантемира – вот куда надобно податься.
Боже милостивый, что устроил ты российскому воинству! Ни сани, ни телега не вывозят его из вязкого месива снега с грязью, которое ровно болото: не держит и не проваливается. Ночью, правда, хватал мороз. И тогда... О, тогда катили они как по вывороченной булыжной мостовой.
Муки мученические! Задумывался порой царь-государь: не за грех ли женитьбы при живой жене терпит... Вёз бы с собой метреску – ладно бы. А то ведь в церкви с лютеранкой венчался пред ликом Господним.
Тяжкие думы томили Петра. Не вовремя война с турком, хоть и не он её затеял. Ведомо, кто за салтаном стоит в сей войне. Ещё год назад посланник Пётр Толстой писал в доношении: «Турки размышляют, каким бы образом шведского короля отпустить так, чтоб он мог продолжать войну с царским величеством, и они были бы безопасны, ибо уверены, что, кончив шведскую войну, царское величество начнёт войну с ними».
Что ж, ежели по справедливости, то так бы оно и было. России к Чёрному морю выход надобен, и она должна пробиться к нему всею своею мощью. Но прежде – сладить со шведом, укрепиться на Балтике.
Из доношений Толстого выходило, что салтан Ахмед III опасается России. Стало быть, Карл да крымский хай Девлет-Гирей его науськали. Крымчак – давний ненавистник, в любую драку с русскими лезет. Уговорили небось салтана: сладят-де с царём.
Карл пообещал своё войско выставить. Да ведь заперт его корпус в Померании. Разве что сам король тайным манером пробрался бы туда и возглавил его, вот тогда да, тогда было бы худо. Он отчаянный, этот швед – полез бы на рожон.
Шведы уже привычны жить без короля. И конфиденты доносят: народ-де шведский доволен, что король ихний почти что в плену, хоть и почётном. Стало быть, война отодвинулась до времени. Потому что король Карл – это война. Ничего иного ему не надобно.
Царь все замыслы своих недругов проницал – не больно-то они хитроумны. Знает, как воевать, куда двинуть армию, где держать оборону и где делать вылазки. Знает, откуда ждать удара, как его отвратить. Но это всё – общее знание, из обозу да при гладкой дороге.
Но вот дорога испортилась, и план постигла порча. Вышло сильное замедление с движением полков. Хотели прежде турков поспеть в земли мултянские да волосские, упредить великого визиря, собрать единоверных под российские знамёна.
А что вышло? Худа и опасна оказалась дорога от разлития вешних вод. Господь помог – едва успели переехать по льду чрез реку Припять. А как переехали, лёд взломало, и река пошла.
В местечке именем Высоцк снова приключилась болезнь его царскому величеству. Выхаживала его царица Екатерина Алексеевна с доктором Яганом Донелем.
Обошлось. Тронулись дальше, в Луцк, где загодя устроен был походный дворец. Въехали туда во вторник Страстной недели.
Всю дорогу царь Пётр томился, не чаял, когда прибудут. Было ему очень не по себе: оттого ли, что претерпели в пути многие тягости, оттого ли, что утрясло, уболтало в карете. Хотелось покою. Хотелось вытянуться во весь рост в мягкой, хорошо устроенной постели с подушками, взбитыми пухлыми Катериниными руками, чтобы угреться наконец возле матушки-голубушки и никуда не ехать. Отлежаться, отсидеться, одним словом. Знать, занедужил царь, коли охватило его такое желание: прежде нетерпение гнало и гнало его вперёд.
Резиденцию, поименованную отчего-то походным дворцом, отвели царю в замке князей Радзивиллов. Покои были просторны и устроены совершенно по-европейски. Говорили, что прадед владельцев замка выписал архитектора и строителей из Италии, дабы строено было по итальянскому образцу.
– Добрался, слава тебе Господи, – Пётр развалился в кресле и вытянул ноги. Сказал Макарову: – Прикажи подать водки для сугреву и из еды нечто. Министрам скажи: пущай меня не беспокоят, покуда не позову. И ты свободен. Государыню ко мне покличь.
Отвалился, закрыл глаза. Кресло было покойное, княжеское, но хотелось поскорей лечь: манила пышная кровать в алькове. Но прежде следовало потрапезовать.
Вошла Екатерина. Глаза были беспокойны: видела – занедужил её повелитель.
– Что прикажет мой господин?
– Потрапезуешь со мною, Катеринушка, полно тебе со своими бабами якшаться.
– Там, государь-батюшка, депутация от шляхты желает поклониться.
– Скажи: царь-де устал с дороги да и прихворнул. Пусть завтра приходят. Повару скажи: пусть зажарит каплуна.
– Не грех ли, мой господин: в Страстную-то неделю Великого поста. Наш батюшка осудит.
– Грех свалим на поляков: мы с тобою не в России, а в Польше. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят. – Благорасположение мало-помалу возвращалось к Петру. И голос, и весь вид Екатерины подействовали на него благостно. – Бог простит, есть охота, спать охота. Притомился я, Катинька.
– Полячки-то небось тоже пост соблюдают, – не унималась Екатерина: переходя в православие, она с ревностью неофита блюла все заповеди. – Бог у нас один...
– Бог один, а уставы разные, – улыбнулся Пётр. И признался: – По тебе голоден более, нежели по еде. Охота разговеться. Боязно одному в холодную постель лечь, – он порывисто привлёк её к себе. Она мягко отвела его руки.
– Погодим, господин мой, всему своё время. Сейчас слуги войдут, накрывать на стол станут.
– Умница моя, – Пётр подсел к столу, Екатерина обвязала ворот салфеткой, прикосновение её мягких пальцев было приятно ему.
Слуги внесли дымящиеся блюда. Главное украшение стола – подрумяненный каплун ещё скворчал и источал запахи до того дразнящие, что Пётр машинально сглотнул слюну.
Царь много пил и много ел, с жадностью разрывая руками сочное птичье мясо. Жир капал на стол, на камзол, не защищённый салфеткой. Катерина укоризненно глянула на царя, но промолчала: вспылил бы. В конце концов она не выдержала:
– Господин мой, не вытирайте руки о скатерть, – она заботливо придвинула ему салфетку. – Что подумают о вас хозяева замка.
Пётр махнул рукой – ему было решительно всё равно, что о нём подумают. Он отличался простотой манер мастерового, притом простотой неисправимой, которая шокировала обитателей дворцов и замков, но была по душе простолюдинам, с которыми царь общался на равных. Изысканность никак не давалась ему, этикет был чужд. Иной раз он конфузился, нарушив его, но потом понял: царю дозволено всё. И перестал следить за собой, а тем паче обуздывать себя. Необузданность была его натурой.
Екатерина в отличие от него получила почти что светское воспитание, когда звалась Мартой и служила у пастора Глюка. Господа наказали ей следить за чистотой и порядком, и она ревностно исполняла свои обязанности. Ведь неряшливость, нерасторопность грозили ей изгнанием. Дом пастора – образцовый дом, прихожане должны были брать с него пример: в таковых правилах была воспитана Марта.
И теперь служанка Марта, ставшая по прихоти судьбы русской царицей, стала исподволь, с необычайной осторожностью, подсказанной ей сказочной переменой положения, исправлять простонародные манеры своего повелителя.
То было трудное учительство. Пётр был слишком непосредственной и импульсивной натурой, ни рамки, ни шоры ему не пристали.
Екатерина была терпелива, словно нянька, а лучше сказать, словно мать с капризным и своевольным дитятею. И хоть была она невольницей, пугливо, всё ещё пугливо оценивавшей своё необычайное возвышение, но успехи явились.
Так и в этот раз. Пётр добродушно проворчал:
– Исправляй меня, Катеринушка. Кто, как не ты, выучит меня манерам.
– Царь и в манерах должен пребывать царём, – наставительно отвечала она, уловив добродушное расположение своего господина. – Царские манеры у мира на виду.
Вот волшебство превращения! Екатерина держала экзамен на государыню царицу и, похоже, выдержала его. Она старалась стать вровень со своим повелителем, но и его чем-то поднимала до себя.
Пётр это видел и испытывал довольство. Он ни минуты не раскаивался в своём выборе. Его избранница была во всём хороша: и статью, и силой – да, силой она была ему ровней, – и выносливостью. Она была создана для него, для его походной жизни: его Катеринушка, его жёнка, его друг сердешной.
А она строго блюла дистанцию: называла его не иначе как царь-государь, мой господин либо мой повелитель. Она останется покорной рабой, хотя и родит ему четырнадцать детей (в живых останутся только Анна и Елизавета).
Ныне, по существу, всё только начиналось. Прежняя их близость была прерывистой и в некотором роде случайностью. Катерина до поры до времени была всего лить метрескою, одной из многих, с кем мимолётно сожительствовал Царь и кто наградил его «французской болезнью», худо леченной...
То ли водка на него подействовала, то ли в самом деле занедужил, но Пётр был горячечно оживлён. И от взора Катерины это не ускользнуло. Она научилась видеть своего господина не только снаружи, но как бы изнутри. Хоть и аппетит у него был отменный, и водки он выкушал графинчик, но она забеспокоилась.
– Государь-батюшка, дорога была тяжкою, все после неё полегли. Не изволите ли вы пойти почивать?
– С тобою, Катинька, завсегда рад.
Она коснулась рукою его лба и воскликнула:
– Да у вас жар, государь!
– Нету у меня никакого жару. Жар – он от водки, – с трудом ворочая языком, промолвил Пётр.
– Жар! – упрямо повторила Катерина. – Отправляйтесь в постель, ваше царское величество.
– С тобою, матушка, инако не согласен.
– Со мною, со мною, – повторила она.
Бог дал силы, и Екатерина вытянула своего повелителя из-за стола. Он был странно тяжёл, заплетались и ноги и язык. Завела в альков, уложила, стала снимать башмаки. Пётр что-то бормотал невнятно, слова были не человечьи, а какие-то звериные. Не царь он был, не повелитель, не богатырь, не любовник, а смятый некой невидимой силой нескладный мужик-великан.
С трудом раздела его, привалилась жарким своим телом. А он и без того пылал болезненным жаром, и жар этот всё разгорался, словно бы желая вовсе испепелить это огромное тело...
Екатерина испугалась. Она призвала дежурного денщика и послала его за доктором Донелем.
Доктор покойно спал и, быть может, успел увидеть не один сон. Насилу добудились. Чемоданчик с принадлежностями, с порошками и пузырьками был всегда наготове. Привыкший к неурочным вызовам своих сиятельных пациентов, он засеменил вслед за денщиком.
Встревоженная Екатерина встретила его укоризною:
– Вы столь долго, Яган Устиныч. Его величеству очень худо.
Богатырский храп, доносившийся из алькова, сменился стоном.
– Ох, горе мне, горе, – причитала Екатерина.
– Сейчас, сейчас посмотрим, – бубнил доктор. – Поверните его на спину, ваше величество. Сейчас...
Доктор с некоторой опаской приник к груди царя.
– Не злоупотребил ли его величество водкою?
– Нет, доктор, выпил сколько обычно.
Доктор в раздумье пожевал губами.
– Дорога с её превратностями, несомненно, сказалась... Лихорадка, в тяжёлой форме... Надо бы отворить жилу, – произнёс он нерешительно. – Но, пожалуй, лучше подождать до утра, когда его царское величество придёт в себя. Не могли бы вы, государыня, дать ему вот эту микстуру. А потом растереть его вот этим растиранием. Оно приготовлено по рецепту великого Парацельса.
Она всё могла. Она провела ночь без сна у постели Петра, пребывавшего то ли во сне, то ли в беспамятстве. Будить? Нет, страшно. Не будить? Также страшно: быть может, эта бесчувственность на самом краю смерти.
Столь дивно поднялась Екатерина, бывшая Марта, из своего униженного положения к самой вершине российской пирамиды. И вот тот, кто возвысил её, кто дал ей безмерное счастье, лежит в беспамятстве. Господь единый ведает его судьбу...
Она молилась горячо, истово. Знала не так уж много молитв, обратила их небу не раз и не два. Молилась и молила. Велела внести образа из походной церкви. Затеплила свечи пред ними.
То и дело приникала губами к губам своего господина, словно бы стараясь вобрать в себя его болезнь. И поцелуй, и благословение, и вера, и верность...
Дыхание царя прерывисто, учащённо. Жар сжигает его сильное тело. И как умерить его пагубу? Доктор дал микстуру, но влить её сквозь плотно сжатые губы нет сил. Да и опасно: может попасть не в то горло.
Растирая его беспомощное тело, она причитала:
– Батюшка мой! Великий мой! Проснись, обними меня, рабу твою! Эвон какие сильные руки у тебя! Как крепко ты меня обнимал, как жарко любил, хочу всегда, всегда! Будь же со мной, входи в меня...
Причитала по-русски, по-немецки, по-шведски, выговаривала полузабытые литовские слова. Порой ей казалось, что Пётр прислушивается, что он слышит её. Она с надеждой вглядывалась в обострившиеся черты, пытаясь уловить хоть малую примету сознания.
Тщетно. Её повелитель бил жив, но жизнь из него уходила.
Она снова принялась растирать его. И вот – запёкшиеся губы наконец шевельнулись, исторгли некий звук. Слово? Стон?
– Батюшка мой! Петруша! Очнись! Очнись же! Я с тобой!
Снова послышался стон. Или слово?
Что с нею будет, если повелитель умрёт? Она снова низвергнется туда, где пребывала прежде, снова пойдёт по рукам жадно глядевших на неё вельмож. Они не признают в ней царицу, тотчас отрекутся от неё. Истинная царица, мать наследника престола Царевича Алексея, – инокиня Елена, в миру Евдокия Лопухина. Её тотчас вернут из монастырского заточения, а на её место могут отправить её, Екатерину. Может случиться, что новый царь, Алексей Второй, прикажет умертвить её...
– Не хочу быть царицей! – в отчаянии воскликнула она. – Отрекусь от всего, лишь бы ты был жив, мой господин, мой Петруша.
Она впервой говорила ему «ты», называла его по имени – того, пред кем благоговела, ибо он для неё был Бог и Царь. Царь всех, всея России и её Царь. Она не смела говорить ему «ты», только в мыслях, осыпая его самыми нежными, самыми ласкательными именами... Он был царь царей, он был велик всяческим величием. И хоть в постели в долгие минуты близости, казавшиеся часами блаженства, она словно бы становилась ему ровнею, всё равно даже и тогда ощущала она своё неравенство.
Проходили часы. За окнами слабо брезжил рассвет. Мёртвая тишина царила в замке. Хриплое прерывистое дыхание Петра отдавалось громом в барабанных перепонках.
Но вот в нём обозначилась какая-то перемена. Екатерина прижалась ухом к его груди. Да, дыхание становилось ровней. Верно, помогло растирание.
Она принялась растирать его с удвоенной энергией, сильно, но нежно. У неё были руки прачки, сильные рабочие руки. Растирала грудь и особенно икры и ступни ног – так наказывал доктор.
Извела всю мазь. Но зато теперь уже, несомненно, можно было утверждать: Пётр дышал ровней, грудь вздымалась не так учащённо, как прежде.
В неверном свете занимавшегося утра лицо её господина казалось неживым. Она обтёрла ему губы платком, смоченным Докторовой микстурой. И это тоже возымело действие: Пётр пожевал губами, словно бы прося повторить.
Вдруг она с необычайной ясностью поняла: вся ответственность за жизнь царя лежала на ней! И если Пётр, не дай Господь, отойдёт, на неё, самозванку, обрушится гнев министров, сенаторов, бояр... Более всего страшил её князь-кесарь Ромодановский, монстра. Сам по себе страховидный, он повелевал застенком и страшными пытками пытал женщин и мужчин. Пётр со странной усмешкой, вздёргивавшей его колючие, словно бы приклеенные усы, рассказывал ей о том, как монстра рвёт раскалёнными клещами человеческую плоть, свирепея от воплей истязуемого...
Они отдадут её на муки князю-кесарю. О, с каким наслаждением они это сделают!
Екатерина представила себе страхолюдную физиономию князя-кесаря, его хриплый свирепый рык, свирепый даже в обыденности, и содрогнулась – так живо и страшно было это видение.
– Господи, помилуй мя, грешную! – взмолилась она. – Господи, спаси и сохрани моего господина, моего великого царя!
И Господь услышал её молитву: Пётр шевельнулся. В то же мгновение в дверь просунулся дежурный денщик.
– Доктор Донель просится.
– Зови! – обрадовалась она. И к вошедшему доктору: – Яган Устиныч, он пошевелился.
Доктор поставил свой чемоданчик возле постели царя и принялся щупать ему лоб и щёки. Лицо его прояснилось.
– Ди Кризе ист фергангг, – выразился он по-немецки, но тотчас спохватился: – Прошу простить, ваше величество...
– Я поняла вас, доктор. Так он опоминается? Ему лучше?
– О, госпожа царица, у нашего государя богатырский организм. Если бы он не злоупотреблял питием, то прожил бы век.
«О если бы... – покачала она головой. – Если бы он походил на своего венчанного батюшку, богобоязненного и любившего умеренность во всём».
Пётр рассказывал ей об отце, как бы желая поглубже окунуть её в атмосферу царского дома, дабы она пропиталась ею. Впрочем, он и сам признавался, что мало помнил – был четырёх лет от роду, когда царь Алексей Михайлович, истинный праведник на троне, прозванный народом Тишайшим, помер, будучи всего сорока семи лет. Рассказывали ему матушка Наталья Кирилловна, дядя Лев Нарышкин, учитель Никита Зотов и другие, а более всего старые бояре, сохранившие бороды во уважение к их почтенным летам. Они вспоминали о Тишайшем с умилением и дерзостно пеняли его сыну-нечестивцу, порушившему обычаи отчич и дедич. Однако ж век Тишайшего был недолог, и сын Пётр нередко выражал своё недоумение: «Батюшка был зело умерен, а его Бог прибрал в цветущие лета. Стало быть, на всё Божия воля: блюди не блюди, блуди не блуди».
Сын царя Алексея, отличавшийся неумеренностью решительно во всём, этот сын, царь Пётр, лежал без сознания, и судьба огромной страны, судьба армий и войн, мира и труда, наконец, некоронованной, а стало быть, и непризнанной царицы Екатерины судьба зависела от того, выживет ли царь либо умрёт.
И ещё: были дочери, Аннушка и Лизанька. Они титуловались царевнами. Но если их отец умер, то они обратятся в простых девок без прав состояния. Хорошо будет, коли их не изведут и над ними возьмёт призор царевна Наталья, по своему чадолюбию и сердоболию и в память обожаемого своего братца...
Екатерина была вся отчаяние. Мысли разрывали душу. Она с любовью и надеждой, вглядывалась в черты разметавшегося на подушках Петра.
Доктор правду сказал: недуг отступал. Он дышал ровней, почти без хрипов. И когда он в очередной раз почмокал губами, словно бы прося пить, ей удалось, улуча мгновенье, влить ему в рот полчашки докторского питья.
Доктор Донель при этом присутствовал. Он сидел в ногах постели и одобрил её действия:
– Очень хорошо, госпожа царица, очень хорошо.
Она стеснялась целовать своего господина при докторе, однако при этих словах не удержалась и прильнула губами к обмётанным, сухим губам царя.
И вдруг Пётр открыл глаза. Страдание и недоумение – всё перемешалось в его взоре.
– Что это я? – спросил он, с трудом ворочая языком.
– Вы захворали, ваше царское величество, – выпалила обрадованная Екатерина. И вдруг слёзы градом брызнули у неё из глаз. Она улыбалась, а рыданья сотрясали её.
– А это кто?
– Доктор это, царь-государь, Яган Устиныч.
– Это я, ваше царское величество, – с достоинством подтвердил доктор Донель, с состраданием глядя на Екатерину. – Госпожа царица и плачет и смеётся. Это слёзы радости: она слышит ваш голос.
– Катеринушка, дай питья, – хрипло вымолвил Пётр.
– Даю, даю, – заторопилась она. – Вот брусничного кваску испейте.
– Ваше величество должны принять вот эти укрепительные порошки, – и доктор протянул облатку Екатерине. – Запейте квасом.
– И запьём, и запьём, – радостно бормотала она, руками утирая слёзы, продолжавшие катиться из глаз.
Пётр покорно проглотил порошок, запил его квасом и откинулся на подушках.
– Спать хочу, – выдавил он и повернулся на другой бок.
– Вот и хорошо, батюшка царь, вот и славно – спите себе.
Доктор кивком подтвердил слова Екатерины.
– Его царское величество пошёл на поправку. Сон есть здоровье. Продолжайте давать порошки, а я приготовлю декокт, А сейчас позвольте уйти, госпожа царица.
– Идите, батюшка доктор. Дай вам Бог здоровья, – горячо произнесла Екатерина. – А я буду молиться.
В дверь снова заглянул дежурный денщик.
– Господин кабинет-секретарь Макаров и господа министры просятся. Впустить?
– Я сама к ним выйду, – устало сказала Екатерина. Самое страшное осталось позади. Она снова царица и может повелевать. Даже министрами, перед которыми она робела ещё недавно.
Она вышла, и денщик притворил за ней дверь. Канцлер Головкин, вице-канцлер Шафиров и кабинет-секретарь Макаров вопросительно глядели на неё. Вид у них был озабоченный. Завидев Екатерину, они поклонились с некоторой небрежностью: в их глазах она ещё не укрепилась как царица. Временщица – да. Один Макаров так не думал: знал меру погружённости царя.
Екатерина упредила их расспросы:
– Господа министры, его величество тяжко болен, всю ночь провёл в беспамятстве. Доктор Донель...
– Доктор Донель сказывал нам, – довольно бесцеремонно перебил её тощий Головкин, – его величество пришёл-де в себя. Мы полагаем созвать медицинскую консилию. Граф и графиня Олизар изволили прислать своих медикусов. Доктор полагает болезнь опасною.
– Хорошо, я согласна, – торопливо сказала Екатерина. Мгновенный холодок деранул по коже при слове «опасною». Доктор при ней его не произнёс. Она хотела было сказать, что выходит государя, не будет спать, не будет есть, покамест он не станет на ноги, но поняла, что они не расположены слушать её...
Была врачебная консилия, действия доктора вполне одобрены, однако переполоху наделали – и среди свиты, и меж польских магнатов, хозяев здешних маетностей.
Пётр болел злокозненною горячкою – по выражению доктора Донеля. Кроме порошков, пилюль, микстур и декоктов, имевшихся в его распоряжении, коллеги снабдили его своими снадобьями.
На третий день Петру было разрешено встать с постели и ходить, но не далее залы, равно и не долее часу.
Царь, естественно, предписанный режим изрядно нарушал. Могучий его организм, хоть и подорванный излишествами всякого рода, быстро справлялся с болезнью. И хоть доктор горячо протестовал, царь принялся лечиться по-своему – водкою.
Протестовала и Екатерина, да только слабо и нерешительно. Она знала характер своего господина и его царское своевольство – протесты были бесполезны.
А тут ещё прибыл посол при дворе польском князь Григорий Фёдорович Долгоруков – фаворит царя и не дурак выпить. И снова, несмотря на докторские протесты и запреты, началось застолье с непременным распитием разных водок и бальзамов.
Екатерина и радовалась и негодовала – про себя, разумеется. Вслух не осмеливалась – была ещё не в том градусе. Радовалась же тому, что господин её был по-прежнему шумен и гуллив.
Долгоруков без стеснения поносил короля Августа, Пётр его урезонивал. Он Августу, само собой, не шибко доверял, но сей бражник, гуляка и дамский любезник был ему по нутру.
– Словам его и клятвам никакой веры быть не можно, – настаивал Долгоруков. – И шляхта польская такова же, Лещинский ей надобен, а не Август.
– Всё ведаю, князь Григорий. Однако же дама по прозванию Политика понуждает скрывать ведомое, а взамен говорить кумплименты.
В четверток Светлой недели – пятого апреля доктора сняли запреты: всё едино царь их не соблюдал по нравности своего характера. И даже принял приглашение графини Олизар посетить её загородный замок. На День святых Родиона-ледолома и Руфа, который землю рушит, то бишь восьмого апреля, царский кортеж отправился к Олизарам.
Графиня устроила царю царскую же встречу. Оркестр встречал Петра и его свиту музыкою у самого въезда в имение и сопровождал до дверей замка, так что пришлось кучерам умерить бег коней.
Графиня стояла у парадной лестницы. Ему были поднесены ключи от замка, а Екатерине – цветы из графской оранжереи.
Царской чете отвели царские апартаменты, а господ министров устроили по-министерски, ибо замок был просторен и дивно украшен. Картинная галерея с полотнами знаменитых итальянских живописцев соседствовала с зимним садом, рядом располагалась танцевальная зала и зала для приёмов, где гостям подавали обед.
На обед был внесён немалый кабан, целиком зажаренный на вертеле, что пришлось царю весьма по вкусу. Перемены блюд следовали одна за другой. А на десерт были поданы оранжи, то бишь апельсины, и ананасы из оранжереи замка.
Пётр был обольщён. И тотчас сдался на уговоры хозяйки провести у неё несколько дней.
– Ваши величества окажут мне необычайную честь, – графиня была хороша собою и вполне владела светским искусством пленять. Притом не только мужчин, но и женщин. После долгого и тяжкого пути по размытым дорогам оказаться в этом поистине райском уголке было даром судьбы. Нет-нет, отказаться было решительно невозможно.
Царь размяк после съеденного и выпитого и, будучи человеком, лишённым условностей, истинно по-царски облобызал прекрасную хозяйку, к немалому смущению Екатерины. Но сама графиня почла это за честь и отличие – она оказалась не из тех ясновельможных дам, которые чинились и манерничали. Потом она с гордостью станет рассказывать об этом соседям по имению: «То было великое приключение, в котором участвовали царь московитов и я...»
Весёлая жизнь пошла в замке: за пирами следовали охоты, за охотами – музыкальные вечера. Пётр их, прямо сказать, не терпел, однако же вынужден был смириться. И всё из-за угождения хозяйке – она привлекала его всё более. Екатерина же делала вид, что ничего не замечает. Понимала: от неё не убудет, а её господин должен иметь всё то, что ему хочется.
Царь получил то, что хотел, – тем паче что граф отсутствовал. Натиск был молниеносен, крепость тотчас пала, не оказав никакого сопротивления. Победитель был великодушен – довольствовался одним приступом. Любопытство было удовлетворено.
– Лучше тебя всё равно никого нету, Катинька, – бросил он в оправдание. – А испытать надобно.
– А вдруг... Кови найдётся, царь-батюшка, получше, что тогда?
– Не может такого быть, – отрезал Пётр.
После всех его приключений, после сладкой жизни в замке Олизаров царь спохватился. Велел вызвать на консилию своих подначальных: фельдмаршала Шереметева и генерала Алларта.
Консилия была преважная. Пётр угрызался совестью за беспечную жизнь, долгое безделие, оправдывался болезнью. Говорил обо всём без обиняков, ругательски ругал Шереметева, этого медлителя. Фельдмаршал, по обыкновению, оправдывался: дороги-де плохи, провианта нету, полки увязают в грязи, солдаты не кормлены, приказы не выполняются. Коли дороги станут, вот тогда начнётся энергичное движение.








