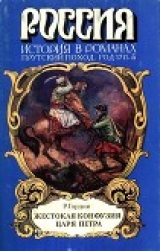
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Я свою персону мог и сам остеречь, да особой нужды не было. А всё же тебе пристойней при мне быть. Хоть и нерасторопен сказался драбантов начальник, а молвил хорошо: татар-де ровно пыль ветром носит. Вот и принесло их ровно пыль да тако ж унесло. Лихие наездники, нашим, за ними не угнаться, – с сожалением закончил Пётр.
Война приблизилась, явила свои первые приметы. Далее будет их всё больше – граница валашская близко.
– Кабы не забыть: письмо заготовь к господарю Кантемиру за собственной моей руки подписанием. Скажу о чём...
Пётр размышлял о будущих своих единоверных союзниках. Было ясно: всяк из них норовит свой интерес соблюсти. Свой, а не общий. И поменее вложить своего в заключённый союз. Оба господаря обнадёживали, подмалывали. Подманывали-обманывали? Один Господь то ведает, он и истину откроет. У него же сердце к союзникам слишком открыто. Пора его прикрывать...
Скорым шагом полки и царский обоз двигались к Днестру. И вот он открылся с крутого берега. И местечко Сороки. Как объяснил толмач, то не птичье имя, а молдаванское слово «бедняк».
Почти у самого уреза воды, насупротив, высится крепость, похожая на круглую шляпу. Глядит она не грозно, как-то приветливо, даже весело.
Открылся и русский лагерь на обоих берегах с налаженной переправой. Многолюдье. Палатки, шалаши, телеги, пушки, кош меж людей и люди меж коней...
Завидели царский обоз: нестройные крики «ура» прокатывались из конца в конец лагеря. Кавалькада всадников скакала навстречу. То были князь Репнин и Адам Вейде, предводители дивизий, дожидавшиеся царя у переправы.
Пётр спешился. Из карет вышли министры, вельможи и вся многочисленная свита, остановив движение колонны. Феофан Прокопович со служками готовился к благодарственному молебну и освящению наплавного моста.
– Ваше царское величество, – князь Репнин почти что свалился с коня под ноги Петру. Багровый от усилий и неловкости, он вытянулся перед царём: – С благополучным, стало быть, прибытием ко границе волошской. Щастие видеть милость вашу в добром здравии...
– Доложь, как дошли, велик ли урон, есть ли в чём недостачи? – нетерпеливо перебил его Пётр.
Урон был, слава Богу, невелик, подоспело и пополнение из рекрутов, а вот недостачи испытывались во всём: в провианте, фураже, амуниции. Ружей бы не мешало иметь сверх комплекту для надёжности.
Доложил и Вейде, добавив:
– Дивизия генерала Алларта с артиллериею уже переправилась и обосновалась под крепостными стенами.
– Сие отрадно. Станем и мы, не мешкав, переправляться. Тут оставим генерал-майора Гешова с четырьмя драгунскими полками для прикрытия тылу и устройства магазина. Понтонный мост не разбирать: провиантский обоз подоспеет.
Тем временем Феофан с причтом обходил ряды выстроившегося войска, то помавая кадилом, то кропя святой водой.
– Ныне святый царю славы ниспошли от святого жилища Твоего, – возглашал Феофан, – от престола царствия Твоего, столп световидный и пресветлый, в наставление и победу на враги видимыя и невидимый, державнейшего и святаго моего самодержца, и укрепи его десною Твоею рукою и такоже с ним идущия верные рабы Твоея и слуги, и подаждь ему мирное и немятежное царство...
Пётр стоял молча. Феофан постарался: капли святой воды остудили разгорячённое лицо.
– Эх, кабы подал Всевышний мирное да безмятежное царство, – пробормотал он едва слышно. – Так ведь ратными трудами сверх меры утрудил меня Господь.
Да, не хотел, как видно, Господь снять с него до поры тяжкое бремя войны. Ему бы при жизни увидеть заложенный им возлюбленный Парадиз отстроенным и украшенным – таким, как замыслил его трудолюбивый итальянский архитект Трезиний. Все про него небось думают: какой-де царь воинственный, не то что батюшка его Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим за то, что воевать не любил, в походы не ходил, а войско поручал доверенным воеводам.
Иное ныне время, иной и обычай. И приходится ему без охоты, а токмо ради государственного интересу да престижу перемогать походы, как ныне.
И то сказать: отправлялся без всякой охоты в сей поход. И сердце его пребывало в смущении. Предчувствие ли томило либо болезнь, время от времени нападавшая на него?
Мирное да безмятежное царство остаётся покамест мечтою. Трудится он не покладая рук ради его устроения. Всё, что мог заложить в основание, – заложил, всё, что успел скороспешно задумать, – построил. А сколь много ещё надобно строить-то! Для сего строительства нужен твёрдый мир на всех рубежах. Но и новые границы: Россия должна прочно стать на морских берегах. На севере, на западе, на юге, на востоке. Так он, царь Пётр, замыслил – того требует достоинство государства Российского...
– С переправою медлишь, князь, – обратился он к Репнину, как только молебствие закончилось и Феофан с прислужниками, обойдя строй, удалился в свою палатку, служившую одновременно и походной церковью. – Пошевеливай своих. Отчего ещё один мост не наплавили?
– Пунтонов мало, ваше царское величество. Князь Голицын прислал не по потребности.
– О понтонах я ему в Киев писал, – сказал Пётр, нахмурясь. – Коль видишь недостачу, прикажи плоты вязать – эвон сколь лесу на берегах. Неужли соображения не хватило?
– Не хватило, ваше царское величество, – со вздохом отвечал Репнин.
– Эх вы! – Пётр не договорил и, махнув рукой, направился в церковь.
– Расстроен я, Феофане, – с этими словами, ещё не видя Прокоповича, Пётр шагнул внутрь и с ходу стукнулся головой о свод. – Ах, нечистый! Не по царской мерке скроено, – сказал он, потирая лоб.
– Так ведь велика да высока мерка, – заметил Феофан, выходя из алтаря. – Истинно царская, а мы тут округ малые люди, сей мерки недостойные.
– Расстроен, – повторил Пётр. – Идёт война, а кругом нерадение, недомыслие, неустройство.
– Се человеки, – молвил Феофан и перекрестился. Машинально перекрестился и Пётр. – Ежели бы на всякое важное место взамен генералов да чиновников поставить по царю, Россия заняла бы весь вселенский мир, вышла бы на все моря и океаны.
– Льстец ты, – махнул рукой царь и стал перед иконой Николая Чудотворца. Губы его шевелились: просил снисхождения и заступления у защитника всех странствующих и путешествующих посуху ли, по морю.
– Ну вот, малость отлегло, – повернулся он к Феофану. – Приди, шахову игру сыграем. Охота мне речи твои утешительные послушать: давно мы с тобой не игрывали.
– Не призывали.
– Заботы навалились. И грехов гора. Отпустишь?
– Вестимо. Груз царёвых забот велик, грехи под ним никнут.
– С Алексеем дела управим, тогда и прихода.
Повернулся резко и чуть не сбил с ног Макарова, последовавшего за ним.
– Берегись, Алексей, зашибу, – сказал со смешком. – Лёгок на помине – ступай за мной, займёмся письменным делом.
Палатки царя, царицы и свиты были уже устроены на возвышении. Отсюда открывалась живописная панорама: прихотливо извитой Днестр, местечко Сорока с крепостью-шапкой, переправа, лесистые холмы, терявшиеся вдали.
Главное: всё армейское движение было как на ладони. Легко было заметить, что выговор Репнину «действовал: живей задвигались, да и понтонёры орудовали, наводя ещё мост. Нестройность и хаотичность мало-помалу переменялись на некую видимость порядка. Шаткие понтоны опасно кренились: Репнин приказал пускать поболее народу.
– Потопит солдат! – рявкнул Пётр. – Усердие не по разуму. Эй, Тихон, – оборотился он к стоявшему позади дежурному денщику. – Беги к переправе да остереги переправщиков моим именем. Вели пускать ровным строем – царь-де приказал.
Наглядевшись вдоволь на движение войска, удалились в палатку.
– Пиши за мной, потом исправишь, где корявость, отдашь перебелить. Нынче же отправить.
«Светлейший князь... Ныне же оставить не восхотели есмы любезность вашу о милостивой нашей склонности и благом к вам намерении обнадежити, коль приятна нам была оная ведомость, что любезность ваша, как скоро генерал наш фелтьмаршал граф Шереметев с знатною частию кавалерии нашей в подданную провинцию вшёл, обещание, которое вы по постановленному договору нам учинили, преизрядно исполнил; себя, оружие своё и войско к нам присоединил. Мы истинно... в том пребудем, что любезность ваша оные надежды не лишитеся, которую себя из сего в протекции нашу отдания восприяти уповаете, но чаемой плод и ползу с потомством своим совершенно получать и иметь со всею землёю своею будете.
Что же принадлежит в войске нашем, и от любезности вашей прилежно желаем, чтоб не только помянутому нашему фелтьмаршалу во учинешш действ против неприятеля и в других случаях мудрыми своими советами вспомогать, но и о пропитании войска нашего, как того, что там, так и с нами идущаго главного, попечение иметь. И естли потребного хлеба ни из земель неприятельских и ни за деньги получить невозможно, то при оскудении хлеба войску доволно волами и овцами междо тем, покамест... при вступлении в неприятелскую землю промыслить возможем, вспомочь и удоволство учинить подтщитесь... Мы, как можем, поспешаем со всею нашею главною армеею в случение к вам. И ныне уже две дивизии пошли от Днестра, а утре и мы чрез Днестр перейдём в марш свой.
Пребываем при сём милостию нашею к вам склонный
Пётр.
Из обозу от Сороки, июня 16 дня 1711».
Сладили письмо. Пётр подписал, запечатали, призвали фельдъегеря с командой. И они поскакали по правому берегу Днестра, по всем сообщениям безопасному от татар.
Царь уселся наконец за шахматную игру с Феофаном. За игрой вызывал царь его на мудрования, ибо мудрствовал монах весьма затейно.
Феофан скептически относился к другому, фавориту царя из духовных – местоблюстителю патриаршего престола Стефану Яворскому. И не преминул высказаться на сей счёт. Да, учён митрополит, отрицать сего не можно. Однако же к царёвым новшествам относится критично и их не одобряет. К примеру, весьма противился он царскому указу, коим всем вероисповеданиям в России была объявлена полная свобода.
– Указ сей привлечёт разноязыкие народы к престолу вашего царского величества, а потому он весьма разумен, – горячился Феофан. – Тако соблюдён государственный интерес. Митрополит же хощет поставить интерес церкви выше государственного.
– Посему я и патриаршество упразднил, что церковь норовила в дела государства мешаться и владыку духовного поставить над земным, – Пётр назидательно поднял палец. – Власть в государстве над животами подданных принадлежит едино царю, а над душами – Богу. Православие от века главная наша вера, в том сомнения не было и нет, и таковой остаётся. Хулители его наносят стыд государству и не могут быть терпимы...
Пётр охладевал к Стефану тем более, что доходили до него слухи, что митрополит не одобряет утеснения монастырских доходов, не одобряет и заточения Евдокии в монастырь, а стало быть, не благословит брака с Екатериной.
Феофан же входил в силу, как духовный мыслитель. И Пётр привязывался к нему всё более. Ему нравились мысли монаха об устроении церковного управления без патриаршего единовластия, но с владычного совету. Нравились рассуждения о власти монарха, единодержавии в государстве.
Сейчас, передвигая фигуру за фигурой, царь задавал Феофану заковыристые вопросы:
– В чём, полагаешь, Феофане, истинное блаженство состоит?
Резва была мысль монаха, с ответом он не медлил:
– Нет сомнения, что истинное блаженство состоит в том, в чём человек был подобен Богу и создан по образу и подобию его: так как Бог есть блаженнейший, и нет в нём ничего такого, что не было бы величайшее благо...
– Шах тебе объявляю и гляну, как вывернешься.
– И царю не поддамся: спрячу короля своего за турус.
– Смело речёшь, Феофане.
– Учен смелости от государя и повелителя своего, смиренный его выученик и раб, – без запинки отвечал Прокопович.
– Скажи-ка речь о любви к государю, – усмехался Пётр, – пока я промыслю, как твоему королю конец учинить.
Феофан не помедлил. Передвинув фигуру в чаянии спастись от поражения, он начал:
– Когда слух пройдёт, что государь кому особливую свою являет любовь, как все возмутятся, все к тому на двор поздравлять, дарить, поклонами почитать, служить и умирать за него будто бы готовы. Един службы его исчисляет, коих не бывало, другой красоту тела описует, хотя харя крива; тот выводит рода древность, хотя предок был харчевник либо пирожник. Льстивость сия охуждения достойна, ибо не заслугами питаема, а единственно надеждою на приближение к государю чрез любимца его...
– Шах тебе, златоустый, – перебил его царь. – Гляди веселей да бди!
– Закроюсь, государь.
– А тако кем закроешься?
– Ретируюсь.
– Глади теперь – карачун твоему королю. Нету ему более хода.
– Не можно устоять против царя и великого князя московского и прочая, и прочая, и прочая, – Феофан поднял руки вверх, а затем быстрым движением положил ниц своего короля. – Так и султан турецкий, и войско его не устоят.
– А кто только что изрекал: льстивость охуждения-де достойна, – засмеялся Пётр.
– Так то не льстивость, а святая правда. И да расточатся врази его!
– Благослови тя Господь, Феофане. Ловок ты и быстр умом. Быть тебе в моих советниках, – Пётр поднялся и с хрустом потянулся. – Однако пришло время нам переправляться и далее поспешать. Меж тем охота мне крепость Сорокскую осмотреть, ибо зело занятна она с виду.
Солнце клонилось долу. Днестровская быстротекучая вода играла множеством бликов. Царский обоз медленно продвигался к правому берегу. Пётр пересел в карету Екатерины – для бережения.
Вода пахла рыбой и свежей травой. Река покачивала мост, словно баюкая тех, кто переправлялся. Наконец карета скатилась на берег, взрытый множеством копыт, колёс и ног, и стала подыматься вверх.
Ворота крепости были предусмотрительно распахнуты. Царя и его свиту встречал комендант крепости, а по-тамошнему пыркэлаб.
Пётр резво поднялся на башню, прошёл по крепостной стене.
– Га! Нетто это крепость? – развёл он руками. – Кого бы стала она оборонять и сколь гарнизону тут поместилось бы. Нет, это склад, магазин. Генерал Гешов станет складывать тут провиант и амуницию, словом, всякий припас, который сплавлен будет по реке. Для складу она и строена.
Становилось прохладно. На крепостной высоте свободно реял ветер. Селение у подножья крепости уступами взбиралось в гору. Крут был склон, в почти отвесном теле его темнели отверстия – пещеры, словно ласточкины гнёзда. Солнце всё снижалось и снижалось, норовя скрыться за дальними холмами.
Царь глянул вниз, на мост. Переправлялись гвардейские полки. Шли чинно, шаг в шаг. Пронзительно надрывались дудки, барабанщики отбивали такт, дабы шли веселей.
– Кто сию крепость возвёл? – обернулся Пётр и вопросительно глянул на пыркэлаба. Толмач перевёл. Пыркэлаб – крупный черноволосый мужик с бегающими глазами находился в совершенном обомлении. Отвечая, он еле шевелил губами.
– Одни говорят, господарь Петру Ратеш, другие же – генуэзские купцы для хранения товаров, – пересказал толмач.
– Вот-вот, сие верно, – обрадовался Пётр. – Как я и говорил. Пущай палатки разобьют под крепостными стенами – заночуем тут. А завтра, как развиднеется, продолжим путь.
...Обнял захолодавшую Екатерину, прижал её к себе:
– Соскучился я, Катинька.
– А я-то, я-то, государь-батюшка. Каково мне, заброшенной.
И она, осмелев, прижалась к своему повелителю.

Глава одиннадцатая
ПРЕСТОЛ И ВОЛЯ

Как рыбы попадают в пагубную сеть и
как птицы запутываются в силках, так
сыны человеческие уловляются в бедственное
время, когда оно неожиданно находит на них.
Книга Екклесиаста
Голоса: год 1711-й, июнь
Сенат – Петру
По указу вашего величествия... соболей из Сибирского приказу на 10000 рублёв в Посольский приказ сороками мы отпустили. Да писал к нам указом вашего царского величествия господин граф Головкин, чтоб, купя 10 персон вашего величествия ценою от 300 до 1000 рублёв и больши, прислать оныя к вашему царскому величествию в армею с нарочным добрым немедленно на нарочной почте. И мы по тому ево писму сыскали готовыя вашего величествия (миниатюры в золоте и алмазах) толко девять персон, а десятую делают...
Шереметев – Петру
Высокоблагородный г-н контра-адмирал... взятые языки сказывают, что неприятель конечно намерен итти к Выборху ради отаки. Однакож, когда соберусь со всеми войсками и оныя во всём исправлю, тогда оставлю здесь некоторую часть, с которою б оборонительно поступать, а з достальными пойду сам... О здешнем поведении доношу, что за помощию Божиею, здесь благополучно и дела здешние по возможности отправляютца. Но токмо страшат нас пожары...
При сем поздравляю вашу милость нынешним торжественным днём рождения вашего... желая от всего моего верного сердца, дабы сподобил Бог вас и нас всех оной день с такою радостию.
Фома Кантакузин сюда своею персоною прибыл... токмо я пространной с оным конференции не имел, ибо оный желает вашу, царского величества персону видеть... И другой с ним прибыл, Георгий Кастриот, которой имеет инструкцию от господаря (Брынковяну), токмо оной ещё с нами в пространной конференции не был, а частью видим, якобы один от другого опасаетца... Сего числа приехал волох из Бендер и объявлял, что под Бендером турки зделали мост и якобы 6000 намерены переправитца на ту сторону Днестра и итти под Сороку.
Савва Рагузинский – Петру
Сего моменту сиятельнейший господарь Димитрий Кантемир писал ко мне со слезами, бутто ваше величество мимо его изволил писать в Ясы к митрополиту, дабы двор приготовил в Ясах к пришествию вашего величества, чего он сам с радостию и со всею фамилиею ожидал, дабы мог ваше величество в своём дворе увидеть и милость Божию и монаршескую получить, а не чернецы, которые во многих делах вашего величества не токмо дают способ, но с многословием препятие. Я всенижайше прошу милости... не инде где изволите стать, но во дворе его сиятельства господаря, и ни чрез кого иного никакого дела повелевать, токмо чрез самого сего господаря, которой сердцем и душею вашему величеству со всяким усердием служить желает... Також где мне и графу Фоме Кантакузину, Георгию Кастриоту и сиятельнейшему господарю повелите очи свои монаршеские увидеть, желаю милостивейшего респонсу...
Наваждение! Чистое наваждение!
Нахлынуло и завладело. И надо же: тогда, когда был он весь на виду, на людях, в походе. И жизнь была походная: шатёр, палатка, карета, денщики, часовые, вестовые... Постоянно чьи-нибудь глаза, уши, носы... Чьи-нибудь – раздувшиеся от любопытства. Носы генералов, министров, канцелярских, лезущие в каждую дыру, в каждую щель. С докладами, доношениями, бумагами, письмами, прожектами...
Нахлынуло в самое, можно сказать, неподходящее время. Дорога – позади и впереди. Война – впереди. Турок и татар несметная сила – впереди.
Пришлось всё в себе, что было сильного, стойкого, упрямого, непримиримого, выносливого, собрать и, укрепляя себя повсечасно, явить подданным всякого ранга.
А он, царь московский и всея Руси (и прочая, и прочая, и многая прочая), пребывал в состоянии умягчённости, что было замечено и свитою, и прочими подданными. И виною тому – его новая супруга, уже титулуемая царицей, удивительная её податливость, соразмерность, выносливость, понимание и сила.
Великая Женщина! С одной стороны, вроде бы и не следовало бы брать её в поход – столь протяжённый и столь тяжкий. С другой же – как бы он был без неё? Без её рук, врачующих его недуги, как ни один из придворных докторов, без её губ – тоже врачующих? Без её податливого тела – одновременно и согревающего и остужающего?..
Как она умела его любить! Как умела ободрить! Слова тут непригодны, язык беден, ничтожен, разеваешь рот, словно рыба, вынутая из воды... И молчишь, молчишь. Задыхаясь от сладостной муки.
Отчего всё это? Сказывают, близ сорока лет наступает у мужей любовное безумство. Видно, и его таковое обуяло. И надо же – не к месту и не ко времени!
Шатёр его царский, походный велел утеплить. Зимой и весной, ясное дело, для тепла. Ну, а в летние жары для прохлады. Более же всего, как теперь оказалось, для непроницаемости. Чтобы – упаси Бог! – ни звук, ни стон любовный не проникал наружу.
– Что же это, Катинька, со мною стряслось? Али ты меня приворожила, приворотным зельем опоила?
Счастливый смех был ему ответом. Лежали они нагие, и уж давно меж них никакого стыда не было... Была радость, безмерная и лёгкая, истомность как бы воздушная. Господь и ангелы его все небось видели и благословили. Ибо каждая истинная любовь им угодна. И нет в ней греха, а есть радость, одна только радость.
– Надобна я вам, государь-батюшка, и в походе и в дому, – отвечала она, невидимая за кромешной темнотой, ибо ни свет солнца, ни луч луны не проникали в шатёр, а все светильники были погашены. – Надобна и для всяких утех любовных и иных.
Они видели друг друга без всякого света, ибо свет был у них внутри, в их сердцах, в их телах.
– Надобна, да, – тотчас согласился Пётр. – Тебя сотворила матушка твоя, аккурат под моею звездой и по моей мерке, и ангелы Божьи привели ко мне.
– Не ангелы, а князь Александр Данилыч Меншиков, – негромко рассмеялась она. – Поспел поздравить милость вашу с тезоименитством.
Упоминание о Меншикове кольнуло царя.
– Душно что-то, Катинька.
Спустил вниз длинные ноги.
– Давай облачимся. Выйти надобно. Забылись мы не ко времени.
Она покорно согласилась: была понятлива, уловляла все душевные токи своего повелителя. Как всякая истинно любящая женщина, была наделена острой чувствительностью. И дался ей князь Меншиков в такие-то минуты! Не к месту и не ко времени был помянут, истинно так. Экая неловкость!
Вечер пахнул сухими травами. Лагерные костры уже пылали вовсю. Протяжно перекликались незнаемые птицы. Небо медленно потухало, багрец остывал, оставляя жёлто-лимонную полосу.
– Ступай к себе, матушка, я с министрами должен потрактовать, – сказал Пётр. – Заутра господарь обещался – гонца прислал оповестить.
Так-то оно так, да только остудно стало отчего-то на душе. И в самом деле – время ли любови разводить. Потачки себе делает, распустил то, что должно в сих обстоятельствах смирять и в положенном месте удерживать. Впрочем, не он один. Генералы да полковники, а то и чином помене своих жён в поход побрали будто для обиходу.
Прежде любого неприятеля, прежде того же турка, должно себя победить! Снисхождение себе есть слабость. Трактовал о сём с Феофаном, беседа была как бы исповедальной.
– То не грех, ваше царское величество, а благодать, ниспосланная свыше, – без обиняков отвечал Феофан. – Ибо любовь есть чувство божественное. Родители Иисуса жили в любви, и Господь даровал им согласие. И все угодники Божьи были любвеобильны: любовь к Отцу Небесному сочеталась у них с любовию к жёнам своим. Всякой твари земной Бог любовь дарует, что же говорить о человеках.
Как всегда, утешил Феофан, был рассудителен и разумен – истинный проповедник. Однако Пётр решил обуздать чувства, ибо наступали времена против бывших труднейшие, напряжение нарастало повсечасно. Твердил: «Пётр есть камень, камень, камень! Отныне воля холодному уму, а не сердцу. Есть порог, его же не переступать».
Мудр Феофан, потому и не любят его черноризцы, завидуют: проповедническому дару, многоязыкости – в латыни, в греческом, в польском, в немецком преуспел. Решил: воротимся из похода, заставлю рукоположить его во епископы.
Министры стеклись, был полный сбор.
– Господа совет, предстоит нам завтра слученье с господарем Кантемиром, понеже он своей особою нам навстречу прибывает. Полки выстроить, седалища приготовить. Речи будем говорить: я, Гаврила Иваныч и Феофан на латыни. Поднести бы некую редкость.
– Персону вашего царского величества – чего уж лучше, – подсказал Шафиров. – Аккурат прибыли вместе с мягкой рухлядью.
– Вот-вот, – одобрил Пётр. – И соболей до сорока: господа Сенат подладили.
– Много милостей оказали мы господарям, – проворчал Головкин. – А что имеем?
– Более всего обещаний, – ухмыльнулся генерал-фельдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс, известный чернокнижник. – Сколь уже издержали денег, мехов, пожаловано кавалерий святого великомученика Андрея Первозванного, а всё покамест втуне.
– Да и обещания с каждою милей приближения нашего в сии пределы ровно высыхают, – почёл нужным вставить Шафиров. – От небесного жару, – хихикнул он. – Сколь много провианту обещано, а где он? На Москве капитан Прокопий, посланец господаря, трактовал со мною о тридцати тысячах конницы...
– Записано то было, – подтвердил Головкин с охотой. – Ныне же речь ведут о пяти тысячах.
Вспомнили и об обширных обещаниях господаря Брынковяну, ныне замолкшего. Обещания таяли по мере приближения российской армии к пределам княжеств, к театру военных действий. А ныне, когда войско перешло Прут, и вовсе растаяли.
Царь молчал, ждал, пока все выскажутся. А их всех словно бы прорвало: тяжкие переходы, возраставшая убыль в людях, умножающееся число больных, ополовиненный солдатский котёл, летние жары... Неужто и союзники ненадёжны? Выходит, так.
– Вот что, господа совет, – хмуро произнёс Пётр, – надобно жить верою в то, что предназначенье наше исполнится. Заутра торжество, надеюсь, его не омрачат сумнения. Я князю Кантемиру склонен верить. Ныне ему отступу нет. И что может, то он и исполнит. Да и нам с вами дороги назад нет. Укрепим дух свой и положимся на милость Божию.
«Да, князю Кантемиру отступу нет – он припёрт российским войском в собственной столице, – размышлял Пётр, когда совет был отпущен. – Теперь и турок о том сведан, что он нас принял и навстречу вышел, – предаст его мучительной казни. Затевая тайные сношения со мною, понимал, что приход наш неотвратим. Полтава многих вытрезвила, и ныне с боязливостью глядят на нас. Господарь же Брынковяну приумолк и пособления более не сулит. Оно и понятно: визирь у него под боком, а мне его покамест не достать. Ждёт: кто возьмёт верх – визирь али я. Тогда и к победителю пристанет. Да и Кантемир погодил бы до исхода, да уж мы тут.
Жалко их: нету у них ни силы воинской, ни отважности, более всего страшна им немилость султанова. Дорого, сказывают, плачено ими за господарский трон: турок ничего даром не даёт, а всё норовит поболе забрать. Опять же раздоры, зависть меж бояр и господаря. Ровно как у нас. Везде власти домогаются, ищут у государя чести да прибытку... Погладим, каков он, господарь Кантемир. Говорят, великой учёности персона – мне то по сердцу, стало быть, человек достойный...»
В четыре утра, чуть забрезжило на востоке, царь был уже на ногах. Лёгкий туман зыбился над спящими деревами, над рекою, над лагерем, обозначенным тлеющими костерками. Время от времени протяжно перекликались дозоры. А за рекой монотонно, как по часам, скрипел коростель: скрип, скрип, скрип.
– Вставай, матушка государыня, – Пётр наклонился над постелью – пришлось сгибаться чуть ли не вдвое – и чмокнул Екатеринину тёплую щёку. – Вставай да нарядись как должно царице: на смотрины едем.
Екатерина потянулась, зевнула, ещё вся во власти сна, не вполне понимая, что от неё требуется. Потом быстрым движением откинула покров, соскользнула на ковёр и прильнула к Петру жарким ото сна телом, целуя его в щёки, в губы, в глаза. Она уже освоилась со своим положением царицы и дозволяла себе вольности, о коих страшилась прежде и подумать.
– Полно, матушка, полно, поторопись.
– Господин мой великий, не осрамлю царского величества, кликну девок, они меня живо вырядят.
Спустя час лагерь ожил. Свита была на ногах, ждали приказов государя. Пётр было заколебался: в каком наряде предстать пред господарем, но тотчас решил: в Преображенском мундире. Да и можно ли иначе?
Вскоре царский кортеж был уже на правом берегу Прута и неспешно подвигался к Яссам.
Солнце выкатилось из-за горизонта, и мало-помалу всё окрест окрасилось в блёклые пока ещё цвета дня, заблистало мириадами росинок на листьях, на траве, словно бы и сама природа готовилась к торжеству и предвкушала его.
Вот вдали показались массы войск в пешем строю, группы всадников, кареты. Их ждали... И стоило им приблизиться, как гулко раскатилось русское «ура!» и заиграла полковая музыка.
Российская инфантерия под предводительством генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева встречала своего государя. Встречала восторженными криками, музыкой, пушечной пальбой.
Навстречу кортежу царя подвигался господарь Димитрий Кантемир. Он и бояре были верхами. Конь нервно перебирал ногами – великолепный арабский скакун, Кантемир сидел в седле точно влитой, и Пётр невольно залюбовался им и живописной группой.
В дюжине шагов Кантемир с необычайным проворством и даже изяществом соскользнул с коня и пошёл навстречу царю. Оба с любопытством вглядывались друг в друга.
Господарь был в пышном одеянии, напомнившем Петру одеяние турецкого посла. Вершиною его была высокая, как бы боярская шапка, увенчанная султаном. В нескольких шагах от него шествовало княжье семейство в полукольце бояр.
Вот они сошлись, и Кантемир преклонил колено. Он был малого росту, а когда обнажил голову, оказался чуть ли не по пояс царю.
Пётр был умилен и сего не мог скрыть. Повинуясь порыву, он обнял господаря и, легко приподняв его, трижды, по русскому обычаю, поцеловал, всё так же держа на весу.
Начались представления: бояре, министры, княгиня Кассандра и царица Екатерина, наследники и наследницы. Княгиня держала на руках двухлетнего младенца Антиоха, родившегося в Царьграде. Кто мог предположить, что со временем он станет гордостью российской словесности. Феофан обменялся с Кантемиром речью на латыни, на латыни же, великим знатоком которой был Кантемир, писавший на ней свои сочинения, возглашал чернец имена и звания...
Господарь нравился Петру всё больше. Несмотря на малый рост, было в нём нечто истинно княжеское, повелительное. Чувствовалось это и по тому, как подходили к нему бояре, они же, как оказалось, и министры его двора.
Кантемир был человек великой учёности, успевший сочинить несколько книг. Он владел множеством языков, турецкий был как бы родным. Родным был и греческий – обиходным в семье, а валашский служил для общения с боярами.
Под приветственные возгласы и непрерывную пушечную пальбу союзники стали обходить строй российских войск. Шереметев с генералами вышагивали сбоку.
В глазах своих офицеров и солдат царь читал ожидание, надежду, преданность. Но чего они ждали? Битвы? Истомились в долгом походе, долгом и трудном, от худой пищи, от неопределённости, тяготившей более всего.
Войско призвано воевать, а не тащиться сотни и тысячи вёрст под солнцем и дождём, в любую непогодь, в ожидании встречи с неприятелем и генерального сражения. Сражения, которое призвано решить судьбу всех: и начальников, и их солдат, даже самого царя и султанского визиря. Сам султан тем временем предаётся великим радостям в своём гареме, где у него, сказывают, четыреста пятьдесят наложниц.








