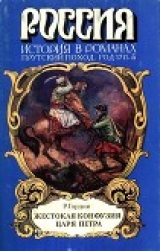
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Визирь послал гонцов к султану; как быть, русские запросили мира, они согласны вернуть всё захваченное и не мешаться в польские дела – этого, на его взгляд, было вполне достаточно и кампанию можно было считать успешной. Он не утаил и свои опасения, обрисовав состояние в армии и брожение среди янычар.
Его гонцы возвратились быстро: султан, да продлит Аллах его дни, дал дозволение на мир с русскими без оглядки на короля шведов.
Естественно, ничто теперь не мешало быстро составить трактат, и визирь обрадовался приходу Шафирова. Узнав, что приготовлен роскошный презент и, кроме того, бочонки с денежной дачей всем сколько-нибудь высоким турецким начальникам в визирском окружении, он и вовсе воодушевился и не знал, как ублаготворить российского посла.
Трактаты были сверены, противностей не найдено. И как записал в журнале бывший при Шафирове приказный: «...по некоторых любительных от визира разговорах теми трактатами розменялись, которые писаны со стороны его царского величества на русском языке с приложенною копиею итальянской, а с турецкой – на турецком языке. Приложены печати на красном сургуче, припечатаны концы шнурка. А потом от его царского величества присланы адъютанты Павел Ягужинский да Антон Девиер словесным приказом ускорить розмен. Шафиров послал с ними и Волынского и с оными отпустил переводчика Остермана, чтобы его царское величество отозвал Ренне».
Любительные разговоры длились долго, и Пётр Павлович стал от них уставать. И шербет этот турецкий и все их яства были ему не по нраву. Он худо спал ночь. От непрестанных тревожных дум голова гудом гудела, нервное напряжение было чрезмерно, груз ответственности отягощал – как тут уснёшь. Ворочался, ворочался, на чужом турецком ложе, и хоть было оно вовсе не жёстко, а напротив, но что чуждо – то чуждо.
Пётр Павлович не чаял, как поскорей откланяться. Но тут визирь, услав всех, обратился к нему с конфиденциальным разговором. Советник-де от шведов Понятовский послал королю гонца с уведомлением о мире, который противен шведским интересам.
– Этот сумасбродный король непременно прискачет сюда. И придётся мне ругаться с ним, – с огорчением сказал он. – Но как бы он ни старался нас теперь поссорить, ничего не выйдет, – устало добавил визирь.
И тут Пётр Павлович вдруг заметил, что напротив него сидит старый, даже очень старый изнеможённый человек с мешками под глазами, свидетельствовавшими о том, что он тоже страдает бессонницей, что здоровье его неважно, что груз забот, давящий на его плечи, ему уж не по силам, что он с великим трудом тянет свою лямку и, похоже, был бы рад её сбросить. Она была хороша там, в Константинополе – Царьграде – Стамбуле, в стенах Блистательной Порты, среди сонма подобострастных чиновников, где всё размеренно, покойно и бестревожно, где всякую тяжесть можно переложить на каймакама либо кяхью – кетхуду – кегаю...
Война с её тревогами и кровью, тяготами и западнями, со множеством неожиданностей до отказа натягивает все жилы и нервы. И они рвутся, рвутся, рвутся...
А если к тому же Аллах не дал тебе военного таланта и прозорливости, если он лишил тебя должной храбрости и дара предводителя войска, оставив только одну добродетель – осторожность?..
Великий визирь более всего полагался на свою осторожность. При сложившихся обстоятельствах, при обнаружившейся доблести русских и их воинском искусстве самым благоразумным с его стороны было заключение мира. Его никто не обвинит в том, что он первый протянул руку русским. Нет, Аллах свидетель, русские первыми запросили мира, признав таким образом своё поражение. А разве не он, садразам, верный слуга могущественного султана, да продлится его слава в веках, да пребудет над ним благословение Всевышнего, продиктовал русским условия мира и они приняли их? Разве не он добился возвращения земель и крепостей, некогда завоёванных русскими? Они скрепили мирный трактат подписями, его торопится ратификовать царь Пётр.
Если кто и остался неудовлетворён, так это король шведов и его советник Понятовский. Они хотели бы загребать жар чужими, турецкими, руками. Визирю донесли, что этот Понятовский пытался взбунтовать янычар и разбрасывал деньги. Ему почему-то благоволит каймакам, он пожаловал ему бунчук паши. А между тем от него исходит дух противоборства. Теперь вот призвал короля. Этот сумасброд, этот спесивец, этот безумец непременно прискачет и станет угрожать ему...
Пусть бесится. Султан одобрил его, визиря, действия. Теперь дружелюбные отношения связывают его с послом русского царя Шафировым. Вот приятный человек! С ним так легко иметь дело. Он услужлив и вежлив, они быстро договорились и сладились.
А шведы?! Мало того, что они нашли убежище и, можно сказать, спасение в турецких владениях, мало того, что великий султан оказал им своё благоволение и покровительство, что он с немыслимой щедростью снабжал их деньгами и всем необходимым, эти побитые гяурские собаки, эти неверные лают на правоверных, беззастенчиво лают! Их требования непомерны. Они мыши, поедающие чужой, турецкий, хлеб.
Так размышляя, Балтаджи Мехмед-паша ожесточился. Пусть только явится король Карл! Он выскажет ему всё!
Его размышления прервал приход Шафирова, обставленный соответствующими церемониями. Визирь ему обрадовался, как радуются хорошему человеку, только что расставшись с недругом. Прощаясь вчера вечером, они договорились о беспрепятственном пропуске курьеров с обеих сторон.
На этот раз Шафиров сообщил, что его сиятельство граф и кавалер фельдмаршал Шереметев в знак особого дружества к особе его визирского сиятельства прислал ему в дар сорок соболей, пищаль драгоценной работы с золотой насечкой и ещё много чего. И покорно просит принять эти знаки расположения с наилучшими пожеланиями здоровья и благополучия.
Благодетелем явился Пётр Павлович Шафиров в турецкий стан. С его появлением на визиря и присных стал изливаться золотой поток как из рога изобилия.
Визирь было застеснялся, боясь завистников в своём же стане, коим не перепало. Донесут султану, обвинят в том, что был задарен русскими, а потому сполна не соблюл его интерес. Немилость повелителя правоверных страшна...
– Прошу высокого посла повременить с подарками, – и визирь, понизив голос, объяснил причину.
– Сохраню до времени, – понимающе кивнул головой Пётр Павлович. – А потом потаённо от недружеских глаз переправлю вашему сиятельству.
Петру Павловичу сообщали: его царское величество весьма доволен, изволил пошутить: Шафиров-де мне щит и оборона. И собственноручно написал ему:
«Пожалуй не подивуй, что я вчерась в сию всю неделю ещё первую нынешнюю ночь свободную получил сном; и что вам чинить надлежит сим объявляю. Понеже во втором пункте написано, что нам не интересоватца до Польши, а с стороны турской ничего не написано, того ради, когда выдут наши войска отселя, то надо б вам конечно по времени домогатца, чтоб и от них такое же обнадеживанье получить, дабы и оне не интересовались, но оставить оное свободно с обеих сторон, яко вольное государство. Казаков, которыя у них, чтоб нам ничем до оных не претендовать, того ради надлежит и о том говорить, чтоб оныя близ наших казаков не жили, а именно на Днепре и около оного, чтоб, приходя, свою братью не мутили...»
Учёл царское пожелание, учёл. Визирь поначалу не склонялся, но Пётр Павлович понимал, что так сразу и не выйдет. Надобно помаленьку гнуть и гнуть своё, напоминать о дарах, кои загромоздили посольские шатры. Тем паче что «водопое государство Польша» могло устроить и турок. Им, разумеется, хотелось посадить на его трон Станислава Лещинского, ставленника короля Карла, но то было шведское настояние, а турку лишь бы «вольное», хотя б под скипетром Августа.
Эти все дела, полагал Пётр Павлович, сладятся постепенно, время ещё есть, и он будет мало-помалу улещать и улестит визиря. Конечно, по разъединению войск турок не то что пойдёт, а бегом побежит домой. И повлечёт за собой их, аманатов. Чем далее от российских пределов, тем будет трудней их дипломатическая миссия. И одному турскому Аллаху ведомо, удастся ли тогда соблюсти во всей полноте наказ государя.
Пока же следовало озаботиться неотложными делами. И Пётр Павлович принялся за сочинение писем.
Напомнил генералу Бутурлину и гетману Скоропадскому:
«В Каменном Затоне провианту есть многое число, и чаю я, что оной кратким времянем вывезть из оного вон или инако убрать будет невозможно. Того ради изволите... оной провиант весь, сколко его ни есть, приказать роздать нашим великороссийским и малороссийским полкам, при вас обретающимся, чтоб оною ничего не осталось...»
Напомнил и Головкину, ибо время уходило:
«...Також прошу прислать к нам священника с книгами и здороносицею и лекаря с лекарствами, понеже в суетах о том просить забыл... Секретарю турецкому подарил 1000 золотых и ещё обещал, которой видитца зело сильной, умной и ласковой человек...»
Доброжелательство даром не даётся – за него надо платить, его надо покупать за дорогую цену и за нею не стоять. Таковой расход воздастся сторицей, многими важными уступками. Царь это понимает, а канцлер Головкин не очень. Всё старается урезать, ровно казначей. Великий скупердяй в жизни, он с чрезмерной ретивостью оберегает и казну. А ведь доброжелателями надобно обзавестись в предвидении того неведомого пути, который предстоит ему с Михаилом Шереметевым.
Тяжко, ох как тяжело бывало временами на душе у Петра Павловича. Но мог ли он посетовать, мог ли кому-нибудь поплакаться? Мог ли явить слабость душевную пред лицом своих подначальных? Поэтому он всяко бодрился и дух показывал твёрдый и весёлый.
Но мысли о близких, свидание с которыми отодвигалось, ясное дело, не на месяцы – на годы, не давали ему покоя. Как они там: матушка Марфа уже в преклонных летах, доживёт ли до свидания с ним, отличённым сыном. Как любезная супруга Анна Самойловна из рода Копьевых, с коей прижил он двух сыновей и пять дочерей? «...Ежели придёт до того, что постражду от них (турок), прошу милостиво призрить на бедных моих сирых оставшихся мать, жену и детей», – написал он государю. Не то в высоких своих заботах царь мог и запамятовать о них.
Наступил, однако, момент, когда не грех было и напомнить его царскому величеству. Мирный трактат был подписан и ратификован с обеих сторон, и его твёрдость и прочность казались непоколебимы. В визирском шатре справлялось малое празднество: кушали шербет, пили розовую воду, потом подали жареного барашка и непременный кофе – у турок было всё наоборот. Однако поздравляли друг друга душевно: ведь пришёл конец кровопролитной войне.
Пётр Павлович как бы зримо видел, как покидает русская армия лагерь, превратившийся в узилище. До него доносился раскатистый бой барабанов и звуки полковой музыки. Голодное, истощённое войско уходило с распущенными знамёнами, и им, аманатам, можно было торжествовать.
Шафиров написал царю:
«Всемилостивейший государь. Вашему величеству поздравляю совершением миру турецкого, и исполнением в походе ваших войск дай, Вышний, всеблагополучное слышать, себя жё вручаю в милость и призрение вашего величества и убогую мою фамилию в привещание...»
Случилось, однако, событие ожиданное, и Пётр Павлович приписал: «...Сего часу король шведской и воевода киевской и хан у визирья на разговорах немалое время, только я мню, что ничего не зделают...»
Король Карл прискакал одвуконь с горсткой верных слуг и воеводой киевским Потоцким, лишённым воеводства: его место занял губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын по праву победителя – воевода-то служил Лещинскому.
Король был взбешён, Воспалительная натура его была известна, но даже со времён Полтавы приближённые не видели его в такой ажитации.
– Я проткну как крысу этого подлого визиря! Этого трусливого старого мерзавца! – кричал он, получив известие Понятовского. Он метался по кабинету, делая выпады обнажённой шпагой и мысленно протыкая ненавистного визиря. – Я убью его не единожды, а тысячу раз!
– Успокойтесь, ваше величество, – мягко урезонивал его дворецкий. – Вам вредно волноваться, – повторял он фразу, некогда услышанную от придворного врача.
– Кругом недомыслие и измена! – восклицал Карл, мало-помалу остывая. – Я буду писать султану. Это неслыханно: старый говнюк упустил победу! Он мог взять в плен самого царя, царь был у него в руках!
– Полагаю, это было бы непросто, – вкрадчиво произнёс воевода Потоцкий. – Вашему величеству известна гордость и непримиримость царя Петра...
– Едемте! – неожиданно прервал его король. – Немедленно приготовьте коней и охрану. Мы выезжаем немедленно!
Спустя полтора дня безумной скачки отряд короля достиг визирской ставки. Отыскали Понятовского и его ординарцев – шведов и поляков. Скачка как бы накачала ярость короля, самый её темп побуждал к стремительности, король уже не мог остановиться.
Он ворвался в шатёр визиря и закричал с порога:
– Как можно было заключать этот предательский договор! Как можно было упускать победу, которая сама шла в руки!
Король обвинял. Он вопрошал визиря со столь явным и очевидным непочтением, словно тот был по меньшей мере его слугою.
– Я дал отчёт своему повелителю, – спокойно отвечал Балтаджи Мехмед-паша. – Но должен ли я давать отчёт нашему гостю?
Ответ охладил короля. Но он всё ещё продолжал пребывать в запале.
– Дайте мне тридцать тысяч войска, всего тридцать тысяч, и я ещё успею догнать царя и привести его сюда как пленника визиря.
– Я присоединю своих тридцать тысяч, и мы разобьём русских! – неожиданно выкрикнул Девлет-Гирей.
– Мы подписали мирный трактат, – визирь говорил, не повышая голоса. – Он одобрен султаном, да пребудет над ним благословение Аллаха. Можем ли мы нарушить мир?
– Можем! – выпалил хан. Он так же легко переходил от неприязни к приязни, от ненависти к почитанию, как бывает переменчив степной крымский ветер. Ещё недавно он поносил короля шведов за непомерные претензии, за высокомерие, но отважная предприимчивость Карла подкупила его.
– Некоторые люди в запальчивости берут на себя обязательства, не соразмерив свои силы и возможности, – с иронией заметил визирь. – Однако повелитель правоверных не жалует их. Он доверил своё войско мне, и я не вправе отдавать его кому бы то ни было. Если король шведов желает воевать с русским царём, то пусть соберёт для этого своё шведское войско. Тем более что опыт он уже приобрёл под Полтавой... А ты, храбрец, – обратился он к крымскому хану, – можешь присоединиться к королю.
Последняя реплика, как видно, остудила жар Карла. Он махнул рукой, повернулся и, ни слова не говоря, вышел. За ним безмолвно последовала его свита.
Понятовский замыкал шествие. Он был удручён более всех, быть может, более, чем сам король. Уже в который раз терпели крах его усилия И надежды. В который раз настигала его мысль о тщетности и даже бессмысленности служения шведскому королю. Службы, у которой не было ничего впереди, службы, принёсшей ему доселе одно бесславие, опасности и разорение.
– Пора браться за ум, – с горечью сказал он самому себе. И тут же вспомнил, что он уже не раз произносил эту фразу и не раз собирался скинуть с себя эти узы.
Вечером он – слуга двух господ – сел за письмо своему первому и истинному господину, низложенному королю Станиславу Лещинскому. Он писал ему:
«Для Порты – Азов, разрушение Таганрога, Самары и Каменска, тяжёлая артиллерия из лагеря русских и восстановление запорожских казаков в их старинных привилегиях; для Польши – чтобы царь вывел свои войска и больше не вмешивался в её дела; чтобы, кроме того, он выдал Порте мятежного Кантемира с неким Саввой родом из Рагузы, заплатив годовой доход от Молдавии за убытки, которые он там причинил...»
«Всё-таки Польше кое-что перепало, – думал Понятовский. – А ведь, в сущности, я служу Польше». Эта последняя мысль несколько умерила горечь его размышлений...
В это время визирь за кофе с улыбкой рассказывал Шафирову о налёте Карла. Оба были довольны. Визирь – тем, что Карл получил от ворот поворот, Шафиров – вдвойне: поражением шведа, которое он счёл малой Полтавой, и многолюбезностью визиря.
Напоследок хозяин шатра сообщил ему:
– Я приказал отправить генералу Шереметеву тысячу двести возов сухарей и риса да вприбавку тысячу окк кофе. Генерал будет доволен. И твой царь. Это как бы в обмен на те бочонки серебра, которые он прислал.
– Стало быть, мы квиты, ваше визирское сиятельство!

Глава семнадцатая
В ОТВОД!

Удел мой стал у меня, как разноцветная
птица, на которую со всех сторон напали
другие хищные птицы. Идите, собирайтесь,
все палевые звери, идите пожирать его.
Книга пророка Иеремии
Голоса: год 1711-й, июль
Пётр – королю Августу
Вашему величеству и любви, дружелюбно-брацки объявляем, что мы с войски нашими в Турецкую землю вошли и с турками встретились у реки Прута и имели жестокие бои. Но для некоторого неудобства, а наипаче для наших общих касающихся с вашим величества интересов, далее в той войне не поступили и учйнили с турки вечной мир, о чём обстоятельнее вашему величеству и любви донести указ наш дали...
Пётр – Марфе и Анне Шафировым
Мои госпожи. Понеже господин подканцлер Шафироф ныне в учинённом миру был полномочным по учинении оного, турки просили, дабы ему и Господину Михаилу Шереметеву у них до исполнения остатца, что для необходимой нужды и учинено. Того ради не имейте в том печали, ибо, Богу извольшу, не замешкаетца там.
Головкин – Шафирову
...Пришла из Москвы почта и так случилось, что в намёт государев сумы принесены, и государыня царица изволили приказать ваш пакет распечатать, чая в том письма себе от царевен, и не сыскали. И я того же часу запечатал их моею печатью. Не изволте, мой государь, сумневатца, чтоб кто те писма читал или видел...
...В обозе нашем токарный станок царского величества утрачен. Изволте приказать чрез кого наведатца, не возможно ль оного тамо у кого отыскать, и хотя б что за то денег дать. И буде сыщетца, изволте его, выкупя, сюда прислать. Известно вам, како тот станок его царскому величеству потребен...
Шафиров – Головкину
...везирь допустил меня с собою на конференцию... А о короле швецком объявил я ему, что царское величество для любви салтанову величеству и для его, везиря, чрез свою землю его пропустит и с честию и на подводах укажет, о чём и к губернаторам указ свой дать повелел... И он, везирь, мне сказал, что он говорит со мною за секрет, что он его, шведа, ставил напередь сего за умного человека, а как он его ныне видел, то признавает его за самого дурака и сумазбродного, яко скота...
Головкин – Долгорукову, послу в Копенгагене
Мой государь князь Василей Лукич. Объявляю ваше милости, что с великою ревностию шли мы к Дунаю, дабы турок предварить и получить довольство в провиянте. Но турки нас упредили и встретились с нами у Прута, где престрашные бои бои чрез три дни... И потом, видя что из сей войны жадного прибытку не будет, того ради поступили желанию турецкому и на вечной мир, уступи им всё завоёванное, дабы с той стороны быть вечно беспечным, что турки с превеликими охотами, паче чаяния, учинили и от короля швецкого вовсе отступили. И тако может ваша милость его, короля датского, верно обнадёжить, что сей мир к великой пользе нашим союзникам...
Пётр – Шафирову
Господин подканслер. Письма ваши мы получили, на которые пространно ответствовал вам г-н канслер, а в самой материи есть сие: токмо паче всего вам надлежит трудитца, дабы получить ратификацию, а паче её скорой отпуск короля швецкого, дабы замедлением сдоим тем ещё чего не зажёг, чего для и езду свою в Ригу отлагаю... По сём отдаю вас в сохранение Божие.
Барабаны, флейты, рога и рожки выпевали немудряще и нестройно. Полки шли с развёрнутыми знамёнами и штандартами. Колыхались двуглавые орлы, Георгий Победоносец, Николай Угодник, осеняя и печалясь...
Христолюбивое воинство шло в отвод. Лица обгоревшие, чёрные, ровно турки, осунувшиеся, измождённые, заросшие – пришлось претерпеть, да, много выпало лиха. И голодали, и холодали, и плавились от нестерпимого жару, и ходили на краю погибели...
Шли преображенцы, семёновцы, астраханцы, ингерманландцы, новгородцы и многие другие, шли гренадеры, фузилёры, драгуны, вели лошадей в поводу, жалеючи скотину, – кожа да кости. Конь – не человек, столь долгой бескормицы не вынесет.
Лица же были просветлены – шли домой. Домой! Нашлась и сила, взялась и бодрость. И хотя путь лежал тысячевёрстный, но Господь упас, а впереди не было крови, не было войны.
Царь Пётр как бы опоминался. Напряжённое ожидание, не отпускавшее его в те дни, когда Шафиров вёл переговоры в турецком стане, ожидание самого худшего и даже внутренняя готовность к нему, – всё это наконец кончилось.
За эти два дня царь спал с лица: округлое, оно как-то вытянулось, щёки втянулись, запали и глаза, казалось ставшие меньше, усы топорщились, словно худо приклеенные, и кое-где вызмеились седые волоски.
Претерпели все, и наравне со всеми претерпел царь Пётр. Наравне? Кто сказал? Он претерпел куда более всех. Потому что знал: ему держать ответ за всё перед Господом и Россией. Он недоглядел, недодумал, не соразмерил.
Приходил в себя. И только теперь мог сполна оценить свою царицу. В тяжкие дни она вела себя как воин. Не пряталась при канонаде, не искала защиты у царя. А в минуту крайней опасности приказала подать заряженные пистолеты и носила их при себе. Можно ли забыть, как собирала она драгоценности для выкупа из плена.
– Знаешь, Катинька, что я решил?
– Что, мой господин и повелитель?
– Вот возвернёмся мы, и по миновании сих горестей осную я орден Свобождения в честь покровительницы твоей святой великомученицы Екатерины. И в твою честь, матушка. Как жертвовала драгоценности свои и других призвала для выкупу нашего из визирского пленения. И будет сим орденом награждаться дамская доблесть. Первые кавалерии тебе вручу. Заслужила. Прикажу девиз выбить: «За любовь и отечество».
Екатерина вспыхнула. Если иной раз ей казалось, что царь охладевает к ней, что вершина их любви уже миновала, то после этих слов она поняла: нет, всё ещё впереди. И главное – впереди.
Припала к рукам царя, жадно их целовала: огромные огрубелые ладони, длинные пальцы. Слов не было, да и нужны ли были слова.
Пётр глядел на неё с нежностью, благодарно. Потом сказал:
– Зело устал я, матушка. И кажется, спал бы да спал – после долгих бессонных ночей.
– Буду покой ваш оберегать, государь мой. Дабы опамятовались вы после сего испытания.
Армия шла как бы через турецкий строй: по приказу великого визиря устроено было провожанье. Предлог сказан был такой: оберечь от татарских бесчинств. Татарове и впрямь бесчинствовали – пытались отсечь сколько-нибудь от обоза, вихрем наскакивали и тотчас отлетали.
На самом же деле устроили догляд.
– Высматривают Кантемира и Савву Владиславлева, визирь желает их изловить и представить в оковах султану, дабы преданы были мучительной казни – посажены на кол, – доложил боярский сын Тодорашко, из свиты Кантемира. Он был в тайных сношениях с одним из белюк-баши. Тот ему и выболтал: за оных господ назначена большая награда: кто укажет, получит пять тысяч червонных. А кто доставит их в турецкий лагерь, того озолотят.
Пётр сказал Макарову:
– Прикажи всех людей Кантемира и Саввы надёжно попрятать в обозе.
Макаров подсказал:
– Господаря Кантемира да Савву для надёжности сугубой хорошо бы укрыть средь фрейлин государыни царицы. Турок на гарем не посягнёт – он для него священ.
Пётр усмехнулся:
– Стало быть, и у меня гарем, как у султана Ну что ж, для сего случая и гарем пользителен. Ведь я дал слово князю Кантемиру сберечь его и не изменю, лучше уступлю туркам землю до Курска: мне останется ещё надежда возвернуть её, а коли слово нарушишь – того не возвернуть. У нас ничего собственного нет, кроме чести, коли её потеряешь – перестанешь быть государем.
Шли скорым маршем: никого не надо было подгонять, бежали как от сраму. Кормились как могли. Варили диковинную кашу из сарацинского пшена, по-другому именуемого рис – прежде никто такой не едал, а был то визирский презент. Ели турецкие сухари. По-прежнему шла в котлы конина от палых и измождённых лошадей.
Кантемир, скрывавшийся среди семёновцев, водворился в одной из царицыных карет вместе с Феофаном, бывшим при нём за толмача. Решено было выдавать их за евнухов, стерегущих царёв гарем, чем Пётр немало потешался.
– Монаху быть оным евнухом пристало, но каково князю, столь чадолюбивому.
Турки же, стоявшие строем на всём пути отвода армии, как бы ненароком заглядывали в кареты и повозки, острыми глазами ощупывали ряды. Царицыны же кареты сопровождал конный эскорт. И турецким соглядатаям ходу туда не было.
Кантемир был защищён, бояре его, из тех, кто пожелал следовать за ним, перенаряжены в российское воинское платье. Савва загодя отправлен в польские пределы. Оставалось несколько потерпеть, когда турок отстанет, в крайности до тех же Сорок. От татар, досаждавших во всё время пути, отбивались без потерь.
Меж тем пришла важная бумага от Шафирова, закреплявшая мир, – султанская грамота, собственноручно переведённая Петром Павловичем.
«Салтан Агметь, сын салтана Магметя, всегда победитель. Знак высочайший, пречестнейший, превысокий, императорский. Понеже славнейший первый министр, справитель, согласитель, обладатель народа, превысочайший везир, главный фёлтьмаршал и всесовершенную власть имеющий Мегметь-паша, которого всемогущий Бог да прославит вовеки и умножит его силу, со всеми моими победительными войсками при реке Пруте, на поле, именумом Хуш, с московским царём и его войском сошёлся, и был случай для бою, однакож вышеречённый царь с своей стороны прислал своих наместников полномочных для мирных переговоров, и помянутой мой наместник, всесовершенную власть имеющий, после многих мирных разговоров о пунктах, пактах и кондициях, помощию Вышнего междо мною и моею Высочайшею Портою... и междо царём московским... мир учинили... о том нашему императорскому величеству донесено. И нашему императорскому величеству оные пункты и пакты угодны суть...»
– А вот это и есть главное, – обрадовался Пётр, прочитав бумагу, – что салтану сии пункты угодны суть! Сквозь многие словеса к сути еле продрался. А подканцлер наш, вижу, с визиром спелся. Что ж, сие нам во благо.
Наконец смог царь полностью распрямиться во весь свой саженный рост. Наконец душа освободилась от гнёта. Сомнения, мучившие его во всё время похода, нараставшие с каждым днём, по мере приближения к турецким пределам, стали мало-помалу отсыхать, отпадать. Одно вывел изо всего случившегося: опасно быть легковерным. Опасно полагаться на других, объявляющих себя союзниками. Обман, всё обман, если не сказать вероломство. И он, царь и великий князь, хорош: поддался словесным обольщениям, укрылся в бумажных крепостях. Слова они к есть слова. Не более того. Одним словам веры нет.
Ощущение опасности отпало. Теперь Пётр чувствовал себя обманутым. Ежели обманут простолюдин – это одно, в этом особой беды нет. Но был обманут он, царь, владыка могущественного государства.
Эта мысль точила его неотступно и невозбранно. Обман был ему всегда ненавистен. Он имел право на легковерность: это право государей, которых не дерзали обманывать ни подданные, ни другие потентаты: обманщика неизбежно ждало суровое наказание.
И вот его легковерие, даже доверчивость были посрамлены. Равно и самоуверенность, явившаяся после Полтавы... Век живи, век учись – воистину так.
«Господь наказал меня за многие грехи, – думал Пётр. – Ноне я выучился, всякий раз стану вспоминать Прутскую баталию. Но отчего же турок столь легко отступился? Не единой же ловкостью Шафирова, его дипломатическим даром то учинилось?»
Над этим он изрядно поломал голову со дня размена трактатами. Допрашивал Феофана, Кантемира, Головкина, Шереметева. Все сходились в одном: визирь-де опасался бунта янычар, равно и стойкость русских не давала надежды.
Некое прояснение можно было усмотреть в письме Луки Барки Савве Рагузинскому. Лука, находившийся в самой гуще политических событий турецкой столицы, знал многие обстоятельства, ибо сносился со знатными чиновниками Порты и послами европейских держав. И даже, говорят, был вхож к самому каймакаму, второму лицу после визиря.
Лука сообщал: «Везир... самому салтану доносил, что... неоднократно турки наступали и никогда устоять не могли, но назад утекали, и когда был у них бой с пехотою при реке Пруте, то уже турки задние начали было утекать, и ежели бы московичи из лагеря выступили, то бы и пушки и амуницию турки покинули, и в том ссылается на вышних и нижних офицеров. Когда во второй день рано велел и паки наступать, то и янычары все отказали, что они выступать не хотят и против огня московского стоять не смогут».
«Стало быть, они более нас испугались и готовы были отбой бить, – удивился Пётр. – Поди знай! Воистину: у страха глаза велики. Но всё едино: из той ловушки без великого урону было не выбраться. А уж о виктории и помышлять не приходилось».
Продолжала теснить его обида и грызть совесть, сколь ни пытался он всяко развеяться и за шаховой игрой с Феофаном, и за утешными разговорами с Кантемиром и Макаровым, и за любовными играми с царицей.
Вдобавок стали вспоминаться разные досаждения. Некогда драгоценную шпагу с золотой насечкой и индийским лалом в рукояти преподнёс он как презент брату Августу. Знак то был особый, символ нерасторжимой дружбы. И что же? После Полтавы взяты были в трофеях некоторые вещи короля Карла. И среди них – та самая шпага!
Вот что удалось ужать от пленённых шведских генералов. Брат Август, припёртый Карлом, в угождение ему ту шпагу отдарил. Вот тебе и союзник! Вот тебе и фат!
Такой он – Август. Сильный – слабосильный. Всё на словах. Веры ему нет и более не будет. А отречься нельзя: политика. Отречёшься – союзником меньше станет в политических играх, кои стали не меньшее значение иметь, нежели игры военные. И потому в письмах к нему приходится блюсти политес, именовать его любовными словами.
А за всех союзников пришлось расплачиваться ему, Петру. Шереметев счёл итог кампании – сполна испил чашу горечи. Всего померших и без вести пропавших насчитано было 27 285 душ. А павших в бою – всего 4 800. Скорбный итог: сверх двадцати двух тысяч без толку пропало!
На Пруте русских было: кавалерии – 6692, инфантерии – 31 554, итого – 38246. Пушек было – 122. Молдаван – сверх пяти тысяч. С турецкой же стороны, как писал Шафиров, ссылаясь на доверительное сообщение визирского секретаря Омера-эфенди, было конницы и пехоты 119 665 да 70000 татар Девлет-Гирея, всего же войска 189 665 душ да пушек 469.








