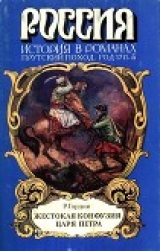
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)

Глава тринадцатая
ТЕЗОИМЕНИТСТВО

И сделали их предводителями. Которые ведут
по Нашему повелению, и внушили им делать
добрые дела, выполнять молитву и приносить
очищение, и были они Нам поклоняющимися.
Коран, сура 21
Голоса: год 1711-й, июль
Пётр – Сенату
...Паки напоминаем, дабы вы по данным вам пунктам, которые мы в бытность свою на Москве вам отдали, трудились о усмотрении такой же прибыли у товаров... и о исправлении векселей отчего будет немалая государству полза. Також на соляные заводы, где соль варят, надобно послать доброго и верного человека, хотя бы и. не одного... дабы он осмотрел, по чему там на заводах пуд соли станет, и потом с провозом по чему в Нижнем станет, и потому усматривая, по чему платить за соль Строганову и протчим. И чаю, что много лишнего платят.
Пётр – Ромодановскому
Сир. На Семёновской полк мундир ежели-сделан, то изволте послать в Киев; буде же не сделан, то прикажите, как наискоряя, сделать.
Б.И. Куракин из Лондона – Головкину
Государь мой Гаврила Иванович... его царское величество... требует, чтоб корпо войск к содержанию нейтралства с поспешением шло и... соединясь с войски его царского величества и короля польского, которые ныне обретаютца при Померании, против шведских войск в Померании... действительно яко против неприятеля наступили и принудили оное дезормовать...
Капитан Иван Сумила – русскому агету Боцису
...Надобно нам иметь патенты и грамоты от его величества (Петра). И как получим указы, то есть при здешних рубежах два города – Превеза и Вонаца, тотчас их возьмём; к чему и прочие готовы суть, некоторые и турки, которые моей думы суть. И могу тое место в великий трепет привести, даже до Солуня. А как пойду выше, то побужду всю Румаль к востанию, только бы прислали нам указы, царския и протчее, что потребно. А без того ничего не могу учинить, опасаясь от принципа разорения. Все греки здесь ожидают, як птичка матку, а турки от страху уже всё своё продают...
А. И. Головкин из Гааги – Головкину (отцу)
На прошедшей почте доносил я вам, премилосердому государю моему... что пруской двор... не хочет трактату с нами заключить... пропорции нет между тем, что царское величество обещает дать и между тем, чего от королевского величества требует. Притом господин Ильген дал мне довольной знак, что они опасаютца короля щвецкого раздражить и что они хотят смотрить, как наша нынешняя кампания окончитца...
Лука Барка – Головкину
...султан... ни в чём не доверяет шведам и кается, что поверил доношениям хана крымского, которого все нежелающие войны бранят, говоря, что он склонял на то султана не для интересу империи, но для одной приватной своей прибыли... Турки... зело удивляются, что шведское войско умедлило выступить в Польшу до сей поры, ибо обещано было, чтоб шведам вступить в Польшу к месяцу июню и видеть щуркам такую мешкоту и трудность шведов вступления в Польшу гораздо нелюбо и за тем головы суть паки честной мир учинить...
Все праздновали и торжествовали. И это было похоже на движение.
Но движения не было. И не было в душе царя ни покоя, ни благости. Душа металась. Всё ей казалось не таким, каким должно быть, но и избыть это неудовольствие не удавалось. Его принимали, как должно принимать царя и повелителя великой державы, ему оказывали высокие почести. Но всё это было не то, не то...
Слава Богу, было кому излиться. Его Катинька была для этого создана. И всегда – всегда! – находила нужные слова утешения.
Она прежде других напомнила о преславной полтавской виктории, и 27 июня годовщина была торжественно отмечена, а он был чествуем яко главный победитель.
Проходя перед строем войска, Пётр вдруг с отчётливостью вспомнил доношение посла Петра Андреевича Толстого. Он предупреждал, что турки размышляют-де, каким бы образом шведского короля отпустить, дабы он мог продолжить войну с его царским величеством.
Ах, как хотелось бы этого и султану и королю! Султану изрядно надоел высокий иждивенец, королю – бессильное заточение в турецком захолустье.
Стало известно: король велел украсить могилу гетмана Мазепы, отдавшего Богу душу в сельце Варнице после многих великих огорчений и разочарований. Сказывали ещё, что король время от времени навещал могилу. Но посещения эта становились всё более редкими по мере того, как таяло оставленное гетманом золото.
Мазепа покоился вдали от родных мест, Пётр Андреевич Толстой томился в Едикале – Семибашенном замке Царьграда, откуда он всё-таки ухитрялся время от времени подавать знаки; Карл бесновался в Варнице, а он, царь Пётр, пребывал в господарской столице со смятенным сердцем.
Верно ли он поступил, не ухватясь за нитку мирных переговоров? Вот и из Царьграда конфиденты доносят, что благомысленные турецкие вельможи стоят за мир с Россией, что народ турецкий против войны. А единоверцы? Судя по письмам и прошениям, притекающим от сербов, греков, мунтян и других народов, они сами хотят помощи и заступления от православного царя.
Димитрий Кантемир уже слабеющими руками держал своё княжество. Порой Пётр испытывал что-то вроде неловкости: господарь подвергался смертельной опасности, связавшись с ним. И не только он – всё боярство, все привилегированные классы, духовенство: турки были мстительны и жестоки, рубили головы, не разбирая правых и виновных. Ведь это была их райя – их стадо. А со стадом не больно-то церемонятся.
Оказалось, турки отдали Кантемиру престол с условием, что он захватит и доставит им господаря Брынковяну, подозревавшегося, и не без оснований, в тайных сношениях с Москвой: на этом особенно настаивал крымский хан. Тогда-де ему будут отданы оба княжества – Молдова и Валахия.
Он поведал об этом Петру в доверительной беседе. Кантемир долго водил турок за нос. Он уверял великого визиря, что притворно предался русским, а на самом деле выпытывает их намерения. Его кредит у турок был высок. Им он был обязан более всего крымскому хану, давно им пленённому. Верили ему, верили и его драгоману в Константинополе Жано. Жано был вхож в диван, министры от него ничего не таили. Всё, что ему удавалось узнать, он переправлял в Яссы. Господарь уведомлял царя.
Теперь игра Кантемира открылась – царь вошёл в Яссы. И визирь наверняка извещён.
Князь сожалел об этом. Он откровенно признался Петру.
– Вам не следовало входить в Яссы, ваше царское величество: мы оба допустили оплошность. Мне следовало продолжать игру и таким образом уберечь княжество от разорения. Пострадал и ваш интерес: я не могу сноситься с визирем и ведать его планы. Вашей армии следовало держаться левого берега Прута и скорым маршем выходить к Дунаю...
Пётр начинал прозревать замысел князя: он полагал отсидеться в Яссах и ждать, чья возьмёт. И потом примкнуть к победителю...
– Полно, княже: игра окончена, – добродушно высказался Пётр. – Всё едино: турку наши сношения открылись. И кто бы ни одолел – тебе не сносить головы. И семейству твоему тоже. Эвон княгинюшка твоя сколь дивно хороша.
Княгиня Руксанда и в самом деле была красавица. Красота её была особой, царственной: тонкие точёные черты лица при слегка смуглой коже, большие выразительные глаза, как два агата, стройный стан. Екатерина рядом с нею выглядела простецкой, особенно её манеры. Правда, она была способной ученицей и много преуспела, но княгиня являла собой образец врождённой породы. Это уж потом Пётр узнал, что была она и в самом деле греческого царского роду.
Всё уплотнялось: время, напряжение, отношения. Всё шло не так, как хотелось бы Петру. И ему, самодержцу, не удавалось повернуть течение событий в благоприятное русло. Он был недоволен всем: генералами, министрами, конфидентами. И собой. Да, прежде всего собой. Он то и дело допускал послабления себе.
А коли себе, так и всему окружению.
Единственная его отрада и утешение – Катинька – его женщина, его жена, сударушка, царица. Она мягко ограждала его, и не её вина, что не всегда удавалось. Сильные её руки заключили царя в кольцо. Они были точно крепостные стены, о которые разбивались почти все ненастья: некие обстоятельства, недуги, люди. Тяжкий ратный труд становился всё тяжче, сомнения подступали всё чаще. Царица Екатерина Алексеевна умела облегчить ношу, всё сильней давившую на плечи царя, норовившую согнуть и сломить его.
Отслужили молебны о даровании виктории христолюбивому воинству над вековечные супостаты, нечестивые агаряне. Враги Христова имени умножались на сей земле. Господь всемилостивый, простри всемогущественную длань свою над нами, твоими покорными рабами...
Многажды повторялось имя Господне. Обращали к нему смиренные молитвы и в Трёхсвятительской церкви, и в церкви Святого Николая Чудотворца, и в монастыре Голия, и в церкви Святого Саввы, и в монастыре Четацуя. Молились в просипи заступления я одоления. Вера была та же и святые те же, лишь церкви обликом своим рознились от российских. Была тут своя лепота, свой манер, я они нравились царю.
Худо спалось Петру в господарских палатах. Просыпался ни свет ни заря. И ложе было покойно и мягко, и тишина благостна, а всё ж неотступные думы о близящемся поединке с визирем не давали покоя.
Утешение – Катеринушка. Мягкие её губы, нежные руки просыпались вместе с ним и творили утреннюю молитву.
Истинно царица? Благословен день, когда пришла к нему покорной, кроткой, любящей. Он не умел склоняться пред богом Любви. Она его научила, растопила суровость сердца.
– Государь мой, господни великий, батюшка царь, – пришёптывала она. И губы её проделывали долгий путь от глаз и лба к шее, ушам, груди, соскам, животу... Всё ниже и ниже – умиротворяя, утишая, вежа, убаюкивая. И он ненадолго задрёмывал.
А потом было второе пробуждение. Разговор о делах, напоминания, благословения. Она его крестила, уходя к себе, на свою, царицыну, половину в господарском дворце.
Давно им не было столь привольно: дворец, просторные покои, истинно царское ложе в алькове, ковры, ковры, ковры. Картины, французские гобелены. Резная дубовая мебель, еда на серебре и фарфоре...
Царя расслабляла дворцовая обстановка: уже приноровился к походному быту, он был солдат, матрос и непритязателен, как они. Однако царицыным негам дворец соответствовал как нельзя более. И в дворцовых стенах её женское могущество осуществлялось во всём его великолепии.
Короткие слова, слова-вздохи, вскрики, стоны... Слова были в промежутках, потом наступало изнеможение, когда не было ни слов, ни междометий, одна только наполненная их дыханием тишина.
Торжественные смотры, обеды, молебны оковали царя по рукам и по ногам. А между тем приходили неутешительные вести как бы в наказание за расслабленность, медлительность, за то, что нежился с Катеринушкой в пышном алькове и забывал про войну. Всё в этом мире отмщается, за всё приходится платить.
Так и на этот раз. Кантемир, оковавший царя гостеприимством, а сам ушедший вперёд с двумя своими Полками, прислал штаб-офицера с доношением: визирь со своей огромной армией перешёл Дунай и теперь движется по левому берегу Прута. Его понтонёры нашли место для переправы и начали навощать мост. А татары уже успели добывать на правом берегу, налетели было на драгун Ренне, но были разбиты и бежали за Прут.
Началось! Пора!
Гвардейские полки были подняты по тревоге. К ним присоединилась дивизия инфантерии Адама Вейде, переправившаяся с левого берега. Пётр сел в седло, вытащил пшату и взмахнул ею. Поход начался.
Царица в мужском платье скакала за своим господином. Она была готова постоять за себя: шпага и два седельных пистолета составляли её вооружение. Скакала, не отставая, сидела в седле как влитая. Пётр не оглядывался, знал – поспеет. Его царица была приспособлена и к тяжким перипетиям. Она была походная царица. Ещё более, чем дворцовая.
Дорога вилась по берегу, стиснутая лиственным лесом. Река была путеводительницей. Дыхание её было слабым, оно едва чувствовалось – жара его сушила. Запалённые кони перешли на шаг. Там, где берег полого спускался к реке, вставали на водопой.
Армии сближались, сторожко пробуя путь, как пробует его путник в незнакомой местности. Ощущение близящейся развязки переполняло Петра. Ему хотелось выйти наконец из неопределённости, такой долгой и так томившей. Пусть бы сражение, пусть!
Остановились на растах – недолгую передышку. Вейде с инфантерией ушёл вперёд. Вперёд ускакала конница под командою генерала Януса фон Эберштедта. Пётр его напутствовал: разведать, сколь много турок им противостоит, верно ли, что вся визирская армия, наладили ль переправу.
Волонтёры Кантемира донесли, что визирь уже почал строить мост. Верно ли это. Ежели, однако, Господь попустил и неприятель переправился, атаковать его и сбросить в реку.
Жара не спадала. Полки шли тяжело. Леса и травы были оголены саранчой. Пётр с любопытством её разглядывал, доселе не виданную осьмую казнь египетскую...
– У саранчи нету царя, говорит Премудрый, но выступает она стройными рядами, – изрёк всезнающий Феофан. – В Священном Писании саранча – прошу заметить – поминается, яко особое орудие Божественного гнева. Однако же отцы пустынники именовали её акридою и употребляли в пищу. На Востоке сушёная и жареная саранча почитается лакомством, вот что. Ибо не бывает худа без добра. Сколь много её погибшей и высохшей. Попытаем – станут ли подбирать её кони.
– Станут, станут, – подтвердил Макаров, дотоле молча следовавший за ними. – Добра ручеёк, а худа море. Сожрала все посевы в княжестве, оставила крестьян без хлеба, нас без провианту, скот без подножного корму. Одно слово – казнь египетская, а ныне казнь валахская.
Прошли ещё три мили, разбили лагерь. Стреножили коней, пустили пастись. Глядели: подбирают саранчу охотно. Хрустит она, ровно пересушенное сено.
– Не отведать ли нам сих акрид, – невесело произнёс Пётр. – Коли будет столь жарко и столь скудно – не побрезгую.
– Государь даст пример, подданные последуют, – подзадорил Феофан.
Ближе к ночи прискакал адъютант от Вейде. Макаров принял пакет.
– Чти-ка, Алексей. Тут нечто важное.
Слог был деловой. Вейде сообщал: «Понеже мы сей ночи ночевали против татарского лагера, а визирь уж недалеко от нас; и чаем завтра видеть их, толко оныя по той стороне реки, того для мы ныне другую ночь ночюем, дабы вас дождаться и всем вкупе завтра маршировать рано... На что скорой отповеди ожидаю, дабы мы по тому могли свой марш управлять».
– Близится дело, – озабоченно произнёс Пётр. – Либо мы спешно идём вперёд и, коли турок навёл переправу, отбросим и переправу ту нарушим...
– Либо?
– Ежели визирь успел переправиться, откроем генеральную баталию. Нам её не избегнуть, и визирь к ней стремится. Вейде отпиши: мы к нему скорым маршем идём, пущай нас дождётся.
Приблизился тот решительный день, когда армии станут меряться силою. Пётр чувствовал нечто вроде удовлетворения. Наконец-то! Ибо всё движение солдатской массы и вместе с нею его движение, весь его смысл, все утраты и потери были, по существу, издержаны ради этого дня, ради генеральной баталии, неотвратимо приближавшейся.
Он чувствовал и вполне понятное волнение, и его холодок. Вот уж скоро решится, судьба армии и его судьба – судьба царя. Но войско – от генералов до солдат – так истомилось, издержалось, изголодалось, даже износилось, от сапог и камзолов до естества, ибо в столь тяжком и долгом походе снашивается и живое существо, что волей-неволей сомнение, вошло и угнездилось в его душе.
Нет, он не даст ему разрастись, он станет давить и давить его всяко – и заботами и раздумьями. Заботы отвлекали, их было сверх всякой меры перед решающими днями. И всё-таки сомнение найдёт уголок и станет там жить-поживать до конечного часу – при всей его сильной и закалённой воле, при всех его движениях, казавшихся всем не ведавшими сомнений.
Пётр не раз шёл в сражения – и сухопутные, и морские. Всякий раз в такие минуты он чувствовал прилив сил, необычайный духовный подъём, испытывал собранность и решимость. Да, но тогда не было столь изматывающего его предварения, столь долгого и утомительного похода.
Лагерь был разбит невдалеке от реки. Она успела отдать дневное тепло, его унесли быстробегущие струи, и теперь дышала прохладой. Вечер сгущался и вот уже пал ночью. Южное небо бархатной черноты было всё в звёздах, их были мириады, и глаз не мог задержаться. Беззвучно носились взад и вперёд летучие мыши, будто охраняя спящих. Таинственные звуки роились в ночи, завораживая и пугая. Вот вскрикнула какая-то птица, а может, зверь, вот какой-то странный стон, рождённый то ли на берегу, то ли в воде, заставил насторожиться...
Пётр молча стоял возле своего шатра, вслушиваясь, и так же молча стояли приближённые. Обычно его рано клонило в сон: слишком деятельна и напряжения его жизнь, начинавшаяся с первыми петухами. Но сейчас сна не было. Весть о близости визиря взбудоражила, мысли наплывали, роились...
Понятное возбуждение. Он знал доподлинно, что турки почти втрое многочисленней его армии, что у них вчетверо больше пушек. Были ещё татары Девлет-Гирея, несчитанные и немеренные, которые ощутительно кусались, виясь над войском как осы.
Надежды на единоверцев окончательно развеялись. Полки Кантемира не представляли сколько-нибудь основательной воинской помоги.
Он стоял перед великим риском и понимал это.
– Отчего не вняли мы визирскому призыву к мирным негоциациям? – спрашивал ли царь себя либо обращался к свите.
– Не было соизволения вашего царского величества, – ответил за всех Головкин, невидимый в темноте.
– Не восхотели турку дать сердца, – вступил Феофан.
– Почёл бы нас бессильными, – добавил Макаров.
Темнота скрывала лица, но Пётр догадывался: в нынешних обстоятельствах все жалели, что не отозвались на грамоту визиря.
– Пошто не настояли, – сказал он. – Тогда уж было ясно, что помоги от единоверцев не будет, во всём убыток, болезных да скончавших дни в войске много. Пошто не настояли?! Нетто я осердился бы? Ум хорошо, а семь лучше. Сообща бы рассудили, каков прибыток, а каков убыток. Ноне видим – убытку да риску – куда более. И по здравом размышлении должно было нам с турком пойти на замиренье.
Все ждали: не скажет ли ещё чего царь. Но Пётр замолчал. Ночь всех укрывала и поощряла к молчанию. Ибо молчание – душа ночи, её призыв.
– Всё гордыня, – наконец вымолвил царь. – Гордыня! Опасались, что турок согласие выманит да за слабость почтёт. А нам должно было о выгоде своей заботиться. Во всякой гордости чёрту много радости. Гордый покичился, да во прах свалился. Теперь локти кусать будем, да поздно, поздно. Я не вас – себя укоряю, – поспешно прибавил он. – Соизволения моего не на важное ожидайте, ибо важное есть наш общий государственный интерес. О важном совместно трактовать надобно. Я себе всё более в укоризну говорю.
Теперь, накануне решительного дня, Пётр ощутил, сколь велика его, царя, ответственность за всё то, что может случиться: за тысячи и тысячи смертей, за возможную гибель войска, за плен и неволю. Да, он был самодержец, единовластный повелитель миллионов. Но мог ли он почитать себя безрассудным? Был ли он безрассуден в годы своего царствования?
Нет, превыше всего почитал он здравый смысл и благоразумие. Никто не мог упрекнуть его в бессмысленном, злонамеренном либо вредном деянии. Он повсечасно, повседневно заботился о благе государства, интересе отечества.
Ныне Пётр испытывал нечто вроде смущения оттого, что упустил, недосмотрел и поставил на опасную грань – грань риска и себя, и своё войско, и своих приближённых. Теперь ничего иного не оставалось, как набраться мужества и воодушевить всех, кому предстоит победить или умереть.
В нём всегда доставало здравого смысла и трезвого расчёта. Он говорил себе: шесть тысяч гвардии стоят шестидесяти тысяч турок. Ну пусть тридцати тысяч! А ведь есть ещё более тридцати тысяч остального войска. Каждый стоит трёх турок и татар. Стало быть, выходит, сто двадцать тысяч российского войска против двухсот тысяч турок и татар. Ежели ещё учесть, что мы столь далече от своих пределов, а турок, можно сказать, у себя дома, то поневоле усумнишься.
Надёжна гвардия, надёжны дивизии Вейде, Репнина, Аллартовы драгуны, полки Чирикова... Однако же мало их, мало. Пятеро турков и татар на одного российского солдата. Полуголодного, истощённого, обросшего грязью. Кабы поближе к дому, управился бы, может, и с пятью. А в эдакой-то дали, где всё чужое, где трава вся посохла, хлеба да и деревья обглоданы саранчой.
Отвергли мировую, а теперь уж не воротишь. Задним умом-то крепки, а передний отказал. А он-то, царь-государь, тоже хорош. Это ему быть прозорливцем должно!
«Кампания сия может быть проиграна, – размышлял он уныло, – ибо всё к тому идёт». Негоже наперёд духом пасть, николи прежде у него такого не бывало, чтобы он помышлял не о виктории, а о сколь-нибудь достойной ретираде.
Но как можно о ретираде, коли весь крещёный мир на тебя с надеждою и верою взирает?! Коли ты столь тяжкий путь проделал с упованием на Господний промысел да на славу российского воинства, столь много побед одержавшего...
Пётр выругался – громко и смачно. За себя и за всех. Все кругом виноваты. Да теперь поздно локти кусать. Надобно воодушевиться да и идти напролом.
Он зевнул – протяжно и с подвыванием. Устал за день от всякого многого, прежде всего от беспокойных дум. Погрузиться с головою в сон, может, он всё скроет.
– Вы свободны, господа, – сказал в темноту, ибо господ кругом, казавшихся тенями, было немало. – Ступайте спать. Утро вечера мудренее.
Уснул тотчас же – стоило положить голову на подушку. Но среди ночи вдруг пробудился, словно кто-то растолкал либо труба внутри протрубила. Час был неурочный – близ двух.
Пётр долго лежал, дожидаясь сна. Но сна не было – отлетел напрочь. Надоело ворочаться. Он поднялся и, перешагнув через храпевших у порога денщиков, отправился в свой «гарем» – на половину царицы.
– Катинька, – вполголоса позвал он, не очень-то надеясь, что с первого раза пробудит Екатерину. Но сон её был по-женски чуток, как бывает он чуток у матери либо у любящего существа.
– Ай, – откликнулась она ещё сонно. Но тут же встрепенулась. – Вы, государь-батюшка? Ступайте ко мне.
Она была вся тёплая, мягкая, вся какая-то успокоительная и уютная – и Пётр на мгновенье забыл, зачем он здесь. Руки её тотчас обвились вокруг его шеи.
– Государь мой, батюшка, господин великий, иди ко мне, иди, – приговаривала она жарким шёпотом. – Позабудешь заботы – сниму их, сниму, как не снять, бесценный мой, царь вечный, повелитель, – частила она, уже вся готовая к ласкам, уже как бы и не спавшая. – Знаю, томит тебя, многие докуки томят. Иди же ко мне, иди, – она обвилась вокруг него, словно вдруг стала с ним вровень, в целую сажень, тело её обжигало, оно было гибкое и какое-то бесконечное, и не две руки, а по крайности четыре, казалось, обнимали и смело захватывали себе всё с любовной бесцеремонностью, всё сильней и сильней возбуждая его.
– Войди в меня, войди, Богом создана для тебя, для твоего удовольствия, владыка мой, всё во мне для тебя...
Она ластилась и стонала, дыша всё учащённей. Наконец их дыхания слились в одном долгом и немыслимо сладостном выдохе, и тела сотряслись в конвульсии.
– Ну! Ты! – выдавил Пётр и отвалился. Он долго не мог отдышаться. Женщина терпеливо ждала, покамест её повелитель не обретёт ровное дыхание. Ждать пришлось долго.
Екатерина догадывалась: не для любовной утехи пришёл к ней царь среди ночи. Искал утешения от тяжких дум и забот.
– Томило меня, – наконец выговорил он. – Сна не стало. Боюсь, матушка, сбудутся мои худые предвестья.
– Те предвестья нечистый наслал, – торопливо заговорила она. – Он, окаянный. Не пускайте его к себе, государь мой. Гоните и забудьте!
Она уговаривала его, как мать уговаривает дитя – не бояться страхов, темноты, быть разумником, давать отпор забиякам.
Пётр невольно улыбнулся – столько горячности и истовости было в её уговорах.
– Отводишь от меня докуку. И впрямь полегчало. Искушает меня нечистый. Верно говорят: пусти чёрта в дом, не вышибешь и лбом. Он это, он напустил на меня гордыню: пошто не согласился на замирение с турком.
– Батюшка царь, господин мой, – со страстью проговорила Екатерина. – Мнится мне, то искушение миром нечистый наслал. И не собирался на самом-то деле турок мириться, иначе не единожды гонцов своих бы заслал. От нечистого то искушение было, от него, окаянного! Осените себя крестом, повелитель мой.
И, подавая ему пример, она трижды осенила себя крестным знамением. Пётр покорно последовал ей. Эта литвинка приняла православие с той же истовостью, с какой отдавалась ему. В ней словно бы ничего не осталось от лютерки, словно бы всё научение пастора Глюка стёрлось как след на воде.
– Точно знаю: одолеем мы нечестивца, с мыслию о Полтаве добудем викторию.
– Что толку поминать то, что давно ушло и в реке забвения сплыло, – отозвался он. – Далече мы от наших пределов, и нету нам должной помощи.
– И Полтава была далече от пределов, – резонно возразила Екатерина, в который раз удивив его своей находчивостью.
Да, он сделал единственно верный выбор! Его царица была под стать ему. Она была разумна, утешлива, скромна, легконога, храбра, вынослива, быстра и находчива.
Пётр отправился к себе совершенно успокоенный. Меж тем денщики и гвардейцы подняли переполох: государь исчез!
– Вот-вот, проспите вы меня, дурни, – добродушно пробурчал он. – В другое-то время устроил бы вам нагоняй. Молитесь за здравие государыни царицы – она вас спасла.
И, оставив их в недоумении, отправился досыпать.
Заря была ещё где-то далече, когда вдруг невдалеке от лагеря затрещали выстрелы и послышались невнятные крики.
Лагерь всполошился. Гвардия выступила вперёд» драбанты взяли в кольцо палатки царя, царицы и министров.
– Экая незадача: только лёг – поспать не дали. – Пётр выглянул из палатки и приказал дежурному сержанту: – Скачи туда, где палили, да выясни причину переполоха. Возвернись не мешкая, доложишь.
Ждать долго не пришлось. Сержант возвратился и доложил, что ретируется кавалерия генерала Януса, у коей завязалась стычка с преследовавшими её конными турками. Генерал скоро явится пред очи его царского величества и обо всём доложит самолично.
Януса пришлось ждать долго. Перестрелка и крики продолжались, то приближаясь, то удаляясь. Лагерь пребывал в напряжении, все изготовились к отражению возможной атаки.
Тьма постепенно редела, утро наступало со своей обычной неумолимостью. И шум стычки затих. Деревья стали обретать привычный вид, утратив ночную таинственность. Вот уже первые птахи стали пробовать голос, пока ещё робко перекликаясь.
Наконец из-за дальней кромки леса выглянул багровый край солнца, и мир вокруг тотчас стал привычен. Ждали вестей от генерала Януса фон Эберштедта. Волнение мало-помалу улеглось, уступив место чуткой настороженности.
Янус – один из иноземных наёмников. Средь них – разный народ: занятые лишь выгодой и искатели приключений, храбрецы и полонённые личностью царя. Из каких был Янус? Пётр особо к нему не присматривался, как не мог присматриваться ко всем тем, кто вступил в русскую службу. Янус был родовит, выслужил генеральский чин – чего ж ещё?
Армия вставала на ноги. Своих природных офицеров недоставало. Боярские да дворянские недоросли бежали службы: им сладко елось да сладко спалось в родовых вотчинах. Никакая наука к ним не приставала: ни лаской, ни таской.
Янус же был истинный Янус – двулик. На военных советах говорил дельно. Однако в Лифляндии себя не показал и военачальнического пылу не обнаружил. С кем, однако, не бывало: вон и Шереметев не раз давал маху.
И всё-таки царь был уверен в Янусе. Дана ему в команду дивизия – восемь тысяч драгун. Это ли не сила! С нею, полагал Пётр, можно было сбросить переправившихся турок в реку и разорить самое переправу.
Но, похоже, неприятель снова начал теснить драгун. Шум боя то затихал, то снова возобновлялся. Наконец наступила передышка. Показались одиночные всадники. Их становилось всё больше. У отступавших был потрёпанный вид.
Где-то в отдалении бой всё ещё шёл. Исход его был неясен. Янус прислал адъютанта с докладом: в двух милях от лагеря – главные силы турок, успевшие переправиться на правый берег.
– Генерал барон Денсберг, – Пётр нетерпеливо передёрнул плечами, что означало и неудовольствие и раздражение. – Поднимайте дивизию и отправляйтесь с нею подкрепить Януса.
Поздно! Явился сам Янус в сопровождении своих генералов: Волконского, Видмана, Вейсбаха, Ченцова и де Бразе. Они спешились, Янус подошёл к Петру. Он был ненатурально бледен – то ли от пережитого, то ли от ожидания царской выволочки.
– Позвольте доложить, ваше царское величество...
– И без докладу видно: просрали! – рявкнул Пётр. – Проспали да просрали! Турок на пятки наступает. Впрочем, докладывай.
– Мы вышли на главную переправу турок. Нам противостояло не менее пятидесяти тысяч. Видя столь великое превосходство неприятеля и будучи обнаружены, я отдал команду отступать в порядке...
– Вижу, каков порядок, вижу, – перебил его царь. – Ну и каково прикажешь далее быть?
– Ваше царское величество, нам пришлось тяжело: там гористая местность, пришлось спешиться и отбиваться в пешем строю.
– По сей причине и вышли из боя?
– Велики потери, ваше величество...
– Потери неизбежны: не гулянье – война.
– Долгом своим поставляю предостеречь ваше царское величество, – нервно проговорил Янус. – Местоположение лагеря уязвимо. Едва ли не стотысячное войско турок движется сюда и может взять нас в окружение.
– Прежде о том известен – от людей князя Кантемира, – желчно произнёс царь. – Надежды на вас оставил. Приказ даден сниматься.
От гвардии майор Захаров с командою послан был для рекогносцировки. Явился, доложил: в трёх милях есть подходящее место – урочище, называемое молдаванами Станилешты.
Пётр помнил: кабы не торопились вперёд, упредить переправу турок, стали бы там лагерем. Придётся возвернуться. Экая незадача! Ясное дело: близится генеральная баталия, её не избегнуть. И лагерь тот придётся сильно укрепить.
Быть может, правы были немцы на воинском совете под Сорокою, когда предлагали свой план кампании. Крепость Сорокская была уже в руках, крепость Бендерскую надлежало осадить и взять. Посадить-де армию на суда и захватить третью крепость – Аккерманскую. Провиант, амуницию, рекрутов – всё сплавляли бы по Днестру. В оных крепостях можно было бы и перезимовать. А весною, подкрепивши силы, нанести турку решительный удар...
Многие стали против: Шереметев, Алларт, Ренне, министры. Долог-де путь по реке, сильно петляет она, да и где взять столь много судов. Для одного обозу их сотни три потребно...








