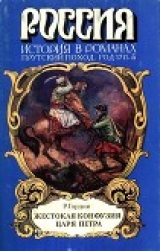
Текст книги "Жестокая конфузия царя Петра"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Отвергли план – негоже затягивать кампанию, стоившую непомерных сил и жертв. И поступили разумно? Разумно? Кто знал, что всё таково обернётся, что его генералы медлительны и нерасторопны, союзники отпадут, саранча всё съест, визирь возьмёт в жёсткие тиски.
С раздражением подумал об обозе. Зачем допустил! Великая обуза: жёны, дети, орущее, ревущее племя; кареты, тарантасы; берлины, возки, телеги – тысячи их. Сколь много бесполезных ртов, кои ещё надобно оберегать.
Выходит, не сумел предвидеть последствия, как должно государю. Выходит, так. Ищи теперь выход, царь Пётр. На тебе гнёт, ты войско возглавил.
Тяжко.
Кликнул Макарова. Попросил позвать Феофана. За шаховой игрой можно будет порассуждать, Феофан умом пространен и находчив.
– Худо дело, Феофане, – сказал Пётр, двинув пешку. Противно дёргалась левая щека. Прижал её рукою – весь загримасничал. – Мнится: проигрываю игру. Да не шахову – воинскую. Был зевок за зевком.
– Господь всеблагий выручит. Не может он оставить чад своих без защищения.
– И ты туда же, – усмехнулся Пётр. – На Бога-то надейся, а сам не плошай. Ведомо тебе?
– Твёрдости, государь, недостало. Не заслать ли визирю переговорщиков?
– Переговорщиков, говоришь? Поздно. Почтёт, что слабы мы, пардону просим. Нет, един остался ход: генеральная баталия. Шах либо мат.
Щека снова задёргалась, выпуклины глаз налились кровью. Казалось, вот-вот выскочат из орбит. Царь обхватил лицо ладонями и замер.
За парусиною палатки шло беспрерывное движение, слышались невнятные разговоры, скрип телег, конское ржание. Лагерь снимался с места.
Наконец Пётр распрямился, лицо его стало постепенно разглаживаться, короткие усики, ставшие дыбом, улеглись.
– Сколь было много советов разных, помнишь? Генеральные, долгие, короткие. Мно-го-гла-голанье, – по слогам отчеканил он. – Ныне вижу: в ловушку мы угодили. И надобно из оной выбираться без урону.
– Выберемся, – бодро провозгласил Феофан. – Государь наш силён и мудр. – Бодрость была напускная, и Феофан понимал, что она может раздражить царя, видящего дальше.
– Шведов урок не пошёл впрок. Внять бы предостереженью: война в дальней дали зело опасна без крепких союзников; ан нет, не внял...
– Эх, царь-государь, такова природа человеков – падать, ушибаться, бока потирать да вновь падать.
– Предвижу: тяжко будет ныне паденье наше, – вздохнул Пётр. – Слава Богу, дело к ночи, а турок ночью не воюет, а спит. Стало быть, даст нам уйти без помехи. Всё, Феофане, кончена игра, – царь смешал на доске все фигуры. – Нам теперь более не до игр.
Пётр вышел из палатки. Генералы окружили его. То и дело на запалённых конях доспевали адъютанты с донесениями. Спешенные драгуны и гренадеры барона Денсберга медленно отступали, пока ещё сохраняя боевые порядки, а кое-где остановив продвижение янычар. Пётр прочитывал донесенья, и лицо его мрачнело всё более. Визирь продолжал переправлять войско уже по четырём понтонным мостам. Выше по течению Прута татары напали на батальон, стерёгший переправочные лодки, и перебили всех до одного...
Вести были одна другой безрадостней. Стало понятно: надо собирать силы в кулак, ибо со дня на день быть генеральной баталии. И для сего время было упущено. Дивизию Ренне не вернуть, она далече. В разные места были отправлены полки по всяким надобностям – они тоже не поспеют. Фельдмаршал Борис Петрович распорядился поздно и, теперь прозревая свои оплошности, был не в себе.
Люди Кантемира имели глаза и уши в турецком стане. Но и в русском лагере были соглядатаи визиря, притом из тех же молдаван, что почиталось как бы естественным. Валашские бояре прежде верно служили Порте, и обычай их, вплоть до одежды, был тоже турецкий. Они готовились передаться победителю, ибо были уверены, что победа пребудет на стороне визиря, и слали тайных гонцов в турецкий лагерь. Так что Балтаджи Мехмед-паша знал, каково нынче неприятелю.
Но и Пётр был осведомлён, причём от тех же гонцов. Всего войска у визиря было сочтено 189 665, в том числе татар Девлет-Гирея 70 тысяч. Да пушек больших и полевых 444.
Под началом у Петра было 38246 конных да пеших, пушек 122.
Несо-раз-мерно!
С провиантом швах, совсем швах. Принялись помаленьку за лошадей. А что делать: им же всё равно конец приходил от бескормицы. Как ни опасно было оказаться без тягла, а голод-то не тётка.
Главное было теперь не потерять сердца. Пётр стал каменно спокоен. В очередной раз созвал генеральный совет. Выскажутся ли дельно?
Янус горячился: кто ответит теперь за безвыходное положение, в котором оказалась армия? Вины своей не чувствовал. А может, её и не было вовсе. Камешек был брошен им в огород царя, хотя обращался он к Шереметеву, титулуя его по всем правилам: господин граф и кавалер генерал-фельдмаршал.
Пётр намёк понял.
– Генеральной баталии не избежать. Стало быть, надобно устроить лагерь как должно, окопаться да рогатками обнестись. Все мы несём груз вины, вот что. И обязаны ежели не победить, то отбиться.
– А потом что? – наступал Янус, настроившийся воинственно, как видно, потому, что чувствовал и свою вину.
– Пробьёмся. Непременно пробьёмся, иначе нельзя.
– А далее?
– Что далее? Выйдем на Днестр, соберёмся с силою. Начальникам держать дух солдат, – Пётр был спокоен и отвечал уверенно, как бывало всегда перед лицом опасности. – Солдаты – наша крепость.
Господи, в лицах одна унылость и никакого одушевления. Бодрый тон царя отнюдь не нарочит. Он совершенно уверен!
Уверен? В чём? Ну хорошо, отбиться наверняка удастся. Янус прав: а далее-то что? Визирь возьмёт в кольцо да голодом и жаждою заморит – вот что далее...
Обоз – обуза! Жечь, жечь без жалости. Всё лишнее – побросать в реку, утопить! Облегчить войско...
– А далее, далее что?
Проклятый вопрос! И нет на него ответа.

Глава четырнадцатая
ОБЛОЖЕНЫ! ОТБИТЬСЯ!

О вы, которые уверовали! Когда
беседуете втайне, то не беседуйте о
грехе, вражде и неповиновении
посланнику, а беседуйте о добродетели,
богобоязненности, и бойтесь Аллаха,
к которому вы будете собраны.
Коран, сура 58
Голоса: год 1711-й, июль
Меншиков – Петру
Высокоблагородный господин контра-адмирал... Вашу милость всепокорно прошу, ежели сие писмо ещё прежде того времяни придёт, дабы в пущие опасности вдавать себя не изволили. Также при сем случае нас, хотя вкратце, но почаще о своём здравии уведомляли. Сами изволите рассудить, каково нам при нынешнем случае, слыша о вашем зближении с неприятелем и о приготовлении к баталии...
...Хотя ведаю, что ваша милость и без того в трудностях великих обретаетесь, и для того не хотел бы ни о каких противностях доносить, однако опасаюсь, дабы инако вам не донеслось. Доношу вашей милости о моей болезни, которая на прошлой неделе мне случилась, а имянно такая ж, какая в прошлом годе была, но гораздо той не в пример, понеже в полторы сутки з десять фунтов крови ртом вышло. И шла та кровь всё рвотою. И уж дохтуры веема живот мой отчаяли и не знали, каким лекарством болши ползовать; но паче чаяния, всемогущий Бог вашими молитвами от ожидаемой кончины избавить мя изволил...
Сенат – Петру
О укрывающихся от службы в народное ведение указы по воротам объявлены и в губернии посланы в апреле месяце. А по третьему пункту дворянских детей, в службу годных, сыскивают и о сыску их в губернии указы давно посланы, также и на Москве по воротам прибиты. И ис тех, которые по записке в Сенате явились и из губерний присланы, выбрано годных: царедворцов 20, городовых 249, которые в солдаты годятся, итого 269 человек. А из людей боярских 1000 человек грамотных, которые годны были в офицеры, за нынешним здесь малолюдством набрать не возможно, потому что царедворцы на службе...
Пётр – сыну Алексею
Я не научаю, чтоб охочь был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностию снабдевать и учить; ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона... Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые помнят брата моего, который тебя несравненно болезненней был и не мог ездить на досужих лошадях; но имея великую в них охоту, непрестанно смотрел и пред очами имел... Видишь, не всё трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дела правятся! Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем своё государство прославил паче всех.
Пётр (из приказа по армии)
Всякий начальный человек и солдат должен и обязан быть имеет товарища своего от неприятеля выручать, пушечный снаряд оборонять и прапорец и знамя своё, елико возможно, боронить так, коль ему люб живот и честь его.
День перешёл в сумерки. Они долго сопротивлялись наступлению тьмы. Но вот померк их последний проблеск, и ночь вступила в свои права.
Русский лагерь был празднично освещён. Со стороны казалось: армия справляет некое торжество. Языки пламени вставали со всех сторон, колебля тьму.
Жгли телеги, каруцы, повозки... Жгли всё то, что брали в запас в предвидении надобности, что могло гореть.
Насупротив, в полумиле от лагеря, турок оседлал высоту. И, без сомнения, дивился, глядя на празднество в стане неприятеля. Дивился небось и недоумевал, гадал и галдел.
Высота была испятнана кострами: турок тоже бодрствовал, калил свои большие казаны, готовил свою турецкую еду.
Пётр знал: скоро костры на высоте погаснут, останутся лишь дымящиеся головешки да уголья, похожие издали на светящиеся звериные глаза, а то и на красные звёзды, низко повисшие над горизонтом. И турецкий лагерь погрузится в сон. Ночь заповедана Аллахом для сна правоверным, пророк Мухаммед повторил эту заповедь в Коране.
– Отдали проклятому турку гору, мать вашу так! – выругался царь, ни к кому, впрочем, не обращаясь. – Отдали, отступили, а теперь нехристь глядит оттуда на нас и всё видит, что в лагере деется.
– Не военный я человек, ваше царское величество, а и то не отступил бы оттудова, – поддакнул Шафиров.
Пётр махнул рукой. Поздно! Поздно сетовать и рассуждать, ровно сопли размазывать. Коли был бы он в авангарде Янусовой конницы, тоща и высота была бы удержана, и басурмане не подступили бы столь дерзко.
Пора было снимать рогатки, ограждавшие лагерь, и потаённо уходить с места, оставя горящие костры: пусть басурман думает, что русские всё ещё варяг свои каши. Следовало быстрей достичь урочища, занять позицию, окопаться, оградиться. С рассветом турок кинется по пятам.
Ничего не поделаешь, удел, увы, только один – оборона. Пусть и активная, но оборона. При эдаком превосходстве неприятеля иного не оставалось.
Горько было на душе у Петра, смутно, тревожно. Эдакий афронт! Думал лишь о том, как спасти войско, как сохранить лицо. Корил себя – в который раз! – за то, что поддался порыву, рисовал победительные картины, зарвался, завёл армию в эдакие Палестины, не сведавшись об обстоятельствах, хотя всё обрисовывалось как в густом тумане...
Да, промедлили, не вышли наперёд визиря на Дунай. А ежели бы и вышли, что тогда? Смогли бы столь малой силою воспрепятствовать ему переправиться на обширном театре?
Допустил непростительный просчёт, не обмыслил как должно было план кампании, понадеялся на магию Полтавы, на союзников, будь они неладны. Притихли, попрятались в свои норы единоверцы, словно и не бывали... Август! Брат Август... Чёрт ему брат! Королевское слово – Слово. В момент растопилось, и нету его.
Один Кантемир остался верен. Верен, да слабосилен. Светлая голова, ничего не скажешь, да что толку. Эвон сколько у него под рукою светлых голов, а кто предостерёг?
Более же всего виноват сам. Ибо знал: боялись ему перечить – был гневлив, дубинкой проучал. Вот и поддакивали.
Много поддакивателей было. Знал сему цену. Знал непостоянство фортуны. Увы, не добро голову чесать, коли зубья у гребня выломаны.
Корил себя, корил. Как бы отрезвел: пришло особое состояние ума, когда всё видится в ясном свете. Ныне нельзя было допустить ни единой промашки, следовало выверить каждый шаг. И за генералами глаз надобен – явили себя не лучшим образом.
Пётр обходил лагерь. Его сопровождали Шереметев, Репнин, Макаров, Алларт и Вейде. Поторапливали: грозный неприятель был близко, подмигивал им багровыми глазами головешек, незримо таился в тёмной оторочке кустов, пугал непонятными звуками.
Ревущие ребятёнки, молча кланявшиеся ему женщины, – в который раз подивился, сколь их много, – раздражили царя.
– Бабье на вороту виснет, – буркнул он. – Кабы из-за них не засели.
Спутники его помалкивали. Не сам ли царь подал пример. Возит за собою царицу-лютерку, да ещё со всем её дамским штатом.
Пётр на них покосился:
– Ведаю, что в мыслях держите: царь-де сам грешен. Дак ведь я всё-таки царь ваш. Сказано древними: что положено Юпитеру, то не следует быку. Царица – лекарка моя, – прибавил он вполголоса, будто в оправдание.
Видели, ведали: помягчел царь под призором Екатерины. От прежней суровости, доходившей порою до свирепства, немного осталось. Всё тут, как видно, сошлось: тёплые руки царицы да нынешние тяготы.
Звучали негромкие команды, солдаты смыкали ряды, ровняли шаг, слышался шорох сапог, мягкое шлёпанье копыт. Бесконечные колонны проваливались во тьму. Шли ощупью, наталкиваясь друг на друга, наступая на ноги, чертыхаясь и снова наталкиваясь.
Скоро ли конец их пути? Кто про то ведал? Господь всемогущий, Царица ли Небесная, царь ли, генералы ли его? Изнемогло всё естество, ожесточились души: сколько можно идти и идти, шагать да шагать, рысить да рысить! Силы уже на пределе, все ушли в движенье, казавшееся бесцельным.
Всё было напряжено у бредущих ночной неведомой дорогою: глаза, уши, нервы, ноги, всё тело. Скорей бы рассвело, развиднелось. Кабы не короткая июльская ночь, совсем бы изнемогли в этом безвидном пространстве, полном незнаемых опасностей.
Всяк ощущал свою малость перед этой звёздной бескрайностью, свою ничтожность пред очами Всевышнего, сурово, осудительно глядящего на чад своих, занесённых жестокой волей земных владык на край света.
И сам царь почувствовал такое умаление и старался развеять его в беседе. Собеседник его был занимателен – господарь Димитрий Кантемир, а в толмачах – Феофан Прокопович, ибо не было у них общего языка.
– Языки отпирают мир, – вздыхал Пётр. – Я же самоуком похватал немецкий да голландский, однако не шибко преуспел.
Везла их царская карета, покачивая как в люльке. В кромешной тьме виден был лишь тлеющий глазок царской трубки. Казалось, всё было устроено ежели не для сна, то для дрёмы. Но сна не было ни в одном глазу: чересчур тревожна была ночь.
– Повелел Аллах: предстаньте предо мною со своими намерениями, а не со своими делами, – просвещал Кантемир царя с его неуёмным любопытством. – А потому мусульманин боится и в мыслях прогневать своё божество. Пять молитв обращает он ему ежедневно: первую из них на заре, а последнюю в начале ночи. Пред каждою молитвой правоверный должен очиститься, совершить омовение, ибо заповедал пророк Мухаммед: «Чистота есть половина веры». Пост, паломничество в священный город Мекку, множество других строгих предписаний сопровождает мусульманина на протяжении всей жизни. Коран разрешает иметь четырёх законных жён и столько наложниц, сколько правоверный в состоянии прокормить...
– Чудно, но отнюдь не худо, – хмыкнул Пётр. – А развод?
– Развод прост – муж говорит жене трижды: «Я тебя отвергаю!»
– Тоже не худо, – одобрил простоту обряда царь.
– «Мы отправили каждому народу посланника», – изрёк Мухаммед, окрещённый «печатью пророков». Вместе с ним главных пророков шесть – Адам, Ной – по-турецки Нух, Авраам – Ибрахим, Моисей – Муса, Иисус – Иса.
– Стало быть, почитают Священное Писание?
– Весьма почитают. Мухаммед положил его в основание Корана. Это и понятно: Коран создавался тогда, когда Ветхий и Новый Заветы насчитывали много столетий и уже почитались священными...
Рассказ Кантемира был долог и занимателен. За ним незаметно подступил белёсый рассвет. То, что казалось таинственным, тревожило и пугало, обрело свои обычные очертания. Одна за другой потухали звёзды. Последней растворилась в небесном млеке Венера – звезда пастухов и странников.
Воинское устройство турок, его подробности – вот что, естественно, интересовало царя более всего. И в этом Кантемир был весьма сведом, будучи, так сказать, у самого основания и источника.
Пётр был удовлетворён, узнав, что нет у турок регулярного строя, равно и никаких правил: каждый воюет как умеет. По-прежнему в ходу лук и стрелы, и не только у татар. Берут победу только числом, а отнюдь не умелостью либо доблестью. Команды воинской чураются, а высшим отличием почитается смерть за веру. Погибшему в бою прямая дорога в мусульманский рай, где его станут ублажать десять тысяч гурий...
– Нетто можно выдержать, – снова усмехнулся Пётр. – Разорвут на мелкие клочки!
Тем временем гигантская человеческая змея продолжала неуклонно ползти к своему новому пристанищу. Движение её было молчаливо и неумолимо. Люди шли, торопясь, а молчание красноречивей всяких слов говорило о том, каково вымотала их тревожная бессонная ночь. Они двигались как бы по инерции: завод ещё не кончился, он продолжал действовать уже на изнеможённых, слабеющих оборотах. С трудом влекли свою ношу и лошади.
Неверный молочный свет постепенно усиливался, яснел, разливаясь всё шире, солнце ещё было не близко, но оно уже касалось горизонта, готовясь к своему торжественному восхождению.
Неожиданно где-то позади затрещали выстрелы, послышались крики, поднялся переполох. Вся человеческая змея встрепенулась. Переполох нарастал, тревога мало-помалу стала общей, захватив всех. Казалось, арьергард отъединился от общего строя и потерялся за холмами.
Перестрелка нарастала.
– Скачи к князю Репнину, – приказал Пётр дежурному денщику. – Пусть тотчас доложит, что стряслось. А ты, граф, – обратился он к Шереметеву, – распорядись, чтобы авангард не двигался столь торопко, а то и вовсе стал.
– Турецкий час наступил, – сказал Кантемир, – теперь уж они не отстанут. Полагаю, то татары кусают хвост арьергарда. Прикажите, государь, усилить фланги испытанными отрядами.
Как ни берёг для решительного часу Пётр свою гвардию – полки оставались при нём во всё время похода, – пришлось отрядить семёновцев в конном строю поспешить в подкрепление Репнину.
Там, позади, бой всё разгорался. Вот уже заговорили пушки, затявкала малофунтовая полковая артиллерия. Ей басовито ответили гаубицы.
– Пошёл турок, пошёл, – загалдели солдаты и повернулись к той стороне, где шёл бой. Все силились понять, что же происходит там, в версте от них.
Пётр был в центре людского возбуждения, нараставшего волнами. Он всё ещё доподлинно не знал, что происходило там, за краем холмистой гряды.
Но вот прискакали люди Репнина. Глаза были вытаращены; то ли от пережитого, то ли от трепета перед лицом царя.
– Ваше царское величество, – вытянулся перед Петром адъютант князя. – Его сиятельство генерал-лейтенант и кавалер...
– Не тяни! – гаркнул Пётр. – Что там у вас? Ну?
– Турок обоз отбил...
– Просрали! – заорал Пётр, побагровев, щека тотчас задёргалась, он стал унимать её рукой. – Кто попустил?!
Адъютант обомлел. Страх сковал его. Он силился что-то сказать, открывал и закрывал рот, но язык точно прилип к гортани. Макаров, стоявший рядом с царём, видя, что на его повелителя вот-вот накатит приступ бешеного гнева, шагнул к адъютанту и потряс его за плечо. Подействовало. Офицер, бледный от страха, наконец заговорил:
– Осмелюсь доложить, ваше царское величество. Аникита Иванович князь Репнин за ночною темью недоглядел – торопко вперёд ушёл с первыми-то полками. А обоз возьми и оторвись – не поспел, стало быть, за полками. Только развиднелось, турок и наскочил. Смял охрану и пошёл косить...
– Отбили обоз! – хрипло выдавил Пётр. Он всё ещё не мог сладить со щекою, а глаза налились кровью. – Сколь повозок там было?
– Близ шести сот. Кои с жёнами и детьми генеральскими да штаб-офицерскими, кои со служителями ихними, с добром. Его сиятельство подробно донести изволит...
Репнин опасался показаться на глаза царю. Его посланец доложил, что князь-де находится в гуще боя, что турок продолжает теснить арьергард.
Вскоре перед царём поставили уцелевших служителей, бывших при том обозе. Они пали на колени.
– Вашей вины нет, – Пётр вперил в них выпуклины глаз. – Сказывайте!
– Великая была страсть, – заикаясь от страха, бормотали служители, – чудом уцелели – милостив Господь, Да не для всех.
– Никого не щадили басурманы – ни жён, ни детей. Всех порубили, кто им попался, сколь много невинных душ погибло...
– Довольно, – устало молвил Пётр. – Сие нам наука: ничем не обременять воинский строй. – Он трижды перекрестился. – Отслужим молебен за упокой погубленных, принявших мученическую смерть. Теперь всем в строй! Баталия, видно, густеет.
В самом деле: звуки боя становились всё громче, охватывая колонны с флангов, как и предсказывал Кантемир.
Близость опасности производила на Петра странное действие: в нём всходила и подымалась всё выше волна яростного азарта, ожесточения, мужественной решимости. Ни робости, ни опасения не было и в помине, как у истинного полководца, желающего во что бы то ни стало победить.
Турок наваливался всё отчаянней. Пётр отправился к царице, дабы успокоить её и заодно проверить, каково оберегают её женский взвод.
– Как ты, Катеринушка? – спросил он, входя. – Не дрожишь? – Вокруг царицы сбились её девицы, как цыплята вокруг наседки в минуту опасности.
– Вот уговариваю дурочек моих, чтоб ничего не боялись, – отвечала Екатерина со смешком. – Коли с нами наш царь-государь, басурману ни за что не подступиться.
– И верно, матушка, – отобьём турка. Он воевать по правилу не способен, а без правил – какая война. Не пужайтесь: с нами Бог и крестная сила, – повторил он привычно. – О вас особое попечение: вокруг стеной стали преображенцы. Стена та несокрушима, никто её не пробьёт.
Он поцеловал и перекрестил царицу, осенил крестным знамением всех её фрейлин разом и вышел.
Центром, куда стекались донесения, стала палатка Шереметева. Пётр направился туда. Старый фельдмаршал чувствовал себя уверенно.
– Вот, господин контра-адмирал, – обратился он к царю, – доносят, что турок остервенился, лезет всею своей ратью: янычары да спахии. Но огня нашего не выдерживают: как наскочат, так и отскочат. Строя не держат, нету у них строя...
– Про обоз слыхал? – перебил его Пётр.
– Как не слыхать. Токмо у страха глаза велики: поначалу мне докладено было, что две с половиною тыщи возов отбили. Оказалось, вчетверо менее.
– Мне уж было доложено про шестьсот. Всё едино: осрамился князь со своею дивизией. Сколь невинных душ погублено.
Движение колонн и вовсе замедлилось. Шереметев приказал обнестись рогатками со всех сторон. Солдаты изготовились к отражению атаки. По начищенным батистам стекали лучи восходящего солнца как предвестье стекающей крови.
И вот – началось.
Турецкая конница вырвалась вперёд и, нахлёстывая лошадей, понеслась на русское каре в надежде ошеломить, найти слабое место. Рты были ощерены в безумном крике: «Л-ла, ла-а!»
Гренадеры дали залп с колена. За ними изготовились позади стоящие, успевшие зарядить ружья.
– Пали!
Залп, как и первый, был нестроен, но сокрушителен.
Вал из бьющихся конских тел вырос перед рогатками. Спахии корчились на земле. Их уцелевшие товарищи с ходу завернули коней и молча понеслись назад.
Атака захлебнулась. В русских рядах не произошло замешательства. Оттого ли, что наступила разрядка боем после одуряющего ожидания, после бездельного движения, или потому, что царь был с солдатами и его фигура, возвышавшаяся над всеми, излучала уверенность.
– Прав был князь Кантемир: турок наскоком воюет, – оживлённо воскликнул Пётр. Похоже, его воодушевила картина мимолётного боя. Но следовало ждать продолжения, притом скорого.
– Граф Борис Петрович, – обратился Пётр к Шереметеву. – Прикажи полковой артиллерии зарядить пушки картечью. Против спахиев картечь премного чувствительней. А гренадеры встретят янычаров залпами, коли они надвинутся.
Очередная волна спахиев накатила с тем же безумным рёвом. Летели, размахивая ятаганами, держа наперевес пики и копья. Да, были среди них и копьеметатели...
– Пальники готовь! – выкрикнул генерал-фельдцейхмейстер Брюс. Команда понеслась от расчёта к расчёту.
– Пали, ребята!
Медные тела пушек изрыгнули огонь, и очередной вал из конских и человеческих тел вырос перед рогатками.
– Простая вещь рогатка, а сколь сильно держит, – глубокомысленно изрёк Шереметев.
– Пушка того проще, а держит не в пример сильней, – заметил Пётр. Он улыбался. – Глуп турок, людей не жалеет, прёт на рожон. Пугает? Как думаешь, Борис Петрович?
– Должно, пугает, – отозвался Шереметев.
Он оставался невозмутим во всё время боя. И со столь же невозмутимым видом выслушивал донесения, притекавшие с разных сторон.
Да, великий визирь, он же садразам, не жалел людей: чего-чего, а людей у него хватало, и он мог заткнуть любую брешь человеческими и конскими телами.
Теперь турки принялись обтекать русские каре, стремясь отыскать в их протяжённом корпусе слабое место, чтобы ворваться внутрь, произвесть опустошение и панику и заставить спасаться бегством...
Садразам и его штаб руководили издали и все ждали победных вестей, в уверенности, что русские не устоят. Что раз они отступают – а они, несомненно, отступали – под натиском его армии, то в конце концов отступление должно превратиться в бегство.
Но русский клин был сжат тесно, в кулак. Кулак этот не удавалось разжать никакими силами. Более того – он наносил удар за ударом. И удары эти становились раз от разу сокрушительней.
Визирь ждал перелома. Он пребывал в уверенности, что перелом должен наступить: его силы многажды превосходили русские. Однако турки терпели урон. Их атаки были слепы. Они не достигали цели.
Пётр был спокоен: русский строй показал свою несокрушимость. Он не мешался в команды Шереметева. Волей-неволей турки должны были угомониться.
Солнце, закончив своё восхождение, начало плавно спускаться с небесной тверди. Оно навело обычную жару. Но странное дело: жара боя пересилила – за тревогой смертного боя обе стороны, казалось, забыли о солнце и его немилосердных лучах.
Турки мало-помалу остывали, видя тщету своих усилий и возраставшие потери. Но они всё ещё наскакивали, злобно, но бессильно, всё слабей и слабей.
– Скоро они уймутся, – предупредил князь Кантемир. – Наступает время молитвы. Молитвой нельзя пренебречь даже в пылу битвы под страхом наказания Аллаха.
Аллах не наградил, но и не наказал: войско визиря прервалось на молитву. Кантемир знал, что говорил. Большинство его предсказаний сбывалось, и благоволение Петра росло. Только вот малое его войско заробело перед своими вековечными владыками. Пришлось отвести его подале от передовой.
– Служиторы мои не из лучших, – со вздохом признал Кантемир. Он мыслил трезво и столь же трезво оценивал и своё господарство, и своих людей. – Воинское ремесло не их участь. Они все крестьянской породы, более всего к земле приучены и с нею сроднились. Так повелось от века.
– Слышал я, что турок запрещал им браться за оружие, – сказал Пётр.
Кантемир подтвердил:
– Земля наша считалась прикрытой щитом султана – её призвано было оборонять войско султана. А нашему народу надлежало то войско кормить, поить и всячески удовольствовать. Мы ведь райя, то бишь стадо. А стадо, известное дело, надо стричь.
– Да и время от времени резать, – вступил в разговор Савва Рагузинский, исполнявший в этот раз обязанность толмача, или, как принято было здесь говорить, драгомана.
Савва был человек весьма пронырливый, сведущий, многоязычный, а потому и бесценный. Благодаря своему великому пронырству он ухитрялся проникать даже сквозь тюремные затворы – в Семибашенный замок – Едикале, где был заточен посол Толстой. Пётр его заметил, приблизил и отличил: у царя был острый глаз на Людей полезных.
И теперь, слушая Кантемира, переводя взгляд с него на Савву, он думал о том, сколь ещё много нужно полезных отечеству людей. Он уже не сомневался, что в лице Кантемира приобрёл России человека многополезного, незаурядного. А ещё он думал – не мог не думать – о том, каково придётся дальше. Они отбились и ещё раз отобьются. И ещё много раз. Было уже очевидно, что визирь уготовил русскому войску западню: путь вперёд закрыт, путь назад если ещё не отрезан, так непременно будет отрезан: татары переправились и нету пока довольной силы, чтобы выбросить их на левый берег...
Войско-то отобьётся. Да вот пробьются ли к нему обозы с провиантом, фуражом, с воинским припасом. Кони падают уж от бескормицы, всё, что можно, съедено, обглодано, смолото. Люди терпеливей любой скотины, да только и человеческому терпению конец приходит. Пока едят конину, но можно ли остаться без коней?! В конце концов, кавалерия и спешенная воевать может. Телеги можно сжечь либо порубить, но не все же, не все... Эвон сколько раненых, а станет много больше. Их не бросишь, не закопаешь в землю, как убитых. А кто станет везти пушки и иной самонужный снаряд?
Сколь же много придётся рыть могил на сем тяжком пути! Одному Господу то ведомо. Генерал-майор Волконский смертельно ранен, часы его сочтены; кончался зять генерала Алпарта подполковник Ленрот. Уже приняло! смерть на поле боя полковник, подполковник, два капитана, три поручика и близ двухсот солдат. А более того впереди. Опять же раненые. Доктора и их добровольные помощницы из генеральских и офицерских жён да служанок сбились с ног, оперируя, перевязывая...
Тяжко! Не послать ли Савву либо Шафирова к визирю с письмом о замирении?
Эк спятил! Савву-то нельзя. Он, по турецкому разумению, изменник, ему надо голову срубить. Жаль. Савва небось визиря бы на мир согласил.
Пётр Павлович, подканцлер – вот отличнейший переговорщик! Языки знает, хитрован преизряднейший, выскользнет там, где иные увязнут. Его надобно послать главным, а с ним служителей из Посольской канцелярии, да непременно Остермана Андрей Иваныча, искусника по части дипломации.
Визирь, сказывают, несговорчив, однако ему деваться тож некуда: голыми руками не возьмёт, да и в рукавицах не ухватишь. Сколь мы за краткое-то время турок помолоть успели. Понял небось.








