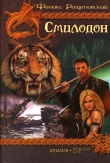Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
«Как верно, – подумал он. И ощутил легкий укол в сердце. – Но ведь и я был среди этих насильников. И если бы я правил по совести и справедливости, быть может, ханство уцелело бы».
«Для падишахов справедливость и правосудие – источник правильных действий, – прочитал он. – Милосердие и сострадание – основа жизни подданных, а притеснение и жестокость – причина беспорядков среди подданных».
«Простая истина, – думал он, – но я не следовал ей, когда был у власти. Моими ошибками воспользовались русские и обратили их в свою пользу. Но не только русские – соплеменники, родственники из Гиреев. Все норовили воспользоваться моей неопытностью в делах государственных. И вот итог всего – я в Калуге».
Он сжал голову руками и задумался. Может ли человек избежать ошибок? Нет. Он вспомнил изречение одного римского мудреца, вычитанное им в годы пребывания в Венеции: «Эрраре хуманум эст» – «Человечеству свойственно ошибаться». Но если бы у него были мудрые советники, предостерегли бы они его от ошибок?
Советники казались ему, неопытному, мудрыми. У них были седые бороды, которые он принимал за несомненный признак мудрости. Только потом он понял: борода – всего лишь признак принадлежности к мужскому полу. Но было уже поздно.
Он прошелся мыслью по прошлому, ища свои главные ошибки. И понял, что дело было вовсе не в советниках, а более в нем самом. Молодость самоуверенна. Он был самоуверен до предела. Ему казалось, что все, что он говорит и делает, истинно, что он на правильном пути. Каждый собственный шаг казался ему верным. Он почитал верным то, что обратился за покровительством к русским, отвратив лицо от султана. И все дальнейшее…
Оказалось, то была цепь ошибок, становившихся все жестче. Чем далее он уходил в своих ошибках, тем непоправимей становились они. Наконец он и вовсе увяз в них. Калуга – их завершение.
Он снова обратился глазами к рукописи. И вот что прочел:
«Из-за ежегодных чрезвычайных налогов и поборов, вызванных беспрестанным передвижением войск, между райей и войском возникает глубокая, возбуждающая смуту неприязнь, и чем дальше, тем больше языком разбирательства этой враждебной тяжбы становится меч. Из их среды выделяются злодеи, которые уже по природе своей являются разбойниками. Из толп разбойничьих мятежников образуются отряды, и множество злодеев, именующих себя отрядами, собираются под преступными знаменами, поднятыми кем-нибудь из них, помогают и поддерживают друг друга. Сотрясая небо оглушительным шумом барабанов, они развернули знамя восстания. Слуги, которые из поколения в поколение были благожелателями нашего рода, перевелись, пожертвовав ради султана головой и жизнью… И вот уже в течение стольких лет наследственные владения попираются разбойниками…»
«Так было, так будет, – думал он с горечью, ибо то, о чем писал Вейси, стало его уделом. – Так было многие века назад, так случилось и в мое время».
Эта мысль несколько утешила его. Медленными шагами брел он в свой кабинет, не отрывая глаз от вязи строк.
«Изменилась страна и ее властелины,
И лик земли стал безобразен.
Изменилось все, что имеет вкус и цвет,
И редкой стала улыбка прекрасного лица…»
Все было схоже и во времена пророков, напитавших поколения своею мудростью, и в более поздние времена. Но потомки так ничему и не научились. Они не внемлют предостережениям мудрых и опыту предков и нагромождают грех на грех, ошибку на ошибку. Неужто так будет всегда?
Корень честолюбия засох. Остались лишь слабые ветки, обреченные на гибель. Он более не помышлял о власти. Зачем она ему? Он испытал ее, обольщался и возвышался, падал с ее вершин и больно ушибался, но продолжал карабкаться до изнеможения. И вот он здесь – в Калуге.
Хорошо бы найти тихое пристанище где-нибудь на одном из островов в Мраморном море, принадлежащих султану, сохранив то, что осталось ему от прежнего величия, и ждать… А вдруг…
Вдруг о нем вспомнят на одной из вершин и захотят поднять его к себе? Крохотный росточек надежды все еще не увядал внутри, хотя он мысленно не раз затаптывал его…
Размышления эти прервал камердинер:
– Господин, только что возвратился Салман.
Шахин-Гирей встрепенулся, надежда тотчас ожила.
– Где он? Зови его! Отчего сразу не привел?!
– Он очень плох, – развел руками камердинер. – Слаб, голоден, грязен. Свалился с коня, потерял дар речи…
– Так что же? Вы помогли ему?
– Да, господин. Слуги обмывают его, потом накормят и напоят. Я распорядился. Тебе придется подождать, как это ни прискорбно. Его надо привести в чувство, он не в состоянии вымолвить ни слова.
– Поторопитесь. Мне не терпится узнать, какие вести он привез. Нет ли при нем какой-нибудь бумаги?
– Нет. Мы сняли с него одежду. Ни в этих лохмотьях, ни на нем самом ничего не было. Кроме грязи и ссадин, – добавил камердинер с гримасой, означавшей сострадание.
Минута проходила за минутой, ожидание становилось нестерпимо. Он захлопал в ладоши.
– Ну что там?
– О, мой господин! Он заснул сном праведника, обратился в бесчувственный камень. Я тряс его – бесполезно. Как видно, он бодрствовал не одну ночь. Наверно, надо дать ему выспаться, – осторожно предположил он.
– Наверно, наверно, – передразнил его Шахин-Гирей. – Ладно. Так и быть, пусть спит, – закончил он после паузы. У него и в самом деле был трудный путь. Видно, ему пришлось нелегко.
– Да, господин, но была дорога испытаний. Он заслуживает снисхождения.
– Я сам знаю, чего он заслуживает, – раздраженно перебил его Шахин-Гирей. – Он будет вознагражден за верность и страдания.
«Более чем странно, что при Салмане не оказалось никаких документов, – принялся размышлять Шахин-Гирей. – Он мог уничтожить их при виде опасности. Либо спрятать в надежном месте, полагая вернуться позже. Либо… – и при мысли об этом он невольно поежился, – либо его схватили, обыскали и нашли…»
Это было худшее из всего, что могло случиться. Он снова оказывался в осаде, горше которой не может быть. Немота той стороны, на которую он так уповал, была страшнее всего, ужаснее его нынешнего почетного заточения.
Он стал ждать пробуждения Салмана. Прошло восемь часов, день подходил к концу, он трижды посылал узнать, каков Салман.
Но ему неизменно докладывали: спит мертвым сном, кажется, даже не дышит.
Ночью Шахин-Гирею плохо спалось, он то и дело просыпался с одною и той же неотвязной думой. И, чуть свет проснувшись, снова велел доложить о Салмане.
– Проснулся, выпил ковш воды и снова повалился.
Шахин-Гирей начинал терять терпение. Сколько ж можно спать, более ждать он не может!
– Растолкайте его, – приказал он камердинеру. – Выспится потом. Я разрешу ему спать хоть целую неделю. А пока пусть доложит то, что обязан доложить, за чем был послан.
Двое слуг ввели заспанного Салмана. Он был полусогнут, с ввалившимися щеками. Борода отросла и курчавилась. В ней отчетливо серебрились нити седины.
– Ну? Говори же! – Шахин-Гирей почти кричал.
Красные глаза Салмана отупело уставились на него. Некоторое время он молчал, потом повалился своему господину в ноги. Плечи его тряслись.
– Поднимите его, – приказал хан. – Пусть говорит.
Слуги подняли Салмана и поставили перед господином.
– Ну?!
Салман долго не мог начать. Губы его шевелились, но из груди не вырывалось ни звука. Потом он заговорил, но это были какие-то обрывки членораздельной речи.
– Гяуры… схватили… Нас схватили, разделили, бросили в зиндан… Потом дали бумагу…
– Где же она, где?! – выкрикнул Шахин-Гирей.
– Я спрятал ее под лукой седла…
– Немедленно отыскать!
Слуги бросились исполнять приказание. Наконец принесли замусоленный, сложенный в несколько слоев бумажный лист.
– Можете идти, – буркнул Шахин-Гирей. – Теперь мне никто не нужен. Оставьте меня одного.
Он медлил разворачивать бумагу. Что-то говорило ему, что его ждет великое расстройство. В самом деле, если Салмана и его спутника схватили и бросили в узилище, стало быть, нашли те бумаги, которые были адресованы ему. В таком случае у Салмана не должно бы оставаться ни одной бумаги. Но ему что-то дали взамен…
Холодея, он наконец развернул помятый лист. И прочитал вот что:
«Достопочтенный Шахин-Гирей!
Все твои попытки навредить нам я буду пресекать самым беспощадным образом. Замысел твой мне известен, и я его уничтожу.
Потемкин».
Сквозь магический кристалл…
Ветвь четвертая: январь 1453 года
Итак, османский властитель стал готовиться к осаде великого города. В конце января он созвал своих вельмож, всех пашей и беев и стал держать перед ними речь.
Мехмед говорил, что сам Аллах призвал его на подвиг, который пытались совершить, но так и не смогли его великие предки из династии Османов.
– Это великий город, но не велики его силы. За стенами, которые кажутся вам неприступными, мало тех, кто может носить оружие. Пока Константинополь принадлежит неверным, сыны Аллаха не могут спать спокойно. Это вечная угроза в сердце нашей империи, и мы должны ее уничтожить. Я намерен осадить и захватить этот оплот неверных. Что думаете вы?
Паши, бейлербеи и беи молчали. Они предвидели, какой ценой придется расплачиваться за эту войну. Достанет ли у них сил и средств, не потерпят ли они поражение?
Многие, в том числе старый Халил, хотели бы предостеречь молодого султана от этого рискованного шага, но страх сковал им уста. Они уже знали: султан крут и тех, кто посмеет ему противоречить, ждет жестокая кара.
И они согласились.
Началась подготовка. Мехмед подгонял всех. Однажды к нему привели венгра по имени Урбан. Он похвалялся, что может вылить огромную пушку, которая сокрушит стены. Был-де он у императора Константина, предлагал ему свои услуги. Но у того не нашлось ни денег, ни металла.
– Я заплачу тебе вчетверо против того, что ты просишь, – загорелся султан. – Но если ты не исполнишь своего обещания – посажу на кол.
Урбан отлил чудовищную пушку. И на глазах султана она была опробована в крепости Румели-хисар, куда ее доставили на сотнях волов с помощью сотен людей.
В это время в Босфор вошел генуэзский корабль. Его капитан отказался подчиниться требованию турок о сдаче. И тогда пушку навели на него. Урбан зажег фитиль, и она выпалила. Ядро пробило корабль, и он затонул. Султан был в восторге. Он щедро наградил литейщика и велел отлить еще более гигантскую пушку.
А сераскеру Караджа-бею было приказано вести войско на штурм византийских городов, располагавшихся на фракийском побережье. Месемврия, Визос и Анхиалос сдались без боя и не были разграблены. Зато Перинфос и Селимврия на побережье Мраморного моря пробовали было защищаться. Но силы были слишком неравны, османы захватили их и предали огню и мечу.
Братья императора, владевшие городами в Пелопоннесе, могли бы прийти на помощь осажденному городу. Чтобы этого не случилось, султан приказал другому своему военачальнику, Турахан-бею, с сыновьями и войском преградить им путь к морю.
Готовился и османский флот. Ветхие суда были починены и просмолены, полным ходом шло сооружение новых. Вскоре в строю было около ста тридцати судов – гребных и парусных, не считая мелких. Султан отводил флоту важную роль: он должен был прежде всего воспрепятствовать подходу христианских кораблей к осажденному городу с провиантом, амуницией, а также с добровольцами. Во главе его был поставлен ренегат Сулейман Балтоглу, болгарин по рождению.
В это время под стенами Эдирне формировалась огромная армия. В ней было никак не меньше 200 тысяч воинов. Во главе ее встал сам султан Мехмед.
Глава четвертая
Гонцы во все концы…
Власть без доверия народа ничего не значит, тому, кто желает быть любимым и прославиться, достичь этого легко. Примите за правило ваших действий и ваших постановлений благо народа и справедливость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Если душа ваша благородна – вот ея цель.
Екатерина II
Голоса
Я вам говорю дерзновенно и как должно обязанному вам всем, что теперь следует действовать смело в политике, иначе не усядутся враги наши и мы не вылезем из грязи.
Потемкин – Екатерине
Новые подданные, ни языка, ни обычаев наших не ведающие, требуют всякой защиты и покровительства. Спокойствие и безопасность каждого должны быть предохранены, в таковом положении не вздумали бы они оставить земли отцов своих. Предпринимаемое некоторыми удаление из Тавриды доказывает их неудовольствие. Войдите в причины оного и с твердостью выполняйте долг ваш, доставя удовлетворение обиженным. Лаской и благоприятством привлекают сердца, но правосудие одно утверждает прямую доверенность.
Потемкин – Каховскому и генерал-майору Репнинскому
Подтверждаю я прежнее мое предписание, чтобы в ваших сношениях с пограничными турецкими начальниками глас умеренности предпочитали вы шуму и угрозам, коих в действо произвесть вы не в силах. Ежели турки более говорят, нежели сделать могут, то таковой пример не достоин подражания. Пусть они останутся при хвастовстве своем: с нашей стороны да сохранится вся пристойность.
Потемкин – Каховскому
Предлагаемые у сего письма Ея Императорское Величество указала перлюстрировать. Я прошу вас, милостивый государь мой, послать копию Государыне и оригиналы ко мне. С королевского списана копия, но Ея Величество, разрезав оное, желает, чтобы склеен был край подрезанный. Мы его так запечатанное пошлем в Москву…
Безбородко – санкт-петербургскому почтдиректору
Не столько войска меня беспокоят, сколько крайняя скудость в деньгах. В мирное время промотались до крайности: неурожай хлеба и худая экономия в войсках истощили все ресурсы, который от банков и нынешних займов получены… Генерал-прокурор, параличом сраженный, наклал податей самых странных и народу тягостных…
Безбородко – послу в Англии князю С. Р. Воронцову
Монарх наш поступил так снисходительно и, может быть, даже слишком опрометчиво, что дал свое согласие на завоевание Крыма. Но эта уступка доставила нам только холодное выражение признательности Екатерины, главной цели которой – разрушению Оттоманской империи – противятся все европейские государства.
…Не доверяйте графу Кобенцлю…
Граф Верженн, министр иностранных дел Франции, – Сегюру
Ваши грозные приготовления в Крыму, вооружение эскадры, которая в 36 часов может явиться под Константинополем, так же, как ваши действия в Азии, заставляют нас, как союзников турок, советовать им предпринять нужные меры…
Сегюр – Потемкину
Я очень хорошо знаю, что разрушение Оттоманской империи есть дело безумное, оно потрясет всю Европу… недавно еще вы послали в Константинополь инженеров и офицеров, которые только и толкуют что о войне…
Потемкин – Сегюру
Вы хотите поддержать государство, готовое к падению, громаду, близкую к расстройству и разрушению…
Потемкин – Сегюру
– Базиль! Базиль Степаныч!
– Иду, ваша светлость.
Василий Степанович Попов, личный секретарь Потемкина, его алтер эго[23]23
Второе я (лат.).
[Закрыть], правитель канцелярии и прочая, перешагнул порог кабинета и замер в изумлении.
Его патрон, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, правая рука императрицы, предстал перед ним в натуральном виде. То есть совершенно голый.
Заметив искреннее изумление Попова, привыкшего вроде бы к чудачествам своего патрона, Потемкин гаркнул:
– Ну? Чего уставился? Голого мужика не видал? У меня все в обыкновенном виде, как у тебя.
Но так как остолбенение Попова не проходило, Потемкин подошел к нему, ткнул его в плечо и пробурчал:
– Чего стоишь? Ступай и принеси мне халат с позументом. Тот, что государыня пожаловала. Много ль народу дожидается?
– Два генерала, один полковник, трех курьеров с доношениями принял и вашей светлости доложу.
– Ступай, ступай. Генералов приму, полковнику скажи, чтобы явился завтра, коли срочности нету.
Халат был необъятный и роскошный. Попов накинул его на полные белые плечи Потемкина и спросил:
– Впускать, ваша светлость?
– Теперь можно, – благодушно согласился Потемкин. – Чать, не рассердятся, что я не в мундире и без регалий. А шлафрок забери, его место в спальне.
Первым был впущен вице-адмирал флота и кавалер Клокачев, принятый Поповым за генерала, что, впрочем, было не столь уж далеко от истины.
– Явился, ваша светлость, дабы доложить…
– Садись, садись. – Потемкин подвинул ему кресло. Он всем говорил «ты», не исключая и императрицы, когда они оставались тет-а-тет. – Вот теперь докладывай.
– Корабли, известные вашей светлости, что стоят на херсонском рейде, готовы отправиться в Севастополь, на свою главную базу. Однако интендантство доселе не поставило провиант…
– Я с них там штаны спущу, тогда провиант тотчас явится.
– Пушек недокомплект…
– Голыми их пущу, Василь Степаныч!
Попов тотчас вошел и стал перед Потемкиным.
– Вот господин вице-адмирал жалуется на интендантов. Пиши: ежели в три дня его претензии не будут удовлетворены, всех уволить без пенсиона. Что-то там у нас было еще об Херсоне?
Попов стал жевать губами, но Потемкин махнул рукою:
– Вспомнил! Там у вас обретается французский купец, некий Антуан. Сдается мне, что он шпионит в пользу турок.
– Благонамеренная личность, ваша светлость, – сказал Клокачев.
– Мои конфиденты благонамеренней, – отрубил Потемкин. – Ты, господин вице-адмирал, имей за ним примечание. И всю производимую им переписку с его корреспондентами в Крыму и Константинополе перлюстрируй и копии посылай мне. Все сие делать в полной тайности, со всякою осторожностью, дабы сей Антуан не пронюхал. Понял?
– Будет исполнено, ваша светлость.
– Государыня в наши пределы изволит шествовать. Херсон, а особливо порт, должен быть вычищен со всем старанием и блистать. О сем я предписал гражданскому губернатору, морская же часть должна первенствовать.
– Приложим все силы, ваша светлость.
– Ну ступай, коли более нету дела. Базиль!
– Слушаю, ваша светлость.
– Генералы скучны. Нет ли на прием какой мелкоты?
Попов знал, что Потемкин более всего любит беседовать с «мелкотой» – младшими офицерами. Он объяснял это так: обер-офицер, коли не вор, пребывает в нужде и не опасается открыть истину во всей ее неприглядности.
– Есть пехотный капитан, ваша светлость. Вторую неделю ходит.
Потемкин удивленно воззрился на Попова зрячим глазом. Другой, стеклянный, оставался невозмутим.
– Что ж это ты, Базиль, простого человека тиранишь. А ну впусти его немедля. Остальным объяви, что я занят и сбираюсь в отъезд.
Теперь пришел черед удивляться Попову.
– Как? Вы не изволили распорядиться насчет выезда. Стало быть, готовить?
– Готовь, готовь. Поедем смотреть, каково идет стройка. Там небось доселе зады чешут. Всех надобно погонять, иначе не двинутся. Скажи вдогон господину вице-адмиралу, что вскорости я сам к ним буду и всех распущу. А теперь впусти капитана.
Вошел капитан, переломился пополам и стал у двери как вкопанный. Лицо его было красно – то ли от робости, то ли от солнца, – глаза потуплены.
– Чего дверь загородил? Ступай сюда, садись, – сказал Потемкин тоном умягченным. Он понимал, что делается сейчас в душе служаки, не решавшегося заговорить.
Сел на стул боком. Мундиришко был заношен, зеленые рукава обтерханы до седин, руки приметно тряслись.
– Робеешь?
– Робею, ваша светлость. Пред столь высоким лицом…
– Пьешь?
– Как не пить, ваша светлость?
– По рукам вижу. Говори, чего пришел.
– Проигрался, ваша светлость, – с неожиданной откровенностью произнес капитан. – В пух и прах. Нищ, однако…
– Чего ж играл, коли нищ?
– В чаянии выиграть, ваша светлость. Из нужды, стало быть, вылезть. Теперь одно осталось – в петлю али стрелиться.
– Грех да беда на кого не живут, – назидательно произнес Потемкин. – Много ль проиграл?
– Четыреста рублен, – со вздохом отвечал капитан.
– А пьешь-то много ль? – продолжал допытываться Потемкин.
– Как все, ваша светлость?! На многопитие карман не тянет. Пять душ ребятенков не дозволяют особо.
– Это хорошо, что покаялся, – проговорил Потемкин. – Покаяния отверзи ми двери, гласит молитва. Помнишь ли?
– Как не помнить, ваша светлость?! Беспременно помню, каялся уж пред образом Богородицы Казанской.
– Господь грех отпустил, и я отпущу. Коли б солдат обирал – не отпустил бы, то грех великий, суду воинскому подлежащий. Солдат-то не обижаешь?
– Невозможно это, ваша светлость, – с твердостью отвечал капитан.
– Вижу, что невозможно. – Потемкин пробуравил его зрячим глазом. – По мундиру вижу. Ступай к Попову, скажи: я-де велел выдать тебе четыреста рублев на проигрыш да двести на мундир.
Капитан вскочил со стула как напружиненный, лицо его сияло.
– Ах, ваша светлость, благодетель вы наш, век за ваше здравие стану Бога молить…
– Моли Николая Угодника, он мой покровитель, – прервал его Потемкин.
– Дозвольте ручку облобызать, – бормотал растроганный капитан. – Истинно вы наш благодетель.
– Я не дама, руки не дам, – хохотнул Потемкин. – Ступай, ступай да более в игры не играй. Понял? И пей поменее, голова будет здрава.
Капитан пятился и кланялся, отступая задом к двери. Наконец она за ним захлопнулась.
Через минуту в нее просунулась голова Попова.
– Сколь выдать-то?
– А сколько капитан тебе сказал?
– Всего шестьсот.
– Верно сказал, – кивнул Потемкин. – Вот и выдай. Да прикажи готовить мундир да выезд.
Главною заботой Потемкина отныне было шествие ее величества. На всем пространстве от Петербурга до Тавриды кипели надзираемые его единственным зрячим глазом работы. Иначе быть не могло: следовало показать государыне, что он, Потемкин, рачительный управитель некогда пустынных земель, вверенных его управлению, что они оживлены и населены, что там, где паслись сайгаки, теперь пасутся тучные стада, поднялись новые селения и города.
Да, еще много неустройств, ибо нужны были силы Геракловы для того, чтобы оживить пустыни. Он, Потемкин, нашел в себе эти силы. Но он был один. Как ни старался подобрать себе энергичных помощников, это не всегда удавалось. Чиновники были косны, сребролюбивы, деньги, отпущенные на дело, утекали в их карманы, яко вода в песок, подрядчики думали лишь о наживе…
Ныне главной его заботой была новая днепровская столица – Екатеринослав. Он и обосновался в нем в ожидании явления государыни. И теперь надзирал и погонял, не давая никому спуску. Слухи о том, что он, Потемкин, набивает свой карман, были ложны. Он брал на свои нужды ровно столько, сколько было нужно на поддержание привычного образа жизни. Он был вельможа и привык к вельможеству, к роскошеству.
Григорий Александрович не терпел никаких ограничений. И государыня понимала его, ибо тоже не ограничивала себя ни в чем. А Потемкин был и оставался ее любимцем, несмотря ни на что. Ибо при всем при том она видела в нем прежде всего государственного мужа.
Он и был государственный муж при всех своих вельможествованиях, при всех причудах и мыслил широко и по-государственному. Причуды же стали притчею во языцех. По ним его и мерили большею частью, а вовсе не по делам.
Так или иначе, но пустынные пространства оживали под его рукою. Как ожила эта степь, где была заложена новая столица Новороссии – Екатеринослав. Он разлегся на трехстах квадратных верстах, протянувшись вдоль Днепра на двадцать пять верст. Жизнь уже пробивалась на всем этом пространстве покамест еще несильными ростками. Вдоль берега белели домики поселян, куры копались в пыли, на городских выгонах топтался скот.
Дворец Потемкина был все еще недостроен. Но уже поднялись молодые деревца в саду, окружавшем его, отражали солнечные лучи крыши двух оранжерей.
Облачившись в походный мундир зеленого сукна, Потемкин первым делом прошел в оранжереи. Садовник Бауэр торопливо семенил за ним.
Восемь ступенек вниз, вторая дверь, и его охватила прямая нега тропиков. Цвели гранаты и лавры, померанцы и лимоны. Деревца были в силе, и уж кое-где желтыми фонариками светились плоды.
– Созреют ли ананасы, Бауэр? Государыня едет, потчевать ее и министров будем.
– Дюжина непременно созреет, ваша светлость.
– Старайся. Должны мы удивить ее величество.
– Апельсины и лимоны тоже будут к столу государыни, – докладывал садовник. – Худо идут гранаты, но то фрукт капризный и неплодный. Он неба и воздуха требует. А вот финиковые пальмы, как изволите видеть, поднялись под крышу. И уж плоды завязались у некоторых. Однако их долго придется ждать. Прикажите, ваша светлость, завезти сюда еще два улья. Здешних пчел маловато уже.
– Экий сад эдемский, – радовался Потемкин. – Отдохновение средь худой зимы.
– В самом деле благодать, ваша светлость, – поддакнул шедший позади Попов.
– Про ульи слышал? Чтоб непременно вскорости доставили! – распорядился Потемкин. – В чем еще у тебя нужда, Бауэр?
– Лучший помет голубиный, – промямлил садовник, – да где его взять… Для плодоносности почвы здешней.
– Прикажу – достанут, – убежденно пророкотал Потемкин. – Ты не стесняйся, говори, что надобно. Здешнюю красоту питать надо щедро, ничего для нее не жалея.
– Мы и так ублаготворены вашей милостью, – пробормотал садовник, кланяясь.
– Искусник, – сказал Потемкин, когда они с Поповым вышли из оранжереи. – Люблю таких.
На широченных улицах-проспектах полукружьем высились лавки, поднялся гостиный двор. За ним – биржа, судилище.
– Проект университета исполнен ли?
– Старов сделал.
– Строить пора, чего медлят?! Пошли адъютанта за городовым архитектором.
– Известно, чего медлят – рук нету, – отвечал Попов. – Тож с консерваторией. Сарти[24]24
Джузеппе Сарти (1729–1802) – итальянский композитор, дирижер. С 1784 г. – в России, где написал ряд опер, патетических гимнов и т. д.
[Закрыть] обижается: обещали вы ему поднять консерваторию по-быстрому, а она еще не зачата.
– Повинюсь перед ним, – согласился Потемкин. – Где взять людей потребных?
– Помещики за дворовых держатся – вцепились. А пришлого народу мало.
– Греков, сербов, молдаван, болгар зазывать надобно.
– Как зазовешь? Они под турком. И так беглого народу оттоль немало.
– Освободим мы их, – убежденно проговорил Потемкин. – Я на то живот свой положу, цель то моей жизни. И Царьград будет наш.
– Близок локоть, да не укусишь, – засмеялся было Попов, но тотчас же осекся, увидев насупленные брови своего патрона.
– Ежели жив буду, в губернаторское кресло Царьграда тебя посажу и крест на Святой Софии воздыму! – С этими словами Потемкин широко перекрестился.
– Да будет так, – поспешно проговорил Попов, стремясь загладить неловкость.
– Будет, будет! – убежденно проговорил Потемкин. – Есть у нас ныне сила, есть и власть. Есть Таврида, отколь до турка близко. Есть Румянцев, Суворов, Кутузов, Спиридонов[25]25
Спиридонов Григорий Андреевич (1713–1790) – русский флотоводец, адмирал. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. командовал эскадрой в Средиземном море, одержал победу в Чесменском бою (1770).
[Закрыть], Ушаков[26]26
Ушаков Федор Федорович (1744–1817) – русский флотговодец, адмирал, один из создателей Черноморского флота и с 1790 г. его командующий.
[Закрыть], Мордвинов[27]27
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – граф, государственный деятель, адмирал. В 1802 г. морской министр. В 1826 г. единственный из членов Верховного уголовного суда отказался подписать смертный приговор декабристам.
[Закрыть], Дерибас[28]28
Дерибас Осип Михайлович (Хосе де Рибас) (1749–1800) – русский адмирал. Испанец. С 1772 г. на русской службе. Участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг. и штурма Измаила. Руководил строительством порта и города Одесса.
[Закрыть]. У турок таковых нет. – Потемкин воодушевился, сев на своего любимого конька, зрячий глаз его сверкал, составляя разительный контраст с другим, стеклянным, хранившим вечное и мудрое спокойствие. – Государыня, тебе сие ведомо, равно со мною мыслит. Я ее зажег, – с некоторой гордостью закончил он.
Открытый экипаж поджидал их. На запятках висли дежурные денщики. Поехали.
В разных концах протяженного города копошились строители. Видно было, что задумано широко, с размахом, а осилить трудненько. Площадка кафедрального собора распростерлась чуть ли не на квадратную версту. Потемкин приказал архитектору спроектировать громаду. «На аршинчик выше собора Петра в Риме», – говаривал он. Копали фундамент. Едва ли не сотня землекопов долбила мерзлую землю, забрасывала ее в будуары, и медлительные волы тащились наверх.
– Сколь народу нынче в Новороссии по ревизским сказкам? – поинтересовался Потемкин. – Ты, Базиль, должен ведать.
– Ведаю, ваша светлость, – резво отвечал Попов. – Сосчитано на нынешний год сверх семисот тысяч душ.
– С прибылью, стало быть, – оживился Потемкин. – Однако требуется больше, куда больше. Худо дело подвигается, – сердито бросил он. – Эдак мы и в сто лет город не подымем. Указ надобен губернаторам, дабы присылали бродяг и прочих провинных людей нам сюда. Мы их тут образуем, пригреем, жилье дадим и к делу пристроим. Екатеринослав восславит Екатерину в целом свете. Сей город должен стать в ряд с европейскими столицами, не уступив ни Берлину, ни Парижу…
– Не чрезмерны ли таковые мечтания? – осторожно заметил Попов. – Ведь названные вами столицы стоят многие века. И для сего города надобен по меньшей мере век, дабы он образовался.
Попов нередко противоречил своему патрону, как бы поддразнивая его: он заметил, что Потемкин хоть и вспыхивает, но ему это нравится. Светлейший нуждался в оппоненте, дабы заострить свои мысли и прожекты.
– Ежели государыня соблаговолит указом своим дать сюда работных людей по потребности, то город быстро возрастет.
– А откуда набрать обывателей? – не унимался Попов.
– Сии работные люди и станут обывателями, – отвечал Потемкин, начиная сердиться. – Призовем колонистов. Я вон даже корсиканцев зазвал, что тебе ведомо.
– А Кременчуг, ваша светлость? А Херсон, а Николаев, вам весьма любезный?
– Кременчуг уже образовался под стать губернскому городу, его подкрепим колонистами, Херсон тоже. Николаев же благодаря своему расположению и покровительству небесного его патрона Николая Угодника процветет со временем. Я в это верю, – довольно спокойно проговорил Потемкин. – Ты мне зубы-то не заговаривай, давай сюда архитектора.
– Послано за ним, ваша светлость. Однако ж чрезвычайная протяженность препятствует скорому его отысканию.
Но архитектор все же явился. Потемкин встретил его вопросом:
– Давеча велено было скорым порядком возвести хоромину для компониста Сартия. Давай отчет!
– Под крышу поднят, ваша светлость, – торопливо отвечал архитектор. – Рядом, как вам ведомо, с местом, отведенным под консерваторию. Еще неделя надобна, чтобы закончить и внутри отделать.
– Гляди мне, чтоб исполнено было.
Григорий Александрович Потемкин был большой меломан. Он зазвал в Россию уроженца итальянского города Фаэнцы Джузеппе Сарти, к тому времени уже прославившегося на композиторском поприще не только в родной Италии, но и в Копенгагене. Потемкин, взявший его на службу и щедро вознаграждавший, начал с того, что заказал ему ораторию на подобранный им церковный текст «Господи, воззвав к тебе». Исполнение ее было помпезным: Сарти дирижировал двумя хорами, симфоническим оркестром и оркестром роговой музыки.
Теперь Сарти спешно разучивал с домашней капеллой Потемкина, в которой насчитывалось сто восемьдесят пять певцов и музыкантов, торжественную кантату в честь грядущего приезда императрицы, взяв слова Тамбовского гражданского губернатора Гавриила Романовича Державина, к тому времени прославившегося на ниве пиитической. Кантата называлась «Гений России». В ней были такие слова:
Теперь мы возгласим то славное светило.
Что вящие лучи на край сей испустило.
(Хор громогласно, с музыкой):
Сияй, любезная планета,
Пресветлой красотой твоей!
Сияй, утеха, радость света.
Для вечной славы наших дней!
Сияй, несметных благ причина.
Бессмертная Екатерина!
Потемкин покровительствовал Державину. Они были товарищами по университетской гимназии – Фонвизин, Богданович, Булгаков и Потемкин. Державин прославлял Потемкина в своих громокипящих стихах: