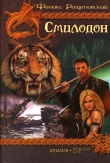Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
– Ха-ха-ха! А ведь ты совершенно прав, Костинька, – радуется Екатерина. – Как мне славно с вами, мои мальчики. Как хорошо, что вас привезли сюда! Если люди думают, что государю всегда и везде хорошо, то они жестоко ошибаются. Ему хорошо только с самыми близкими, а бабушке – с внуками.
Ей в самом деле было необыкновенно легко. Внутреннее напряжение, никогда не покидавшее ее, то ослабевавшее, то вновь нараставшее, помогли разрядить ее внучата с их непосредственностью и простотою чувств.
– Я немного отдохну, а потом мы отправимся гулять. И я расскажу вам о том, где я побывала и что успела повидать.
– Конечно, конечно! – Оба захлопали в ладоши.
Желанный час настал. Бабушка и внуки отправились на прогулку. Костя нашел, что храм Вознесения похож на бонну Луизу Максимовну. Саша выдал тайну братца:
– Он говорит, что, когда вырастет, женится на Луизе Максимовне.
Екатерина продолжала веселиться. И щебетанье, и вопросы внуков, и их бесхитростность радовали и умиляли ее. Они еще не успели влезть в шкуру великих князей, они пока еще пребывали далеко от величия, в простом мальчишестве с его интересами.
– Вот эти дубы, должно быть, посажены при царе Алексее Михайловиче. – И она гладила морщинистый ствол. – А вот этот великан мог видеть другого царя – Иоанна Васильевича Грозного.
Им уже были знакомы эти имена и вехи российской истории. Они стали наперебой выкладывать свои знания.
– А знакомы ль вам имена – Игорь, Олег, Владимир, Святослав?
– Знакомы, ваше величество бабушка, – отвечали согласно.
Выяснилось, однако, что знакомство это было беглым. Как жаль, что внуки не могли вместе с нею проделать путь из варяг в греки, а рассказ о нем обречен быть лишенным красок. Можно ли в словах воссоздать мощь Днепра, вздувшегося от вешних вод и теснившего берега, грозно ревущего в порогах… А Киев?..
– Ваше величество бабушка, а почему Киев – мать городов русских, когда он должен быть отец?
И опять Екатерина возвеселилась. В самом деле – почему? Она не сразу нашлась с ответом.
– Наверно, так писано в древних летописях, дети, – предположила она.
– А что было за порогами?
– А за порогами были новые города, которые построил князь Потемкин: Херсон, Екатеринослав, Николаев… А потом мы отправились в Тавриду. Мы двигались по следам Игоря, Олега, Святослава и Владимира.
– Как? Неужели они оставили там такие вздутые следы? – удивились оба.
– Вздутые! Ха-ха! Да, мои дорогие, они оставили именно-именно вздутые следы, но в истории российской. Я стояла среди руин древнегреческого города Херсонеса – Корсуня по-славянски. Там некогда был святой Владимир, великий князь Киевский. Он приплыл туда из-за моря, где был гостем в Царьграде, столице великой православной империи – Византии. Он привез оттуда веру в истинного Бога…
– Бабушка ваше величество, – перебил ее Саша, – это не он приплыл из-за моря, а его отец, князь Святослав. Тот, который прибил свой щит на вратах Царьграда, великий воин.
– Ах ты умник, исправил бабушку. Верно, не он приплыл, а его невеста, сестра византийского императора, Анна. Там, в Корсуни, он принял святое крещение. А затем крестил Киевскую Русь.
– И побросал идолов в Днепр! – воскликнул Костя. – И они поплыли в море!
– Верно! Раньше киевляне молились этим идолам – они пребывали в язычестве. А святой Владимир принес им истинную веру в единого Бога…
– И в Святую Троицу, в Иисуса Христа, – радостно объявил Костя. – Я все знаю. И молюсь тому же Богу, которому и святой Владимир молился.
– А почему он сразу отказался от старых богов? Мне это непонятно и никто так и не объяснил, – недоумевал Саша.
В самом деле, такой вопрос должен был возникнуть в детских головах. Взял и ни с того ни с сего побросал богов в Днепр.
Почему он решил, что новая вера лучше старой? Екатерина на мгновенье замялась.
– В Корсуни были тогда православные храмы, – наконец произнесла она, – и Владимиру пришелся по душе молитвенный обряд и лики святых. И тогда его невеста Анна сказала ему: «Если ты берешь меня в жены, то прими и мою веру. Иначе я не пойду за тебя. Так повелел мой брат, император Василий». Пришлось Владимиру согласиться. Священники ввели новобрачных в храм и свершили над ними обряд венчания.
– Идолы-то были деревянные и грубые. Только усы у них были позолоченные. – Костя был определенно горд своими познаниями.
– Ну конечно. – Екатерина потрепала его по щеке.
– Идолов было много, как у меня солдатиков. Но ведь и святых очень много. – Последние слова он произнес с недоумением. – Я всех и не упомню…
– Отец Николай говорил тебе, что святые – это люди благочестивого жития, – назидательно поправил его Саша, – совершившие подвиги во славу веры.
– Я тоже совершу подвиг, когда вырасту. И стану святой.
– Молодец, Костинька!
Екатерина окончательно развеселилась. Во все время шествия ей не удавалось так душевно веселиться, как сейчас, с внуками. «Отчего это, – думала она, – люди, вырастая, не могут сохранить непосредственность и чистоту детских лет? Куда все это девается? Неужто груз жизни непреодолимо давит и крутильная сила его такова, что искажает и портит натуру?» Вот ей удалось сохранить и пронести сквозь годы природную веселость. Другим и это не удается.
– А теперь, мальчики, давайте войдем в храм Божий. – И первой стала подниматься по ступенькам на гульбище.
Храм был светел и гулок, возносясь в немыслимую высоту, куда с трудом досягал взор. Их тотчас же охватило молитвенное благоговение. И захотелось затеплить свечи, и произнести какие-то особенные, идущие из глубин слова. Они были, разумеется, у каждого свои. У мальчиков бесхитростные, у Екатерины – политичные.
Она сказала с чувством:
– Давайте помолимся Николаю Угоднику – попросим его, чтобы он покровительством своим осенил наше воинство. И чтобы им удалось прибить российский щит на вратах Царьграда подобно нашему великому предку князю Святославу. Ибо город этот, святой для каждого православного, захватили нечестивые агаряне и надругались над святыми храмами, обратив их в свои капища. Ваша чистая молитва, мои дорогие мальчики, дойдет до наших небесных покровителей.
Они постояли возле царских врат, беззвучно шевеля тубами. А позади медленно копилась толпа, опознавшая государыню и ее внуков, великих князей. Шушуканье разрасталось, и Екатерина уже пожалела, что не успела распорядиться насчет охраны. Торжественность минуты была сломана.
«Не дадут ведь спокойно покинуть храм, – подумала она. – И откуда здесь народ взялся? Просила ведь оградить сие место от постороннего люда. Чего доброго, начнут в ноги кидаться, одежды лобызать. Любовь простонародья обременительна».
Именно этой обременительной любви она и опасалась более всего. Она была связана с нечистым дыханием, с фанатическим блеском в глазах, с кликушечьими вскриками. Несколько раз Екатерине пришлось столкнуться с ее проявлениями, и она сохранила о них тягостные воспоминания.
Екатерина оглянулась в надежде обрести некий охранительный щит. И увидела – да, увидела с облегчением, что у выхода табунится десятка два гвардейцев во главе с премьер-майором. Все-таки за нею надзирали, несмотря на ее запрет.
«Все благо, – подумала она, – да и можно ли оставлять без призора главу империи! Мало ли что… Хоть я и противилась сему: возможно ли снесть, коли с тебя не спускают глаз и следят за каждым твоим шагом, но, ежели сего не желаешь, сам возьми предосторожность».
Она сделала знак майору приблизиться и, когда он, продравшись сквозь толпу, склонился перед нею, сказала вполголоса:
– Сделайте милость – выведите нас отсюда.
Солдаты мигом взяли их в кольцо и, оттеснив молящихся, вывели государыню со внуками из церкви.
– Что ж, мы неплохо погуляли, правда, мальчики?
– Можно бы дольше, – заикнулся Саша.
– Ах, милые мои, я ведь подневольная бабушка – меня ждут государственные дела. И потом, мы скоро тронемся в путь – на Москву и далее – домой. Помните, что я говорила вам о доме?
– Помним, ваше величество бабушка, – отозвались внуки.
Во дворце ее подкарауливал Безбородко.
– Случилось что, Александр Андреич? – воззрилась она.
– Прибыл курьер от Якова…
Она не сразу поняла: все еще была во власти внуков.
– От Булгакова из Царьграда, – пояснил сообразительный Безбородко. – Везир приступил к нему с ультиматумом, но он все отвергает и просит дать ему время, дабы снестись с Петербургом. Всю наличность, что у него была, равно и мягкую рухлядь он извел на взятки верховному везиру, рейс-эфенди, кяхье и некоторым пашам. Однако полагает, судя по тону везирскому, что сей испытывает давление – то ли шейх-уль-ислама, то ли самого султана, то ли янычар, кои в очередной раз бунтуют.
– Послать к нему немедля через светлейшего князя золотых дукатов и соболей. Отписать же в том смысле, что мы твердо держимся мирного трактата, однако пойдем на переговоры об уступках. Важно выиграть время. Войны не избежать, однако надобно отодвинуть ее хотя на год. Пусть турок думает, что мы готовы уступить.
Безбородко с сомнением покачал головой:
– Уж ежели что ихний духовный глава замыслил, то непременно джихад – священную войну против неверных. Я так полагаю, что им надобно выпустить пар: народ бедствует и ропщет. Война как раз для сего и существует.
– Чему быть, того не миновать, – оборонилась Екатерина излюбленной фразой. – Делай, как сказала. Иного выхода у нас нету.
На следующий день Храповицкий записывал:
«Высочайшее шествие началось поутру… Препровождали Ее Императорское Величество и Их Императорских Высочеств до городской дачи, ехал возле кареты московский генерал-губернатор и кавалер князь Лопухин, а перед каретою Московской округи земский исправник со своими заседателями и драгунами; за ними следовали почт-директор, действительный статский советник и кавалер Пестель со своими офицерами и почтальонами верхами; потом конвойная губернская команда и, наконец… выбранные от дворянства почетные дворяне. По прибытии к городской даче встретили Ее Императорское Величество г-н главнокомандующий, генерал-аншеф, сенатор и разных орденов кавалер Петр Дмитриевич Еропкин с господами, находящимися в Москве у разных должностей… и генералами».
Сквозь магический кристалл…
Ветвь двадцать третья: май 1453 года
Итак, за стенами великого города в турецком лагере воцарилась тишина. Иным она казалась странной, но объяснимой: турки-де решили снять осаду. Но большая часть защитников готовилась к худшему. Они понимали: это зловещее затишье перед бурей.
Нервное напряжение выливалось в ссоры и склоки. Греки и венецианцы сходились в одном: генуэзцам доверять нельзя – за свой нейтралитет они готовы пожертвовать великим городом, а самим укрыться в Пере. Генуэзцы же, обороняясь, говорили, что венецианцы обуреваемы гордыней и воображают себя спасителями Константинополя.
Глава венецианцев Минотто был человеком деятельным и властным. Его соплеменники в мастерских своего квартала изготовили заградительные щиты для заделки брешей в стенах, а доставить их на место он приказал грекам. Те объявили: не отнесем, пока нам не заплатят.
– Уместна ли столь великая жадность в такой момент! – возмутились венецианцы.
– Нам нечем платить за еду для наших семей, – оборонялись греки, – наши женщины и дети голодают.
Ссоры вспыхивали и меж военачальников. Джустиниани, оборонявший участок стены у Месотихиона, против которого были сосредоточены отборные силы турок и который подвергается наиболее ожесточенным атакам, потребовал перебросить ему пушки, стоявшие на стене, обращенной к Золотому Рогу. Лука Нотарас, возглавлявший оборону этой стены, воспротивился: это-де уязвимый участок. Императору Константину, измученному напряжением последних дней, с трудом удалось примирить их.
Но мало-помалу все прониклись сознанием смертной угрозы, перед которой меркнут споры и раздоры. Греки-православные подали руку итальянцам-латинянам. Колокольный звон церквей созвал и объединил всех верующих. Люди шли по улицам, неся в руках чтимые иконы.
– Кирие элейсон! Господи, помилуй! – неслось со всех сторон.
Православные и католики в едином порыве повторяли этот призыв. Господь не должен оставить великий город, его благость простерта над ним.
Шествия с иконами шли вдоль стен, останавливаясь в тех местах, которые могли стать уязвимыми для врага. И освящали их в надежде на святое заступление. Дым кадильниц возносился к небу. Возносились к небу и слова молитв, и пение псалмов.
В соборе Святой Софии служили литургию. Кардинал Леонард, непримиримый враг православия, объединился с православными епископами в общем молении о небесном заступлении. Огромное пространство собора было заполнено до отказа. Огоньки свечей отражались в золоченых ликах святых на мозаиках. Казалось, Христос и все небесное воинство благословляют молящихся на подвиг во имя торжества истинной веры.
Император Константин присоединился к молящимся. По окончании литургии он с военачальниками и знатными горожанами направился во дворец. Он произнес перед ними проникновенную речь.
– Я готов умереть, защищая великий город, оплот христианства на Востоке, – провозгласил он. – И все, от мала до велика, должны не щадить себя во имя торжества правой веры. Поклянитесь же вместе со мной.
– Клянемся! – был стоустый ответ.
Глава двадцать третья
Камнепад
К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости – пример ея множества имения любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнародывая через сие причину их щастия, подал другим женщинам. Видя храм, сему пороку сооруженный в сердце Императрицы, едва ли за порок себе щитают ей подражать; но паче мню почитает каждая себе в добродетель, что еще столько любовников не переменила.
Князь Щербатов
Голоса
Друг мой сердешной, князь Григорий Александрович. Третьего дни окончили мы свое 6000-верстное путешествие, приехав на сию станцию (в Царское Село) в совершенном здоровье, а с того часу упражняемся в рассказах о прелестном положении мест, вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, радении, усердии, попечении и порядке, вами устроенном повсюду. И так, друг мой, разговоры наши почти непрестанные замыкают в себя либо прямо, либо сбоку твое имя либо твою работу.
Екатерина – Потемкину
Мы здесь чванимся ездою и Тавридою, и тамошнего генерал-губернатора распоряжениями, кои добры без конца и во всех частях. Тебя и службу твою, исходящую из чистого сердца и усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты безценной. Сие я говорю и думаю ежедневно… Ей-Богу, ты молодец редкой, всем проповедую.
Екатерина – Потемкину
Матушка-государыня! Я получил Ваше милостивое послание из Твери. Сколь мне чувствительны оного изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери, ибо попечение твое о благосостоянии моем есть движение, по избранию учиненное. Тут не слепой жребий. Сколько я тебе должен, сколь много ты сделала мне отличностей; как далеко ты простерла свои милости на принадлежащих мне, но всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла и все коварства не могли иметь успеха. Вот что редко на свете: непоколебимость такой степени тебе одной предоставлена. Здешний край не забудет твоего счастия. Он тебя зрит присно у себя, ибо почитает себя твоею вотчиною и крепко надеется на твою милость… Прости, моя благотворительница и мать; дай Боже мне возможность доказать всему свету, сколько я тебе обязан, будучи по смерть вернейший раб…
Потемкин – Екатерине, из Кременчуга
Милостивое письмо Вашей Светлости… получил и повеления Вашей Светлости усердно выполнять потщусь. Больные мне наибольшая забота. Несказанная милость, что изволили уволить от работ, и караулы уменьшу.
…Между Збурьевска и Кинбурна у Александровского редута приставали вооруженные турки на лодке из камышей и побранились с казаками. Генерал-майор Рек их ласково отпустил. Очаковский Паша обещал Розену, при сем отправленному, которого принял ласково и потчевал, впредь своих посылать с билетами (пропусками), как и за солью, ежели случитца. Очаковское крепостное строение продолжается, работников мало, Розен подробнее донесет Вашей Светлости…
…Вашей Светлости нижайший слуга Александр Суворов
Громкий стук в ворота заставил всех насторожиться. После короткой паузы он повторился с еще большей требовательностью. Кто-то барабанил кулаками, а затем чем-то металлическим.
– Выгляни, Христофор, кого черт принес, – попросил Булгаков драгомана Панайдороса. – С утра покою нету. Небось турок какой-нибудь: нахально барабанит. Коли так, спроси, чего ему надо.
Панайдорос неторопливо спустился вниз. Послышалась гортанная речь, больше похожая на перебранку. Через минуту он возвратился вместе с носатым турком в высоком тюрбане, короткой курточке и в шальварах, перепоясанных широченным красным кушаком, за которым торчал ятаган.
– Он говорит, что вашу милость вместе с господином Кочубеем немедленно требует к себе сам садразам, великий везир. И лошадей ихних прислал с охраною.
Булгаков заметно встревожился при упоминании о лошадях и охране. Прежде такого не бывало – ездили на своих лошадях, да и без охраны.
– Стряслось у них там что? Ты спроси его, отчего такая срочность.
Панайдорос забормотал по-турецки и, выслушав ответ, пояснил:
– Он ничего толком не знает, но говорит, что случилось что-то чрезвычайное, Порта-де переполошена, чиновники бегают туда-сюда, сам садразам сердит.
– Не нравится мне это, – пробормотал Булгаков, – ох не нравится. Только третьего дня отвез министрам дачи…
Долгожданный тюк с деньгами и мехами ехал в Константинополь долго – не ехал, впрочем, а плыл на российском военном корабле, который подвергся строгому против обычного досмотру. Капитан сказал, турки-де сильно осерчали, не хотели пущать, была долгая перебранка, наконец уступили, узнав, что груз для посла и везира.
Всех чиновников основательно подмазали, почти ничего не оставили на крайний случай: садразам получил связку отборных соболей, рейс-эфенди, его заместитель, ведавший иностранными делами, – кошель с дукатами, по-турецки мешок, кяхья-бей, правая рука великого везира, – куньи меха, остальным чиновникам Порты по малости, но тож солидно.
Получили и медали, отчеканенные по случаю шествия. На одной был профиль государыни, карта шествия и надпись: «Путь на пользу». На другой – тож Екатерина и текст: «В 25 лето царствования, 1787 году». Не обошлось и без медали в честь Потемкина. Тож профиль и по окружности: «Князь Г. А. Потемкин-Таврический». В этом «Таврический» и была вся суть.
– Медаль – что! Государыня пожаловала ему сто тысяч рублей, – не без зависти сказал Булгаков, – пишет мне о неизреченной к нему милости. И опять напоминает, дабы старался изо всех сил умаслить верхушку, война-де сейчас не ко времени. А когда она ко времени? У него, однако, своя мерка: даешь Царь-град – и все тут.
Турок прислонился к притолоке и, как видно, решил ждать.
– Скажи ему, что мы приведем себя в порядок и скоро спустимся, пусть дожидается там, – повернулся Булгаков к драгоману. И затем, оборотясь к Кочубею, повторил: – Придется ехать, Виктор Павлыч, однако предчувствую некий подвох от турок.
– Беспременно подвох, – согласился Кочубей, – иначе свою стражу не послали бы.
Надо было облачаться в мундиры со звездами, как того требовал этикет, а это была канительная процедура – они в своей резиденции хаживали в исподнем, ибо стояла одуряющая жара.
Наконец они были готовы и стали неторопливо спускаться вниз. В посольском дворе ожидали их две оседланные лошади и четверо конных сипахи при полном вооружении: с кремневыми ружьями за спиной и ятаганами за поясом.
– Ишь ты, какие строгости, – заметил Булгаков. – Худо наше дело.
– Бог не выдаст – свинья не съест, – отозвался Кочубей. – Не робей, Яков Иваныч, наш-то Бог ихнего одолеет.
– Кабы так, да не больно-то я на Бога надеюсь. Бог-то Бог, а сам не будь плох.
Оба взгромоздились на лошадей и тронулись шагом. Двое стражей ехали впереди, двое позади. Булгаков и Кочубей быстро взмокли в своих мундирах. Улицы были узки и завалены нечистотами, в которых копались единственные санитары – бродячие псы.
Конвоиры перешли было на рысь, но потом осадили коней, оскользавшихся все чаще и чаще – они не были подкованы. Наконец они подъехали к зданию Высокой Порты – турецкому кабинету министров.
Сипахи приняли у них лошадей и повели за собой в том же порядке – двое впереди, двое позади. Великий везир – садразам Коджа Юсуф-паша пребывал в ожидании. Он был не один: по левую руку сидел рейс-эфенди.
Булгаков и Кочубей поклонились ниже обычного и прижали руку к сердцу в знак полного почтения. Они приготовились к худшему, но начало его не предвещало. Их пригласили сесть и подкатили столик с шербетом и дымящимся кофием. Драгоман его высокопревосходительства позволил себе пошутить: при таком солнце звезды на их груди могут запроситься в небеса.
Многосмысленная шутка? Что за ней последует? Напряженность не оставляла обоих, нечто неопределенное и непонятное как бы повисло над ними. Можно ли ждать чего-нибудь доброго? Ни в коем разе! Стало быть, надобно готовиться к худому. Насколько оно будет худо и неожиданно, вот вопрос.
Последовали традиционные осведомления о здоровье. Детей? Жен? Что сообщают из Петербурга? Каково здоровье императрицы?
– Ее величество возвратилась из своего путешествия, – буркнул Булгаков, обозлясь про себя: чего тянут, заговорили бы о деле! Притворяются, будто не знают о возвращении государыни. Все они знают, все им известно.
– Довольна ли императрица? Приглянулись ли ей те места, которые она посетила? – продолжали выспрашивать хозяева.
– Обо всем этом в газетах писано, – почти огрызнулся Яков Иванович. Вот азиаты чертовы, прямо-таки издеваются!
– Мы ваших газет не читаем, – отвечал садразам. – Вы нам своими словами скажите.
– Должно быть, довольна. Мы на сей счет никаких сведений не имеем.
– Как не имеете? – осклабился везир. – Известно нам, что князь Потемкин состоит с вами в переписке.
Яков Иванович едва не взорвался. Ну азияты, ну изверги!
– Переписка эта деловая, – сдержав себя, ответил он, – и чувствований государыни она не касается.
– Не всегда деловая, не всегда, – продолжал испытывать его на этот раз рейс-эфенди.
«Как же так? – лихорадочно соображал Булгаков. – Ведь не почтою – дипломатическим курьером доставляются письма. Неужто его отлавливают и вскрывают пакеты? Да нет, не может того быть. Я каждый раз освидетельствую печати самым тщательным образом. Волос в печать заделан, снять ее нельзя, его не повредив. Все бывает цело… Смутить меня хотят, шантажируют. Не поддамся!»
И, стараясь казаться совершенно равнодушным, небрежно отвечал:
– Мы с князем в одном заведении наукам обучались, потому у нас общий интерес есть, давнее дружество то есть.
– А Крым? Понравился ли ей Крым? – продолжал допытываться везир.
Яков Иванович отвечал смело:
– Не мог не понравиться. Благословенный край.
– Нам известно, что ты там был. – Садразам всем, даже иностранным, министрам, говорил «ты».
– Был и того не скрываю. Остался доволен. Прекрасная земля.
– То-то что прекрасная. И эта прекрасная земля исстари принадлежала правоверным. Вы ее незаконно захватили, и мы не можем этого стерпеть.
– Позвольте, ваше высокопревосходительство, – вступился наконец дотоле молчавший Кочубей, – но вы выразили свое согласие в фермане, подписанном его султанским величеством.
– Повелитель правоверных отозвал свою подпись, – сухо ответствовал везир. – И мы требуем возврата Крыма его законным хозяевам – Гиреям, династия которых не угасла.
«Вот оно что, – подумал Булгаков, – наконец-то добрались до дела. Интересно, для формы сей разговор ведется, как прежде бывало, или на этот раз всерьез? С другой же стороны, было ведь только что немалое подмазывание, и оба в полной мере свою долю получили. Ежели бы для формы, тогда возобновили бы чрез месяцы, а тут еще, можно сказать, карман оттопыривается… Нет, за этим что-то стоит. Похоже, дело серьезно». И он как можно мягче произнес:
– Сей предмет, увы, не в нашей воле, а всецело зависит от высочайшей воли. Позвольте, ваше высокопревосходительство, снестись с ее величеством, дабы испросить державного решения.
– Мы много раз позволяли, но теперь наше терпение иссякло, – уже не скрывая раздражения, проговорил Коджа Юсуф-паша. – Долее позволять мы не намерены. Теперь правительство его султанского величества, выражая его волю, намерено предъявить вам ультиматум.
«Эко слово – ультиматум, – поежился Яков Иванович, – прямо татарское какое-то. Кабы удалось вывернуться, как в прошлые разы. Жестко говорит везир, выходит, мы потратились. Ах, жалость-то какая!»
– Извольте, ваше высокопревосходительство. – Тон Булгакова сделался робко-просительным, почти униженным. – Мы всепокорнейше доложим ее императорскому величеству сей ультиматум в самых решительных выражениях, в надежде получить незамедлительный ответ. Полагаю, он сможет удовлетворить его султанское величество и лично вас…
«Надо во что бы то ни стало протянуть время, – лихорадочно пронеслось у него в мозгу, – похоже, на этот раз не одни слова. За ними могут последовать действия. Ясно какие…»
Он помнил напутствия государыни и Потемкина и до этого дня действовал вполне в их духе. Казалось, все удавалось. Но, видно, коса нашла на камень.
Крым, однако, был главным, но далеко не единственным камнем. За ним следовали другие, впрочем известные по прежним требованиям. Тогда они были достаточно вялыми и в конце концов глохли.
Верховный везир был непреклонен. Он изложил семь главных требований. Россия должна отказаться от видов на Грузию и от покровительства царю Ираклию, не вмешиваться в грузинские дела и вывести оттуда свое войско. Выдать беглого господаря Маврокордато и сменить своего вице-консула в Яссах Селунского, способствовавшего его побегу. Передать Порте 39 солеварен на Кинбурнской косе. Принять ее консулов в Крыму и других местах. Разрешить безусловный досмотр купеческих судов, коим отныне воспрещается вывозить кофе, оливковое масло и рис. Наконец, установить минимальные пошлины на турецкие товары.
«Что он, сбрендил, что ли? – морщился Яков Иванович. – Было уж не единожды сказано, что молдавского господаря у нас нет, он подался не то во Францию, не то в Швецию – нам сие неведомо. Досмотр торговых судов есть мера, противоречащая всем международным установлениям… Ежели не вывозить кофий, оливковое масло и рис, то что же? Это будет ущерб прежде всего самим турецким торговцам. И отчего же такое послабление ихним товарам? Ясное дело: дошли до края, хотят войны, не иначе».
– Его султанское величество согласен ждать ответа из Петербурга месяц. Один месяц. И если этот ответ удовлетворит, то мы согласимся продлить мирный трактат. Если же нет, то… – везир многозначительно помедлил, – то пеняйте на себя.
– Хорошо, хорошо, ваше высокопревосходительство, – с торопливой покорностью выговорил Булгаков. «За месяц многое может измениться, – подумал он, – народ взбунтуется, непокорные бейлербеи поднимутся, страсти охладятся…»
– Один месяц, – повторил садразам, – всего месяц. Сегодня у нас по европейскому календарю 15 июля. 15 августа мы потребуем окончательного ответа.
Везир и рейс-эфенди поднялись, давая знак, что аудиенция окончена. Булгаков и Кочубей торопливо откланялись и, пятясь, удалились. Оба были мокрехоньки – потели не только от жары, но и от напряжения. Лошади их дожидались, но конвоир на этот раз был один.
– Как думаешь, Виктор Павлыч, серьезно это? – на всякий случай спросил Булгаков. Кочубей был человеком мыслительным и всему давал разумное объяснение.
– Полагаю, на сей раз серьезно. У них за спиною Франция, Англия, Голландия да Пруссия. Как не хорохориться?! Европа с нашим усилением стала нас более бояться, нежели турок. Ну и хотят чужими-то руками жар загрести.
– Государыня шествием своим сильно турка раздражила, – пробормотал Яков Иванович, – то была последняя капля в ихней чаше терпения.
– Совершенно верно. Опять же Ахтияр, Херсон и прочие города-крепости бельмом у них на глазу. Очаков свой, слышно, сильно укрепляют.
– Крым более всего досадил. Эдакая потеря! Мощный клин в теле России был. А ныне вышли мы на Черное море, утвердились, крепкий флот завели… Войны хотят, войны. И мы с тобой зря потратились, – еще раз пожалел Яков Иванович. Он был человеком бережливым, лишней копейки не истратит, а тут вон какой расход – и все напрасно.
– Поди знай, Яков Иваныч, как все дело-то обернется. Прежде мы им рты затыкали и ненасытность их ублаготворяли.
– Да, придется докладать ее величеству, – уныло повесил голову Булгаков. – Очень она уповала, что удастся нам уболтать турка. А он, вишь, взбеленился форменным образом.
Замолчали. Жара и нечистые испарения принудили их замолчать. Языки прилипли к гортани. Хотелось пить. Они выехали на площадь Ипподрома – турки назвали ее Атмейдан, с ее величественными памятниками византийского времени – обелиском Феодосия Великого из розового гранита, змеиной колонной, колонной Константина Порфирородного, наконец, колонной Константина Великого. Чуть поодаль виднелась громада Святой Софии с пристроенными к ней четырьмя минаретами. Новые властители еще при султане Ахмеде II сорвали с нее крест, заменив его полумесяцем…
Все еще не угасло славное христианское прошлое, все напоминало о нем, несмотря на турецкое обновление с великолепными мечетями, поднятыми Синапом[46]46
Синап (1489–1578/88) – турецкий архитектор и инженер. Возводил дворцы, мечети в Стамбуле и Эдирне.
[Закрыть] – выдающимся зодчим, а некогда греческим мальчиком из тех, что были отняты у родителей и обращены в ислам. Ехали по улице Диван-йолу, которая некогда называлась Меси-Средней, мимо форума Феодосия, справа от которого виднелся купол церкви Святой Ирины, свернули на Аксарай, некогда Триумфальную дорогу…
Разговор увял. Каждый думал о своем, быть может, и о далеком прошлом великого города, колыбели православия, с его поруганными святынями, будившими память.
Хотелось поскорей укрыться в тени, пусть это была бы тень корявых платанов во дворе их резиденции, платанов, напоминавших то молящихся, то проклинающих, с их бугристыми стволами, менявшими кожу. Кипарисы, мимо которых пролегал их путь, выглядели величественно, но почти не давали тени.
Однако их вожатый сипахи-конногвардеец ехал шагом, не подозревая о мучениях гяуров и, казалось, испытывая некое удовольствие от такой езды. Мальчишки, выскочившие из кривого проулка, выкрикивали бранные турецкие слова и метали в них камнями, но он и ухом не повел. И лишь когда один из камней угодил в круп его лошади, повернул голову и погрозил им пальцем.
Наконец-то они достигли цели, домоправитель после упорного стука открыл ворота, Булгаков и Кочубей свалились с лошадей, медлительный сипахи взял их под уздцы и наконец выехал прочь, провожаемый крепко посоленными русскими ругательствами.