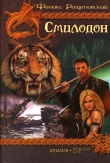Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
И снова окрест, сколько хватал глаз, лежала все еще зеленая, наполненная вешними соками степь. Неширокая, худо наезженная дорога вела к югу по примятым, измочаленным травам. Рощицы да одинокие курганы вставали по сторонам. Случалось, и хутор забелеет вдали под камышовой крышей, похожей на нахлобученную мохнатую шапку-кучму.
– Что за люди обосновались вдали от дорог? – поинтересовалась Екатерина. – Ты должен знать, князь.
Потемкин хмыкнул:
– Как не знать. То беглый народ. От лютости помещиков.
– Как это – беглый?! – вскинулась государыня. – Отчего же им дозволяют здесь селиться, а не возвращают господам?
– Оттого, что насельники тут надобны, – задиристо отвечал Потемкин. – Коли человек нашел в себе силы бежать за тридевять земель да обосноваться, пустить корни, завести хозяйство, стало быть, это человек стоящий и трогать его грех. Пусть обсеменяет сию землю, да пусть она приносит ему плоды. Он стал мирным землепашцем и тем искупил свои грехи. Господь таких благословляет.
– Странно ты рассуждаешь, князь, – не унималась Екатерина. – Есть законы, есть установления, указы о возвращении беглых хозяевам, ибо они есть их полная собственность. А коли все станут бежать? Ты по-прежнему будешь им покровительствовать?
– Все не станут, матушка-государыня, такого быть не может. Эвон быки покорно сносят свое ярмо и не дерзают его сбросить. А я вот что скажу: Господь всегда простирал свою длань над теми, кто спасался в пустыне. Эти тож спасаются, стало быть, они угодны Господу. Угодники они.
– Ты еще скажи – святые. Нет, князь, я велю Каховскому сыскать о каждом да, коли обнаружатся беглые холопы, заковав в железы, возвратить их.
– Тут и законные колонисты есть, матушка, – не сдавался Потемкин. – А потом, казне расход: сколь воинских команд надобно, чтобы водворять беглых-то по местам. Должен признаться: я Каховскому приказал не дознаваться да не трогать. Неужли повеление мое отменено будет?
Екатерина замялась. С одной стороны, Потемкину была дана полная власть в этих краях, и у нее и в мыслях не было как-то ограничивать ее, тем паче что он этой властью распоряжался во благо. С другой же – нарушение священных прав помещика, что она, первая помещица, допустить никак не могла.
Из затруднения ее вывел император.
– Мне кажется, мадам, что князь поступает благоразумно, – осторожно начал он. – Ваш интерес требует прежде всего, чтобы эти пустынные земли населяли люди предприимчивые и энергичные. А беглые именно таковы. И если они пустили здесь глубокие корни, следует оставить их в покое. Помещики ваши сами виноваты, что доводят своих холопов до такой крайности, когда им ничего не остается, кроме бегства. Собственность, разумеется, священна и неприкосновенна, но есть обстоятельства, которые оправдывают ее изъятие.
– О, золотые слова, ваше величество, – подхватил Потемкин. – Чрезвычайно признателен вам. Дело обстоит именно так.
– Ну, князь, ты нашел себе такого защитника, который принуждает меня уступить, – сдалась Екатерина. – Будь по-твоему: не стану мешаться.
Их разговор прервало появление Каховского со свитой. Он возник в окне кареты в нарушение этикета.
– Чего тебе, Василий? – ворчливо спросил Потемкин.
– Дозвольте обратиться к вашему императорскому величеству, – робея, отвечал Каховский, то ли закрасневшись, то ли покоричневевший от загара.
– Я готова выслушать вас, господин Каховский, – милостиво произнесла Екатерина. – Говорите же.
– Как мы приближаемся к урочищу Каланчак, то там ожидает явления вашего императорского величества генерал-поручик Иловайский с казачьим войском, дабы сопроводить вас далее. Испрашиваю на то вашего повеления.
Екатерина поморщилась. То была невольная гримаса – ей уже успели надоесть изъявления верноподданничества, кои все отличались однообразием. Однако выносливость и терпеливость были в ее характере: положение обязывало. Эти два качества отличали ее смолоду. Они позволили ей снести тиранство матери, затем взбалмошного супруга, немилость его тетки – императрицы Елизаветы и наконец вознестись на вершину власти. То тоже был подвиг выносливости и терпеливости: она ждала-ждала, терпела-терпела и дождалась.
– Что ж, дозволяю, генерал, – поправила она свою гримасу улыбкой, которая ей так удавалась. – Только уж пусть не стреляют.
– Повеление ваше будет исполнено.
– Что он хотел? – полюбопытствовал император.
– О, государь, сейчас нам будет представлено зрелище вроде предшествовавшего. С той только разницей, что это будет регулярное казачье войско под командою штатного генерала.
Император оживился:
– Наконец-то! Я давно хотел увидеть этих самых казаков. О них в Европе ходят легенды.
– Ну уж и легенды, – пробормотал князь. – Казак казаку рознь. На их верность не всегда можно положиться. Однако эти, здешние, сколь мне известно, надежны. Иловайский их вымуштровал. Будет конное представление, какое редко где видеть можно.
Казаки вылетели лавою, развернулись и почти мгновенно образовали строй, окружив экипажи императрицы и ее свиты. Подъехал генерал-поручик Иловайский, попросил дозволения представиться их величествам. После того как он был, как уж повелось, обласкан, Иловайский объявил, что будут показаны конные маневры и эволюции.
Князь приказал замедлить ход, а потом и вовсе остановил разросшийся обоз. Следовало ублаготворить императора Иосифа и показать ему казачье войско во всем его блеске.
И вот началось. Среди всадников были искусные вольтижеры. Они на всем скаку соскальзывали с крупа под брюхо коня и тотчас снова оказывались в седле.
– Браво, браво! – Император хлопал в ладоши, радуясь зрелищу, прежде невиданному. – Экие молодцы!
Представление продолжалось. Конники соскакивали на галопе и после короткой пробежки снова вскакивали в седло. Иные гарцевали стоя на крупе коня в одиночку и по двое.
– Это непостижимо! – совсем по-детски радовался Иосиф. – Я не мог себе представить такое молодечество.
Император был большим любителем и ценителем лошадей. У него была своя обширная конюшня, насчитывавшая несколько десятков голов.
– Что это за порода? – дивился он, глядя на рослых разномастных казачьих лошадей. – Я бы хотел приобрести несколько для моей конюшни. По-моему, они необычайно выносливы.
– У вас верный глаз, ваше величество, – отозвался Потемкин. – Эти лошади не только выносливы, они еще нетребовательны. Не чета европейским кавалерийским, которые изнежены и которым подавай только отборный овес.
Тем временем казаки демонстрировали рубку и метали копья. Иосиф пришел в полный восторг, когда несколько пар конников показали поединок на саблях. Это было картинно: несущиеся друг другу навстречу всадники с обнаженными саблями, звон клинков, блеск стали, сшибка, воинственные клики. И вот разлетелись как ни в чем не бывало.
Екатерина тоже была довольна. Более всего не зрелищем, а тем, как восторгается ее высокий гость.
– Ничего такого вы в Европах не увидите, – заверила она его. – Это войско есть только у нас.
Генерал Иловайский был награжден. Граф Безбородко вручил ему знаки ордена Святого Георгия, и шествие продолжилось, весьма умножившись.
Впереди лежала знаменитая Перекопская линия. И заутра Иосиф, сманив Сегюра, Кобенцля, де Линя и Фицгерберта, отправился обозревать ее. Государыня еще не просыпалась, утомленная дорогой и всем виденным. Таврида была за холмами. Она влажно дышала в лицо морским ветром, несшим запахи соли и рыбы. Впереди в лиловой дымке лежали горы.
Здесь все было другое, и этот контраст после однообразия плоской степи восхищал взор. В голубых зеркалах соленых озер лежали облака, издалека казалось, что их можно потрогать. Воздух был свеж и по-особому остер, словно его настояли на хвое с йодом.
Все почувствовали волчий аппетит. Они отъехали довольно далеко и остановились у располагавшегося при дороге домика смотрителя при соляных озерах. Оставалось ждать кортежа государыни.
Варщики, черные от солнца и от сажи, дивились на них, как на некое чудо: откуда в эту глухомань свалились чужеземцы. Они не знают ни русского, ни татарского. Правда, граф Сегюр пытался объясниться с помощью несложного набора известных ему слов. Но успеха это не принесло.
Наконец появился смотритель, можно сказать хозяин здешних мест, надворный советник Свербеев. Он знал немного по-немецки, и граф Кобенцль вступил с ним в переговоры. Смотритель всполошился, узнав, что вскоре сама государыня, ее императорское величество, изволит пожаловать сюда. Он послал своих рабочих за рыбой, скрылся в домике и через несколько минут явился перед ними в парадном мундире.
– Добро пожаловать, господа, добро пожаловать, – беспрестанно повторял он. – Сейчас сюда доставят знатных осетров, только что выловленных, и свежей икорки. А что, князь Потемкин с государыней? – осведомился он.
– Как же без него!
– Ох, батюшки, непременно учинит разнос: мало-де соли поставил в казну. Ведь соль-то – наше главное богатство, на нее, видишь, турок зарится. Он отсель ее возит по договору, а стонет – мало-де ему, мало. А мы более не можем.
Издали послышался смутный гул, который можно было бы принять за шум морского прибоя, если бы он не раздавался со стороны степи.
– Едут! – испуганно вскричал Свербеев и скрылся в своем домишке. Было понятно, что его более страшит встреча с князем, нежели с государыней, ибо князь был грозою чиновников.
В самом деле, вдалеке показалась голова обоза. Он медленно надвигался. И вскоре карета государыни поравнялась с ними. Дверца распахнулась, вылез нахохленный Потемкин, протянул руку, Екатерина оперлась на нее и легко соскочила на землю.
– Как приятно размять ноги после долгого сидения, – призналась она. – Господа, я смертельно голодна. Князь, сделай милость, зови моих поваров, иначе я помру.
– И мы тоже, – хором провозгласили министры во главе с императором. – Тут нам обещан свежий осетр с икрою.
– О, какая прелесть! – отозвалась Екатерина и скрылась в доме, куда предварительно взошли Потемкин с Мамоновым.
Помещеньице оказалось тесновато, но стол уже был накрыт, и за ним уместились обычные сотрапезники государыни. Взмыленный смотритель не знал, куда себя девать: он был пришиблен столь высокой честью.
– Ну, господин Свербеев, покамест наши повара готовят нам еду, рассказывай, каково ты тут хозяйничаешь, – обратилась к нему Екатерина.
– П-позвольте, ваше императорское величество, принесть образцы тринадцати сортов самосадочной соли, – дрожащим голосом вытолкнул смотритель.
– Тринадцать? – усомнилась государыня. – Экая прорва, к чему она?
– Таково соляные озера родят, а некоторые из варниц получаем. Кои с примесью железа, кои – йода, кои имеют фиалковый аромат.
Екатерина осталась довольна, и смотритель был награжден золотой памятной медалью с ее профилем.
Соль и в самом деле почиталась главным богатством Тавриды. А Таврида уже распростиралась за Гнилым морем – Сивашем.
Сквозь магический кристалл…
Ветвь пятнадцатая: апрель 1453 года
Итак, турки продолжали усиливать натиск. И напряжение в городе нарастало.
Генуэзская колония Пера, лежавшая на противоположном берегу Золотого Рога, формально объявила себя нейтральной. Но власти ее смотрели сквозь пальцы на действия своих купцов. А те под покровом ночи переправляли через залив товары, нужные осажденным. Сказать по правде, они наживались на этом.
Император Константин, испытывавший острый недостаток в деньгах, приказал изъять из храмов некоторое количество церковных сосудов из золота и серебра и перечеканить их в монету. Этой монетой и расплачивались с генуэзцами.
Но были в Пере и люди, которые тайно служили султану и снабжали его нужными сведениями о положении в городе. Были и другие, особенно среди моряков генуэзских кораблей, которые решили встать в строй защитников города. Они упрекали тех, кто знал о переброске турецких кораблей посуху, за то, что вовремя не оповестили осажденных. Тогда бы не было поражения, случившегося 28 апреля, когда туркам удалось потопить два судна греков.
А за стенами города нарастал конфликт между венецианцами и генуэзцами. Венецианцы обвиняли генуэзцев в том, что это из-за них были потоплены суда. Генуэзцы же в свою очередь нападали на венецианцев за то, что, как только возникает опасность, они отводят свои корабли подальше.
– Ничего подобного, – парировали венецианцы. – Более того, мы сняли со своих кораблей рули и паруса, дабы они не могли уходить от опасности, и снесли их на берег. Вы-то, генуэзцы, так не поступили.
– А у нас в Пере остались семьи, жены и дети, – возражали генуэзцы, – и мы не можем ослабить боевую мощь своих кораблей, так как, быть может, нам придется их защищать.
Ссора разгоралась. Император был в отчаянии. Его союзники могли просто разодраться. А это нанесло бы удар по силам защитников города.
Он призвал к себе глав обеих общин и воззвал к ним:
– Мы в жестокой осаде, война грозит нашим жизням. Не затевайте же войну между собой, не ослабляйте наши силы.
Император обратился к тем генуэзцам, кто был вхож в лагерь султана: нельзя ли откупиться от турок богатыми дарами, дабы султан снял осаду.
Султан оставался непреклонен: только безоговорочная капитуляция. В этом случае он-де гарантирует жителям сохранение жизни и имущества и свободный выход из города. А императору – выезд в Морею со всеми своими близкими и приближенными.
Согласиться было невозможно. Коварство султана вошло в поговорку, он был жесток и кровожаден. Позора капитуляции никто из защитников не мог снести.
Многие приближенные императора продолжали настаивать на его отъезде. Там, среди христиан, он сможет-де собрать мощные силы, нагрузить корабли амуницией и провиантом, посадить на них добровольцев, в которых наверняка не будет недостатка, и вернуться под стены великого города, чтобы разметать осаждавших турок.
– Нет, – отвечал император, – я не покину строй, дабы не допустить раздоров меж вами. И если нужно – умру, защищая Константинополь.
Глава пятнадцатая
Обольщения Тавриды
Есть средство помочь тому, чтобы военные таланты не пропадали при продолжительном мире. Посылайте местное дворянство… на службу к воинственным державам, во время войны… вы можете их отозвать. Вы извлечете из того две выгоды: одну – иметь хороших офицеров и опытных генералов, другую – иметь дисциплинированных людей…
Екатерина II
Голоса
…При Алма-Кермене встретила хорунга из лучших мурз, и полковник большой Горич с Таврическими конными дивизионами, составленными из вольновступивших в службу татар; тут отдав честь с преклонением знамен, хорунга и дивизионы разделились по обеим сторонам дороги и препровождали до самого въезда в Бахчисарай. Весь город ввечеру был иллюминован и по расположению строений на косогорах представлял виды приятные.
…По пути, по которому Ее Величество от Дворца к церкви шествовать изволила, стояли из благородных малолетние греки и албанцы, потом дети мурз татарских и напоследок мальчики и девочки вышедших из Молдавии и Валахии поселенцев, близ Бахчисарая живущих.
Из Журнала Высочайшего путешествия…
Разве позволительно злословить по поводу каких-то имен!.. Следовало ли назвать великого князя А. и великого князя К. Никодимом или Фаддеем? Ведь должны же они были получить по имени? Первый назван в честь патрона того города, где он родился; второй в честь святого, память которого празднуется несколько дней спустя после его рождения; все очень просто. Случайно имени эти звучны, но к чему злословить? Разве это моя вина? Я не отрицаю ничуть, что люблю благозвучные имена; последнее имя воспламенило даже воображение рифмоплетов… Я послала им сказать, чтобы они отправлялись пасти своих гусей, не занимались бы предсказаниями и оставили бы меня в мире, потому что, слава Богу, я держу теперь мир в руках… и не хочу, чтобы лепетали об идеях, которые не имеют никакого смысла.
Екатерина – Гримму
Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение сего края. И Херсон, и Таврида со временем не токмо окупятся, но надеяться можно, что ежели Петербург приносит восьмую часть дохода империи, то помянутые места превзойдут плодами… Кричали противу Крыма, пугали и отсоветовали осмотреть самолично. Сюда приехавши, ищу причины такового предубеждения безрассудного. Слыхала я, что Петр Великий долговременно находил подобные в рассуждении Петербурга, и я помню еще, что этот край никому не нравился. Воистину сей не в пример лутче, тем паче, что с сим приобретением исчезает страх от татар, которых Бахмут, Украйна и Елисаветград поныне еще помнят. С сими мыслями и с немалым утешением написав сие к вам, ложусь спать. Сегодня вижу своими глазами, что я не причинила вреда, а величайшую пользу своей империи.
Екатерина – Еропкину
– Держи! Держи! Охаживай! – надрывались наперебой кучера и Потемкин.
Тяжелая восьмиместная карета императрицы неслась под уклон. Восьмерка лошадей понесла, форейтор тщетно пытался сдержать их.
Из-под подков летели искры, грохот и треск покрывали крики. Столб пыли понесся над головой, сгущаясь с каждым мгновением.
– Мать вашу! – орал Потемкин, высунувшись из двери. – Мать-перемать! Гвардия, вперед! Скачи, черти, вставай поперек!
Остолбеневшие конники дали шпоры, вырвались вперед и телами своих коней заградили дорогу.
Потемкин выскочил и пошел вперед, не переставая браниться. Упряжные, все в мыле, все еще храпели. Форейтор был бледен как полотно. Кучера пали на колени и мелко крестились.
– Сообразили, мать вашу так! – продолжал яриться светлейший. – Кабы не я, опрокинули бы карету.
– Нехристи наперед нас заскакали, – оправдывался вахмистр.
– Тебе бы не на татар глядеть, а на карету ее величества. Твои люди – ее оборона. А ты – ворона!
Засмеялся нервным смехом, вернулся к карете, легко поднялся по ступенькам, спросил:
– Как ты, государыня-матушка? Чай, испужалась?
Помилуй, князь, я не из пугливых. Особливо коли ты рядом.
А вот наши господа что-то бледны стали. Мнится мне, мы у цели. Эвон сколь минаретов торчит.
В самом деле, карета стояла на спуске к Бахчисарайскому дворцу. Мало-помалу вся обслуга пришла в себя, и кортеж тронулся.
– Велю сменить запряжку, – сказал Потемкин. – Рысаков прочь, степенных взамен. Конь с норовом не для упряжи.
Оцепенение, сковавшее всех, разряжалось словоохотливостью. Говорили все разом, одновременно вертя шеями: обочь тянулись строения ханского дворца.
Думал ли кто-нибудь из них, что когда-либо окажется в самом логове тех, кто исстари наводил страх на русских людей, чьи набеги разоряли села и деревни, а то и города Руси, досягали и до Европы.
Резные деревянные ворота в проездной башне были распахнуты. Карета въехала на дворцовую площадь. Слева и справа шли крытые галереи, левая примыкала к мечети, увенчанной стройным минаретом, с которым соперничали кипарисы. Глаз тщетно искал главное дворцовое здание: казалось, все многочисленные постройки, окружавшие обширный двор, были равноправны, хотя все они разнились друг от друга высотою и убранством фасадов.
Все это было так не похоже на привычные дворцы европейских владык и все по-особому пленительно, что Екатерина захлопала в ладоши.
– Ай да князь! Вижу – все подновил…
– И все велел сохранить во всей первозданности, – подхватил князь.
– Пошли глядеть, – позвала Екатерина спутников.
Постройки были легки, воздушны. За аркадою открывался дворик с фонтаном, весь в благоухании розовых кустов. Цветущие деревья и кусты, казалось, вместе с фонтанами составляли главное убранство дворца.
Всюду царила отрадная прохлада, и все помещения, в которые они входили, были наполнены благоуханием роз: и опустевший гарем, и ханская опочивальня, и приемная зала… Роза была царицею на кладбище с двумя мавзолеями и рядами каменных надгробий.
Неожиданно над дворцом и его садами полетел с одного из минаретов гортанный призыв к молитве:
– Алла иль иллах Мухаммед расуль Алла!
Екатерина и ее спутники остановились, вслушиваясь. Призыв повторился и не раз, и не два.
– Князь, прошу тебя: озаботься приискать человека знающего, который бы все нам тут растолковал. О чем, к примеру, он кричит и как прозывается?
– Прозывается он муэдзин, – отвечал Потемкин, бывший в Бахчисарае прежде, – а крик его означает: нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Я, матушка, дозволил им отправлять тут все службы, как было при хане, и вообще велел все соблюсти строжайшим образом.
– Что ж, пожалуй, ты поступил разумно. Народный обычай свят, каков бы он ни был. Я хотела бы, однако, знать обо всем поболее, хотя средь моих подданных и прежде были татары. Но тут, полагаю, все по-иному.
– Есть, есть тут некий имам, знаток всех обычаев мусульманских, который вдобавок изъясняется нехудо по-русски. Он и меня водил и все мне растолковывал. Я велю его тотчас призвать.
– Имам, это кто по-ихнему?
– Навроде богослова, – пояснил Потемкин, – или как наш соборный настоятель. Главный над муллами, то бишь простыми попами.
После обеда был призван имам по имени Юсуф, Иосиф по-нашему, одним словом, тезка императора. Это был старец, весь в пушистой седой бороде, достигавшей почти до пояса, с морщинистым лицом, на котором светились острые маленькие глазки. Он глядел без робости, степенно поклонился и спокойно переводил глаза с одного лица на другое. Его русский язык был далек от совершенства, но понять можно было.
– Первый камень дворца был заложен… – он загнул три пальца, – три века тому назад при почтеннейшем хане Сахиб-Гирее, сыне могущественного Менгли-Гирея, да будет благословенна его память, которого почитали и боялись многие. Бахчисарай означает по-нашему «дворец-сад». Так оно и есть: кроме розовых кустов тут насажены виноградные лозы и деревья, приносящие разнообразные плоды. И все тут созидалось для ублаготворения всех чувств и всех нужд царствовавших владык, что вы изволите видеть: и разнообразные покои, и конюшни, и гарем, и, наконец, место вечного упокоения – кладбище. Строительство велось и при последнем хане, да призовет его Аллах в сады праведников…
– Как? – удивилась Екатерина. – Разве он умер? Ведь я милостиво отпустила его к единоверцам.
– Он с малочисленной свитой перебрался на остров Родос, во владения султана. И там его настиг гнев повелителя правоверных.
– За что же султан прогневался на него? – недоумевала государыня.
– За то, что оказался малодушным и уступил свою власть неверным, – нимало не робея отвечал имам. – Шахин-Гирей предал свою веру и свой народ. И понес заслуженное наказание: великий султан приказал отрубить ему голову.
– Свят, свят, – пробормотала Екатерина и закрестилась. – Тут нет моей вины, он сам полез на рожон.
– И моей вины нет, – пробубнил Потемкин. – Все ему было дадено, слуги и девки, сколь хотел, опять же кони и ружье всякое. И веру свою отправлять мог…
– Как волка ни корми, он все в лес смотрит, – прокомментировала Екатерина. – Шахин-Гирей тот же волк был – вольный зверь. А воли, что бы ты, князь, ни говорил, ему не было. Все окрест было чужое. Ах, как я его понимаю!
– Отчего же сразу не отпустила на волю, коли понимала? – с необычной безапелляционностью спросил Потемкин. – И казне урону не было бы.
– Да он и не просился. Однако вспомни-ка, князь, ведь это ты настаивал на том, чтобы поместить его сначала в Воронеж, а затем в Калугу, притом под строгий надзор. Мне его жаль.
– А мне нет! – отрубил Потемкин. – Сам напросился на смерть, никто его не гнал. Мог бы догадаться, что султан его не помилует.
Облачко грусти затуманило лицо Екатерины. Ей вспомнился Шахин-Гирей в пору его петербургского сидения. Он был хорош собою, покладист и деликатен, а потому пользовался всеобщей симпатией. Он охотно шел навстречу желаниям императрицы и ее министров. Однако как правитель он был слишком мягок. «Воск, – говорил Потемкин, – все, что хошь, из него вылеплю». Что ж, в ту пору он был слишком молод и неопытен в делах правления. Неудивительно, что ему то и дело приходилось спасаться бегством от более удачливых и заматерелых претендентов на ханский престол и дворец в Бахчисарае. И в 1783 году, когда Потемкин предложил ему подписать отречение от престола, он охотно согласился. Ему в ту пору едва исполнилось двадцать восемь лет, он устал от передряг, от бунтов его подданных, от интриг мулл и происков Порты. А Потемкин сулил ему спокойную жизнь в Херсоне в окружении сторонников, с гаремом и неограниченным числом слуг, с обширной конюшней и двумястами тысячами рублей ежегодной субсидии, притом с дальнейшими видами на Персидское ханство.
Как тут было не согласиться? Он согласился, да. Но зов крови оказался сильней, да и не было веры посулам князя и его чиновников. И он бежал в Тамань, намереваясь оттуда отплыть в Турцию… Беглец Шахин-Гирей был никудышный, и его быстро настигли и водворили в золотую клетку…
– Сколь ему было? Ты должен знать, князь.
– Тридцать два годочка, матушка. Упокой Аллах его душеньку.
– Глядишь, она сюда явится и станет тут витать, – суеверно произнесла Екатерина.
– Его отчий дом в Адрианополе, – отмахнулся Потемкин, – стало быть, и дух его там обитать будет. А отсюда его столь много раз изгоняли, что он и не захочет сюда воротиться.
Императора занимала судьба последнего крымского хана, и он вступил в разговор.
– Скажите, князь, этот Шахин-Гирей охотно подписал отречение? И что было бы, если он не пожелал бы подписывать?
Князь хмыкнул:
– к тому времени игра была проиграна, и он это понимал. У него не было власти, не было и выхода, мы уже были полновластными хозяевами в Тавриде. Султан, правда, пытался его подбодрить: прислал ему освященный ятаган, чалму и еще что-то, не помню. Мол, ты наш и мы тебе покровительствуем. Но уж было поздно.
– А велик ли был его гарем? – неожиданно поинтересовался Сегюр.
– О, это вопрос истинного француза, – засмеялся Потемкин. – Да нет, граф, всего-то восемнадцать дев при единственной жене. Многие из них постарались улизнуть, когда Шахин-Гирей был водворен в Калуге. Это вам не султанский гарем, откуда не улизнешь: он, сказывают, за тремя воротами и охраняется стражей и свирепыми евнухами.
– На самом ли деле в султанском гареме более трехсот наложниц?
– Не считал, но с удовольствием занялся бы, – хохотнул Потемкин. – Слух такой идет. Да нынешний султан стар и немощен, вряд ли он пользуется сим богатством. Эх, меня бы туда допустили!
– У тебя, князь, и здесь недостатка нет в полюбовницах-то, – поджав губы, заметила Екатерина. – Ты у нас эвон какой кавалерственный.
– Не в осуждение ли, матушка? – с некоторым беспокойством осведомился Потемкин.
– Кто тебя осудит… Не подумай только, что ревную, помилуй Бог. Натуру должно ублаготворять, – закончила она ехидно.
Утро застало государыню за письменным столом – за любимым ее занятием. Она сочиняла очередное письмо своему парижскому конфиденту барону Гримму.
«Это было превосходное зрелище, – писала она, – окруженные татарами со всех сторон, в открытой телеге, где поместилось 8 персон, мы въехали в Бахчисарай. И вошли прямо в ханский дворец; там мы поместились между мечетями и минаретами, где возглашают, призывают на молитву, поют, вертятся на одной ноге 5 раз каждые 24 часа. Мы все это слышим… О! Какое странное событие – наше пребывание здесь! Кто? И где?»
О том, что кони понесли и карста едва не опрокинулась, она не упомянула. И наказала Храповицкому не заносить сего происшествия на страницу Журнала Высочайшего путешествия, дабы не было перетолковано в ненадлежащем свете в супротивных газетах. Таковой запрет был наложен ею и тогда, когда галера «Днепр» по вине рулевого ткнулась в берег и завязла в глине, откуда ее пришлось долго вызволять.
– К чему давать пищу пустым пересудам, – говорила она. – Скажут еще, что рок меня преследует, хотя всем очевидно, что я родилась в рубашке. Господь мне покровительствует во всех моих делах.
Необыкновенная приятность была разлита в воздухе Бахчисарая и его окрестностей. Щедрая крымская весна праздновала свой апогей. Сумерки были лиловы и таинственны. Бахчисарай погружался в сон. И лишь хоры соловьев славили праздник весны и обновления. То было какое-то соловьиное царство, которому принадлежал дворец с его садами и фонтанами, каменные кручи, нависшие над ним, с их цепкими, взбирающимися вверх деревцами и кустами.
Все это вдохновило государыню, вызвало у нее пиитический жар. Она сочинила:
Днесь шумят потоки, тихи ветры веют.
И ключи из горок воду бьют;
Прешироки реки вод плескать не смеют,
А струи вод свежих в поле льют.
Сладко напояя землю растворенну,
Естество прекрасно обновят,
Обольщенны очи, зрящи на вселенну.
Нежны чувства там увеселят…
Я куда ни погляжу.
Там утехи нахожу;
Там поют соловьи,
Множа радости мои…
Потемкин, Безбородко, Храповицкий и Мамонов весьма одобрили. Иосиф с иностранными министрами хоть и не могли оценить, но тоже рукоплескали вместе со всеми. Екатерина обещала Сегюру сочинить и французские вирши.
– Ведь я кое-чему выучилась у вас, граф. Прежде я полагала, что настолько тупа, что не могу сочинить и двух рифмованных строк. Но упорство все превозмогает. Я много трудилась, дабы победить в себе этот недостаток. Мне следовало его превозмочь: мои драматические опыты часто требуют рифмы.
– Я слышал, что вы издаете литературный журнал? – полюбопытствовал Иосиф.
– Да, это мои досуги. И перекорство с другими журналами – их в Петербурге весьма немало, и я к сему явлению отношусь поощрительно.
– А как называется ваш журнал? – не унимался Иосиф.
– «Всякая всячина»… – Екатерина прищелкнула пальцами, ища равнозначный перевод, но затем призналась: – Не могу отыскать в памяти ни французского, ни немецкого значения. Это нечто вроде разной мелочи.
Поэтический жар продолжал донимать государыню и в следующие дни. Утром она преподнесла Потемкину листок с четверостишием, ему посвященным:
Лежала я вечор в беседке ханской
В средине бусурман и веру мусульманской.
О, Божьи чудеса! из предков кто моих
Спокоен почивал от орд и ханов их?
– Ну, государыня-матушка! – восхитился Потемкин. – Ты себя превзошла. Воистину выразила то, что всем нам сходно и все мы, Божьи дети, чувствуем. Именно: никто из предков не бывал спокоен от орд и ханов их! Потщиться бы перевесть на французский сии вирши.
– Что ж, буду пытаться, – с довольной улыбкой отвечала Екатерина, – Однако мне французское стихоплетение трудно дается. Вот у графа Сегюра это очень хорошо выходит. Он прямо-таки заправский стихотворец. И с такой легкостью истекают у него из-под пера, равно из уст, рифмы, особливо когда затеваем игру в буриме. Тут он прямо король.
– У него легкое перо, – подтвердил Потемкин, – Неудивительно: французов отличает легкость во всем, легкий они народ. И в политике тоже. Иначе бы туркам столь усильно не потворствовали.