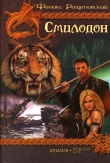Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Мамонов молод и хорош собою. Все это довольно скоро минует. А с ним минует и его фавор. Иосифу отчего-то захотелось разговорить Мамонова, узнать, что он думает о своем положении. Но это было невозможно: он был приклеен к императрице, возникал вместе с нею, с нею и исчезал. Он был лишен права на самостоятельность, ибо был игрушкой Екатерины, ее вещью, прихотью. И наверняка такое положение тяготило его, не могло не тяготить. Тем более что он был в некотором роде незауряден. Должно быть, он выжидал своего часа, еще как следует не представляя, каким он должен быть.
Если бы граф Фалькенштейн, он ж император Иосиф II, знал, что творится на душе у Мамонова, Дмитриева-Мамонова, Александра Матвеевича, отпрыска не очень древнего дворянского рода, девятого и предпоследнего официального фаворита императрицы (сколько их было на самом деле, доподлинно неизвестно), то он был бы по меньшей мере заинтригован.
На душе у Мамонова было достаточно мутно. Тщеславие его было уже давно удовлетворено: он якобы владел первой женщиной империи, а то и всей Европы, делил с нею ложе. Но был для нее нечто вроде матраса, пуховика… И он стал все явственней замечать то, что прежде не замечал: дряблое тело своей возлюбленной, отвислый подбородок, а лучше сказать, два подбородка, морщины, дурной запах изо рта… Словом, все, что государыне удавалось скрыть от своего окружения искусным манипулированием мазями и притираниями, омовениями и массажем.
Он словно бы сидел в театре на одном и том же спектакле. И ему мало-помалу открывалась закулисная механика искусства старой женщины. Женщины, которая не желает стариться, несмотря ни на что. Ведь она уже была бабушкой.
Справедливости ради надо сказать, что Екатерина не пыталась скрыть свой истинный возраст. Но благодаря легкости характера и природной веселости она и выглядела моложе своих пятидесяти восьми лет.
Но ему-то, ему приходилось все трудней и трудней маскировать свои открытия. Как он ни старался подавить их, они возникали непроизвольно. Ему то и дело приходилось актерствовать. Изображать страсть и желание, хотя не было ни того ни другого. Но и актерство стало даваться все с большим трудом. Покамест еще давалось, слава Господу, сил!
Он с замиранием сердца думал о том, что будет дальше. Когда он не сможет более притворяться, как по-человечески ни прекрасна его любовница. И стал исподволь, ловя благоприятные миги, выколачивать из государыни блага. Он получил генеральский чин, поместья, кавалерии. И наконец, вожделенный графский титул.
Это было воздаяние за годы унизительного заточения. А заточение было тяжким. Однажды наследник Павел в ответ на его любезность, кстати от имени императрицы, захотел отдарить его инкрустированной золотой табакеркой. Но государыня разрешила ему пойти за подарком только в сопровождении верной Марьи Саввишны. Цесаревич обиделся (!) и отказался принять его на таких условиях.
Раз Мамонова угораздило принять приглашение графа Сегюра, устраивавшего званый обед. Государыня было решительно воспротивилась, но потом разрешила. Но ее карета демонстративно дефилировала перед окнами посольства до того момента, когда Мамонов наконец понял, что пора немедленно возвращаться.
Золотая клетка… До поры до времени Мамонов дорожил ею. Вот и сейчас ему показалось, что молодой граф Кочубей зарится на нее. Он был пригож, весьма пригож и наделен прекрасными манерами. В Киеве, на одном из балов, государыня отличила его, и Мамонову показалось, что вот-вот ему прикажут освободить место.
Он пустил в ход все свое дипломатическое искусство, все обаяние, пока что действовавшее на государыню. И добился своего: Кочубей получил назначение в российское посольство в Константинополе. Это было представлено как отличие – служба в логове главного врага.
«Надобно держаться, – думал он, готовясь сжать в объятиях свою великую любовницу. – Держаться во что бы то ни стало: еще не все взято, не все получено».
Он оглядывался назад. Ланской, Зорич, Завадовский, Васильчиков, Корсаков, не говоря уж о его благодетеле Потемкине, получили куда больше, нежели он. Счет вели его тайные доброжелатели, они же намеками давали ему понять, что он еще многого может добиться: государыня щедро расплачивалась даже с отставленными фаворитами.
Еще благо, что желание государыни заметно поумерилось. Зеркало, разделявшее их ложа, подымалось все реже и реже: его повелительница изрядно уставала за день, полный движений и впечатлений, и у нее уже недоставало сил на любовные утехи. Похоже, одно присутствие Мамонова за зеркалом и сознание, что в любой момент она может потребовать его к себе, удовлетворяли ее сполна.
Прежде она управляла разделительным зеркалом для того только, чтобы взглянуть на него и пожелать ему покойной ночи. Последнее же время и этого не было. А зеркало повиновалось только ей – так было устроено.
Что ж, он ничуть не сетовал. Внешне ведь ничего не изменилось. Государыня все так же была к нему внимательна, все так же на людях опиралась на его руку. Он продолжал быть при ней, где бы она ни находилась. И слава Богу!
Но глаза его поневоле скашивались. Особенно тогда, когда в поле зрения появлялись юные фрейлины – одна другой краше. Ему особенно приглянулась княжна Щербатова семнадцати лет от роду, во всем ярком цветении своего девичества. Ему несколько раз посчастливилось обменяться с нею красноречивыми взглядами, и он уловил нечто вроде ответных токов.
В этом девичнике государыни время от времени пасся князь Потемкин, и Мамонов всерьез опасался его мужской победительности. Но посягнет ли он на невинность? В том, что княжна Щербатова до сей поры, как это ни было трудно, сохранила девство, он почему-то не сомневался.
У нее были кроткие глаза, глаза газели. И вся она изяществом походки, всею своею тонкостью и легкостью напоминала ему газель. Вероятно, думал он, ее хранит родовитость, ограждающая пуще любой мегеры. Ведь она – завидная невеста. За нею – тысячи душ крепостных. Статочное ли дело обратить ее в метрески, в полюбовницы, которую можно бросить, как только она наскучит.
Он еще примеривался к Щербатовой. Пока что только мысленно. Хорошо бы, конечно, обменяться с нею записками. Но это представлялось ему опасным. А ну как она в простоте душевной представит его записку государыне…
Он не знал ни ее намерений, ни характера. А вдруг у нее уже есть жених, что было бы вполне естественно. Ах ты батюшки, до чего он беспомощен в своих желаниях, как связаны руки! Одно слово – золотая клетка. Его повелительница косится, когда он осмеливается заговорить с мужчиной из ее окружения. А уж что касается женщины – об этом нечего и думать.
Меж тем думы о Щербатовой становились все навязчивей. И он жадно впивался в нее глазами при редких встречах. Она потупляла свои глаза, но и в этом невинном движении он улавливал благосклонность. Ему так хотелось.
Он был как бы меж молотом и наковальней. Его повелительница, казалось ему, более не испытывала в нем нужды: в Херсоне зеркало не поднялось ни разу. Он терялся в догадках, что было тому причиной, летние ли жары, либо утомленность государыни после дневных трудов. А может, странно сказать, опала?!
На третий день он осмелился: легонько постучал в зеркало. За ним не слышалось никакого отзыва. Он постучал еще и еще. Казалось, его не слышат. Он выждал некоторое время, а затем возобновил свои попытки.
Наконец зеркало чуть приподнялось и послышался сонный голос государыни:
– Ну? Чего тебе?
Он опешил. В самом деле, чего ему? Когда у его повелительницы просыпалось желание, она тут же требовала его к себе. И сама распоряжалась им, как хотела. Он только повиновался ее командам.
– Я… Ваше величество… Не угодно ли будет… – растерянно бормотал он.
– Ладно… Иди уж, – все тем же сонным голосом отозвалась государыня. И когда он, уже возбужденный, подкатился к ней и она почувствовала прикосновение его горячей руки, осторожно легшей ей на лоно, голос ее приобрел обычную ясность:
– Только постепенно. Не торопись. Дай-ка я сначала тебя освидетельствую.
И, уже задохнувшись, поторопила:
– Иди же, иди!
Сквозь магический кристалл…
Ветвь тринадцатая: апрель 1453 года
Итак, четыре корабля генуэзцев с воинами и припасами прорвались в Золотой Рог, вызвав ликование осажденных.
Султан пришел в бешенство. Он приказал обезглавить Балтоглу. Если бы не капитаны его судов, засвидетельствовавшие храбрость адмирала, то он был бы казнен. Султан смилостивился: приказал побить его палками и лишить всех постов и имущества.
Между тем тысячи турок были заняты прокладкой дороги. Она вела от Босфора через высокую граду к Долине Источников, расположенной на самом берегу Золотого Рога.
Поначалу осажденные не обращали особого внимания на эти усилия турок. Их замысел до поры до времени оставался тайной. Оставался он тайной и для жителей генуэзской колонии Пера, располагавшейся на противоположном берету Золотого Рога и формально объявившей о своем нейтралитете. На самом же деле генуэзцы под покровом ночи старались помочь своим единоверцам чем могли.
Дорога тем временем подвигалась все ближе и ближе к заливу. И когда она совсем приблизилась, стал ясен дьявольский план султана. Он приказал изготовить огромные повозки, водрузить на них суда и перетащить их в Золотой Рог.
Когда в городе поняли замысел турок, было уже поздно: турецкие корабли проникли в залив. И предотвратить эту беду не было никакой возможности.
Моряки христианских судов, стоявших на якоре в заливе, обомлели, заслышав бой барабанов и звуки флейт и увидев, как одно за другим движутся посуху турецкие корабли, влекомые упряжками быков. За этой фантастической картиной с трепетом следили осажденные со стен. Паруса были подняты, гребцы мерно двигали веслами по воздуху, словно они уже были в морской стихии.
Защитниками города овладел приступ отчаяния. Если до этого дня все их усилия были сосредоточены на обороне сухопутных стен города, которые методично разрушались осадными пушками турок, то теперь следовало отрядить значительные силы для защиты стен со стороны залива. К тому же султан приказал установить тяжелые пушки в Долине Источников, намереваясь обстреливать суда христиан.
Опасность становилась грозной. И защитники города ломали голову, как бы обезвредить турецкий флот. Выход предложил капитан галеры, венецианец Джакомо Кола. Он вызвался стать во главе экспедиции, которая бы скрытно, ночью, подошла к турецким кораблям и подожгла их с помощью нефти и смолы. Эту операцию решено было осуществить втайне от генуэзцев Перы, где, как было известно, находилось немало турецких осведомителей.
Однако суда венецианцев не были подготовлены, и операция все откладывалась и откладывалась. Эта отсрочка оказалась роковой: турецкие агенты пронюхали о ней и сообщили туркам. И те были готовы.
В субботний день, незадолго до рассвета, два больших корабля, борта которых были обложены тюками с шерстью для защиты от ядер, и множество гребных судов поменьше с горючими материалами в полной тишине поплыли к турецкому флоту.
В это время на сторожевой башне Перы вспыхнул яркий огонь. И когда корабли христиан приблизились к турецким, прогремел пушечный залп. За ним еще и еще. Галера отважного венецианца пошла ко дну, сам он погиб.
Полтора часа длился бой. Христиане потеряли два корабля, турки – один. Погибло около ста венецианцев и генуэзцев.
Глава тринадцатая
Парижские тайны
Часто задерживают у многих людей платежи: это делают чиновники, заведующие платежами, чтобы заинтересованные подносили им подарки. Для искоренения этого следовало бы поместить в указе число того дня, в который должны производиться платежи, а на случай препятствий со стороны чиновников следовало бы наложить на них пени и удваивать пеню за каждый лишний день…
Екатерина II
Голоса
Туркам и французам вздумалось разбудить спящего кота… и вот кошка будет гоняться за мышами, и вы вскоре что-то увидите, и о нас заговорят, и никто не ожидает звона, который мы поднимем, и турки будут побиты, и с французами будут всюду поступать, как с ними поступили корсиканцы…
Екатерина – Чернышову
Французы теперь увлекаются мною, словно бы новой прической с пером; однако подождем немного – это скоро у них пройдет, как всякая другая мода… Русские дамы, как видно, весьма польщены вниманием и почестями, которые им оказывают в Версале; их мне испортят, и когда они возвратятся, то станут дамами с претензиями… любопытно, что мода приходит с Севера, и еще любопытней, что Север, и в особенности Россия, теперь в почете в Париже. Как! И это после того, что о нем думали, говорили и писали дурного!.. По крайней мере, следует признать, что все это никак не отличается последовательностью…
Екатерина – барону Гримму
Английские подданные находятся под защитой своих консулов… а французы брошены на произвол судьбы и несправедливости и не имеют никакой защиты.
…Большинство из них ювелиры или владельцы модных магазинов. Первые продают русским вельможам довольно бойко свои изделия, но те оставляют изделия у себя, а сами просят зайти на следующий день. Ювелир приходит, но лакеи отвечают ему, что барина нет дома. И лишь после бесконечных хождений ему высылают часть денег, но если он француз и своими просьбами об уплате надоест вельможе, тот велит сказать ему, что прикажет дать полсотни палок… Купец-де должен быть доволен тем, что ему удалось получить… А вообще русское дворянство не отличается добропорядочностью… Даже офицеры, вплоть до полковников, не считают бесчестным вытащить у вас из кармана золотую табакерку или ваши часы… Поэтому следует останавливать французов, которые вознамерились отправиться в Россию, чтобы открыть там какое-либо дело.
Лонпре, полицейский инспектор, – маркизу де Верженну
Я вижу, что переговоры с курфюрстом баварским не подвигаются вперед из-за его нерешительности, которой, похоже, как фамильной болезнью, страдает весь пфальцграфский дом: иные из них не отваживаются написать простого вежливого письма, не посоветовавшись с доброй половиной Европы. Эти предосторожности, думается мне, вызваны теми, кто… посылает в Константинополь инженеров, инструкторов, мастеров, кто мешает судам Вашего Императорского Величества выйти в море, кто советует туркам держать большую армию невдалеке от Софии и кто выбивается из сил, чтобы исподтишка вооружать против нас наших врагов…
Екатерина – Иосифу II
– Вам повезло, молодой человек. – У посла был скрипучий голос и седые баки, выбивавшиеся из-под небрежно надетого парика. – Как раз сегодня его величество король делает смотр своей гвардии, и я по долгу службы должен отправиться туда и присутствовать на нем. С чем вы прибыли?
– Его сиятельство граф Александр Андреевич Безбородко доверил мне подарки министрам королевского двора.
И подпрапорщик Измайловского полка Евграф Комаровский стал перечислять, что кому предназначено: министру иностранных дел графу Монморену – перстень с огромным солитером, наследникам предшественника графа, только что скончавшегося графа Вережена, – собрание золотых российских медалей, военному министру графу Сегюру – собольи меха и фельдмаршалу маркизу де Кастри – перстень с солитером.
– А мне?
– Вам пакет его сиятельства.
Лицо Ивана Матвеевича Симолина, министра со всеми полномочиями ее императорского величества при дворе его королевского величества Людовика XVI, выразило откровенное разочарование.
– И более ничего?
Юный подпрапорщик развел руками.
– Его сиятельство уполномочил меня выразить вам его благодарность за усилия по заключению торгового трактата между обеими державами. Полагаю, в сем пакете она выражена на письме.
Симолин вскрыл пакет и впился глазами, которые он предварительно вооружил очками, в плотные листы бумаги с вензелем Екатерины.
– Так-так! Очень хорошо. Не помедлю с ответом. Откуда вы посланы?
– Из Киева, ваше высокопревосходительство. Был при свите ее императорского величества, свершающей шествие в южные пределы империи. Пришлось долго пробыть в дороге из-за путевых неурядиц. Сами знаете – грязь беспросветная, колеса вязнут по ступицу…
– Не знаю, не знаю, ибо в России давненько не довелось быть, – прошамкал Симолин, – все в службе дипломатической, без отлучки несу сию тягость.
С этими словами он позвонил. На зов явился камердинер.
– Хочу представить этого молодого человека нашему персоналу. Да позови Алексея Григорьевича, он небось в бильярдной.
– Советник Петр Алексеев сын Обрезков.
– Первый секретарь Василий Николаев сын Мошков.
– Второй секретарь Егор Петров сын Павлов, – чинно представлялись ему.
Последним не вошел, а вкатился плотный молодой человек с нездоровой желтизной на лице, сунул ему руку и скороговоркой произнес:
– Желаю здравствовать. Граф Алексей Григорьевич Бобринский, нахожусь под надзором его высокопревосходительства, так сказать, вне штата. Как? Евграф? Ха-ха-ха! Евграф будешь граф. Бог шельму метит.
Курьер с любопытством воззрился на графа, тотчас перешедшего с ним на «ты». О нем много толковали в свете. Это был сын государыни и ее первого фаворита (первого ли?), графа Григория Григорьевича Орлова, одного из пяти братьев Орловых, подсаживавших Екатерину на престол. Государыня удалила его подалее от глаз: он был беспутный малый, не делавший ей чести.
Тогда, двадцать пять лет назад, в пору самого угара их любви, когда Орловы казались ей самой надежной опорой трона, Григорий, пользуясь своей властью, настоял на том, чтобы она рожала. Так полагал он привязать ее к себе навсегда и, чего не бывает, самому стать императором всероссийским.
Но вскоре молодая государыня отрезвела. Орлов был добрый малый, не более того, прекрасный любовник, но в супруги ни по какой статье выйти не мог. Ей удалось бескровно освободиться от него, лучше сказать – откупиться. Он погоревал-погоревал и помер. А чадо, свидетель ее греха, живой и невредимый, достиг двадцати пяти годов.
Изначально он носил фамилию Шкурин и воспитывался в семье верного камердинера Екатерины Василия Григорьевича Шкурина. Но со смертью Орлова императрица решила дать ему другую фамилию. Так появился на свет Божий новый дворянский род Бобринских, ведших свою родословную с 1762 года. Основателю этого рода были щедро жалованы поместья в Курской, Воронежской и других губерниях, дабы он ни в чем не нуждался. Разумеется, происхождение его было тайной за семью печатями, и сам он только смутно о нем догадывался, ибо посвященных было раз, два и обчелся.
В Париже Александр Бобринский, не знавший счет деньгам, вел жизнь беспутную. Дни проводил за карточным столом, вечера и ночи – в кутежах и оргиях. Для сего матушка наградила его темпераментом зажигательным и буйным. Посол его усовещивал, но без результата. Он продолжал кутить и делать долги.
Посол торопил Комаровского: надлежало ехать на королевский смотр. Была заложена парадная карета, в нее многие набились, в том числе и Александр Григорьевич Бобринский.
Равнина Саблон находилась в трех верстах от Парижа. Когда они подъехали, скопление экипажей уже было довольно плотным. Так что в самом выгодном положении оказались те дворяне, которые сопровождали их верхами. Как, например, Александр Петрович Ермолов, недавний фаворит императрицы, тоже ведший рассеянную жизнь в Париже. Ему с высоты был превосходно виден весь плац с застывшими на нем гвардейскими полками.
На свою беду Ермолову, отличавшемуся щегольством, вздумалось надеть российский мундир инженерных войск – красный с серебром. Каков же был его конфуз, когда он увидел, что гвардейский строй был облачен… Да-да, в красные мундиры с серебряным позументом!
Меж тем он поторопился выехать поближе к строю и дал шпоры своему коню. Конь заплясал под ним и вырвался вперед.
Афронт был полный! Ермолова приняли было за командующего полками графа д’Артуа. Но все быстро разъяснилось, и незадачливый щеголь был вынужден ретироваться.
Его восхождение в спальню государыни было в значительной степени случайным: он приглянулся главной поставщице любовников для царицыной опочивальни графине Прасковье Александровне Брюс, «пробирной палатке» государыни. Ей показалось, что он, блестящий гвардейский офицер, послужит достойной заменой в Бозе усопшему Ланскому, после кончины коего императрица была безутешна.
Мужская стать Ермолова тоже была оценена графиней. Но, увы, он оказался без блеску, мужик мужиком, без должного обхождения.
– Оплошала, матушка, – казнилась графиня, – и на старуху бывает проруха. В постели-то он может…
Ермолов пробыл в случае менее года. Разумеется, за столь короткий срок, покамест искали достойную замену, он не преуспел в награждении: ему досталось менее всех его предшественников. И все же весьма и весьма немало: всего имущества на 550 000 рублей. Вот он и прожигал их в Париже, ибо, в отличие от своего младшего прославившегося братца, никакими достоинствами не обладал. Что касается стати, то она есть и у жеребца – так говаривала Екатерина. После Ланского он показался несносен. Оттого государыня довольно быстро согласилась заменить его Мамоновым: этот был умен, изящен, манерен, то бишь полностью светский человек.
Посему и Иван Матвеевич Симолин с некоторым злорадством отнесся к выходке Ермолова.
– Поделом ему. Более нет полезет куда не следует. Смекайте, дети мои, каково выходит боком неуместное щегольство и желание покрасоваться. – При этом он выразительно глянул в сторону графа Бобринского.
Грянул фанфарный призыв, и на зеленое поле выехал в блестящем алом с золотом мундире истинный командующий граф Шарль Филипп д’Артуа во всем блеске своих тридцати лет. Никто тогда не мог предречь, что через много-много лет он займет трон французских королей под именем Карла X.
– Родной брат короля Людовика, – вполголоса произнес Симолин.
До них донеслись гортанные звуки команды, красно-серебряный строй дрогнул, колыхнулся и колонна за колонной церемониальным маршем двинулся по полю. Ах, какая это была живописная картина! Вслед за пехотой гарцевали кавалеристы: эскадрон на белых конях, другой – на вороных, третий – на гнедых, четвертый – на соловых, на чалых, на игреневых…
Снова послышалась команда, и строй развернулся. Вскоре он возвратился на исходное место. Прогремел пушечный залп, колонны застыли. Лишь ветер колыхнул плюмажи на их киверах.
На поле выехала золоченая карета на высоких колесах, стекла ее были опущены. Его величество король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта катили вдоль строя. Королева делала ручкой, король выставил ладонь. Их величества принимали парад, не выходя из кареты.
– Боятся, што ль? – буркнул Бобринский. – Экое непотребство!
Симолин погрозил ему пальцем:
– Нехорошо критиковать поведение их величеств, даже скверно-с. У них свои виды-с.
– При вас могу, – отвечал Бобринский. – Полагаю, вы не донесете. Да если и донесете, кой прок от сего будет?!
Он был смел на язык, как видно, понимая свою неуязвимость. Посол смолчал. Он не любил никаких конфликтов, а ежели они возникали, старался тотчас погасить их. Иван Матвеевич был справный исполнительный чиновник, никогда не выходивший из высшей воли. Он действовал строго на основании инструкций своего патрона графа Безбородко, не осмеливаясь на отсебятину. Да и как можно, думал он, в сношениях государей сметь свои суждения иметь.
Он был ревностный служака на дипломатическом поприще, а посему устраивал Петербург и пребывал безвыездно на своем месте вот уже который год. В пакете, который привез Комаровский, содержались очередные инструкции Безбородко и его послание новому министру иностранных дел графу Монморену. Были там письма нынешнего посла короля графа Сегюра своему патрону и дяде – военному министру.
Отношения между российским и французским дворами были давно натянуты. Версаль покровительствовал туркам и исподволь старался умалить Россию. Торговый договор, только что подписанный обеими сторонами, мог лишь незначительно сгладить противоречия. Однако Симолин не мог пожаловаться на недостаток внимания к нему и вообще к русским аристократам, пребывающим в Париже. В ту пору там находились княгиня Наталья Петровна Голицына со всем семейством, камергер ее величества Василий Никитич Зиновьев, известный мистик и масон Родион Александрович Кошелев с супругой и другие лица, о коих уже упомянуто. Все они были с радостью принимаемы в свете и при дворе. Более того. Северная Семирамида, с царственной щедростью покровительствовавшая Вольтеру и Дидро, ведшая регулярную переписку с бароном Гриммом, с аббатом Галиани, вошла в необыкновенную моду. И это несмотря на ставшие достоянием общества ее антифранцузские высказывания.
Обо всем этом Иван Матвеевич докладывал по начальству в своих немногословных донесениях. В них были только факты и ничего более, он почитал неуместным разбавлять их своими комментариями.
Сейчас ему поручалось в осторожных выражениях прощупать возможность дальнейшего сближения с Версальским кабинетом в интересах обеих держав. Александр Андреевич Безбородко доверительно сообщал ему, что государыня переменилась в своем отношении к Франции, что он приписывал влиянию посла Сегюра, и жалует благосклонным вниманием королевскую чету. Турки-де – ненадежные союзники и торговые партнеры, кроме всего прочего, такая близость врагов креста и Христа с христианнейшей монархией сама по себе противоестественна. Обо всем этом он должен говорить при своем свидании с графом Монмореном, равно и с его величеством королем. Важно ослабить связь Франции с турками, елико возможно, и он, Симолин, призван добиваться этого. В письме Александр Андреевич глухо говорил о возможности войны и о том, что Францию надо предостеречь от активного вмешательства в нее.
Война! О ней давно поговаривали здесь, в Париже. Ясное дело с кем – с турками. Известен здесь был и Греческий проект князя Потемкина, весьма поддерживаемый императрицей. В общих чертах, разумеется, в слухах, ибо никаких официальных подтверждений ему быть не могло. Но слухи были достаточно пугающими. Россия и Австрия раздуются до чудовищных размеров и станут угрозой для всей Европы…
Франция не могла этого допустить. Не из неприязни к российскому двору, а из политических видов, исключительно из них. Иван Матвеевич понимал это. Но что он мог? Всего лишь чиновник, исполнитель высоких и высочайших предначертаний, только и исключительно исполнитель.
Признаться, он с величайшей неохотой испрашивал аудиенции, будь то у министров его величества короля, будь то у самого Людовика. То был для него нож острый. Он вообще предпочитал отсиживаться у себя дома, выталкивая вперед для исполнения дипломатических обязанностей чиновников посольства. Лишь в самых крайних случаях напяливал он мундир и с горестною миной отправлялся в Версаль.
Так было и на этот раз: письмо Безбородко обязывало. Кроме того, ему предстояло вручить презенты, доставленные восемнадцатилетним курьером Евграфом Комаровским, по назначению.
Прежде он обстоятельно расспросил юношу о том, нет ли перемен в придворной иерархии, кто как, кто с кем, кто кого и кто кому. Комаровский был словоохотлив и отвечал подробно, сколь был посвящен.
Фаворитом ее величества оставался по-прежнему его крестный отец Александр Матвеевич Мамонов. Но как он ни добивался встречи с ним, сетовал юноша, он так и не отозвался на просьбу крестника. Князь Потемкин все так же в великой силе, и государыня советуется с ним прежде других по всякому делу. Безбородко – второй человек в ее свите, да, да. Он вызывает всеобщее восхищение и удивление своею памятью и своими познаниями по политической части.
– А как они с князем? – осторожно спросил Симолин. – Ладят ли?
Тут пришел черед Комаровскому осторожничать. Ладят ли? Похоже, светлейший относится к его патрону без какой-либо ревности, он его ценит, хотя государыня порою со смешком говорит, что Александр Андреевич-де на все способен, но ленив. Его любимое занятие – сон.
– Живут дружно, – наконец ответствовал он.
– Ну и слава Богу. – Казалось, Симолин только этого и дожидался. – Стало быть, нету среди персон никаких трений?
– Кажись, нет, ваше высокопревосходительство.
– Ну и хорошо, ну и ладно. Теперь я со спокойным сердцем могу испрашивать аудиенции у персон здешних, – со вздохом молвил он.
И, облачившись в мундир, отправился прежде всего к министру графу Монморену, прижимая к груди коробочку с драгоценным перстнем, который, похоже, стоил не менее тысячи золотых луидоров.
Граф принял его без проволочек. Рассыпаясь в благодарностях, он принял перстень и послание, подвинул Симолину кресло, просил садиться и чувствовать себя свободно, пока он прочтет письмо любезного и высокочтимого министра Безбородко. Впрочем, фамилия графа давалась ему с трудом, она плохо укладывалась в ложе французского языка.
Прочитав, он отложил бумагу и, почесавши переносицу, спросил Симолина о здоровье его лично, государыни его, князя Потемкина, который, по слухам, подвержен некоему загадочному заболеванию, нечто вроде английского сплина.
– По-русски это называется хандра, – заметил Иван Матвеевич. – Упадок духа.
– Ха-ха-ха, как смешно! – почему-то обрадовался Монморен. – Хандра! – со свистом вырвалось у него изо рта. – Что ж, пожелаем князю избавиться от этой самой хандры, ибо такому выдающемуся государственному мужу такая хандра совершенно ни к чему. Что же касается сближения наших держав, то оно возможно и даже необходимо. Однако при одном условии: если ваша, без сомнения, великая монархиня откажется от своих воинственных планов, от притязаний на раздел Турецкой империи. Ведь такие притязания есть не что иное, как желание перекроить мир. Его величество, мой повелитель, которому в свое время были доложены планы вашей государыни и князя Потемкина, отнесся к ним резко отрицательно. И доселе не изменил своего мнения, хоть и смягчил его. Вот в таком смысле я и отпишу вашему патрону и моему милостивому коллеге. Да, именно коллеге. Полагаю, я смогу отправить мой ответ и мою благодарность с вашим курьером? Как скоро он возвратится?
– Должен вас огорчить, граф. Он пробудет здесь еще довольно долго.
– Ну что ж, дело, как я понимаю, не спешное, можно и подождать.
– Я хотел бы испросить аудиенцию у его величества короля, – вялыми губами исторг Симолин. – Мне поручено передать…
– О, его величество охотно примет вас, – подхватил Монморен. – Но можете мне поверить: я достаточно хорошо знаю его взгляд на политику европейских держав – изложил ее в беседе с вами, личная встреча ровно ничего не изменит. Я доложу королю о вашем желании, – торопливо прибавил он, – и сообщу вам.
– Высокая воля… Мне поручено, – пробормотал Иван Матвеевич. Ему вовсе не хотелось предстать перед Людовиком, он прекрасно понимал, что это ничего не изменит, и Монморен был совершенно прав. Но что делать, что делать. Он всего лишь невольник…