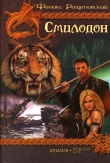Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Был ли он человек военный? По воспитанию – да. Отец его, рано умерший, был отставной майор, сын его с шестнадцати лет был записан в рейтары конной гвардии и уж в царствование Петра III вышел в вахмистры.
А цивильная карьера не задалась: из Московского университета выставили, как было сказано, «за нехождение». Правда, был на некоторое время сделан помощником обер-прокурора Священного Синода, а затем пожалован камергером при императрице Екатерине. Однако же война с турком призвала его под свои знамена: волонтер Потемкин отличился под Хотином, при Фокшанах, Ларге и Кагуле, разгромил турок у Ольты – словом, показал себя храбрецом. И вскоре был произведен в генерал-поручики, генерал-адъютанты, подполковники гвардии Преображенского полка…
При всем при том душа его более прилежала карьере государственной, созидательной. Вдохнуть жизнь в пустыни, устроить города и села, фабрики и верфи – все это увлекало его безмерно, но не могло не идти одновременно с закладкой крепостей, флота, формированием гарнизонов и новых воинских полков. Он чувствовал себя творцом, увлекался, хватал далеко и широко, многое успел. Хотел все объять, но рук не хватало. Сколь много было зачинов и задумок, но куда меньше свершений и окончаний.
Но вот сейчас, стоя в церкви и внимая службе, он снова ощутил себя более военным человеком, наследником заветов Великого Петра. Государь мечтал выйти на черноморский берег и крепчайше утвердиться на нем, дабы продолжить шествие далее и далее. Вплоть до Царьграда. Ибо он от основания своего был столицей христианской и таковой должен пребыть в веках.
Он чувствовал в себе силы свершить этот подвиг. И мысль о нем становилась все более навязчивой. Порой видения Константинополя возникали во снах, хоть ему никогда не приходилось бывать в тех краях. То были смутные видения, навеянные прочитанным, а также рассказами Булгакова, его однокоштника по университету: Святая София, Семибашенный замок, ипподром…
Великий государь требовал отмщения за жестокую конфузию на Пруте. Князю казалось, что он вопиял из гроба – Потемкин был увлекаем своим воображением до такой степени, что ему иной раз чаялось, что он слышит загробные голоса. Он следовал за своим воображением, уходя от действительности. И когда оно властно захватывало его, когда он оказывался всецело в его плену, то на несколько дней как бы выпадал из жизни.
И вот тогда он приказывал ни о ком не докладывать, никого не принимал, немытый и нечесаный валялся в постели – его забирала хандра, о которой столь много трубила молва. Тогда и богомольность его достигала апогея.
Святитель Николай Мирликийский был им особо почитаем. И дабы утвердить ему земной памятник, он основал град Николаев. И завещал быть похороненным там: его небесный покровитель упокоит» Де его прах и оправдает его земное существование.
Литургическое молебствие утвердило его в стремлении исполнить то, о чем не переставал думать, что выстроилось в мыслях и не давало покоя с давних пор. То был святой долг перед Россией, перед предками, перед памятью Петра Великого. Наконец, перед обожаемой им государыней императрицей. Она целиком и полностью разделяла его идеи и благословила его на подвиг во имя их претворения.
Здесь возглашена вечная память Великому Петру и его победоносному воинству, здесь же провозглашена слава генерал-фельдмаршалу и кавалеру, светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину.
По окончании молебствия Екатерина, возбужденная всем увиденным, особенно же воссозданною сценой Полтавской битвы, призвала Храповицкого.
– Пиши, Александр Васильич, предписание Сенату, – воодушевленно произнесла она. – Пусть заготовят похвальную грамоту с означением подвигов генерал-фельдмаршала светлейшего князя Потемкина в успешном заведении хозяйственной части и населении губернии Екатеринославской, в строении городов и умножении морских сил на Черном море с прибавлением ему именования Таврического. Отныне он Потемкин-Таврический и таковым пребудет в памяти потомства, – закончила она.
Покосилась на своего секретаря – каково выражение, с коим исполняет ее волю. Лицо его оставалось невозмутимым. И тогда она на всякий случай спросила:
– Не находишь ли ты, что сие чрезмерно?
– Ни в коей мере, – откликнулся Храповицкий, не помедлив. – Заслуги князя велики, и мы имели счастие их лицезреть.
– Однако ты покамест никому ни слова о сем. И князю тож. Вот когда сенатская грамота будет заготовлена, тогда всему обществу от Сената станет известно.
– А кого князь благодарить-то будет? – не удержался Храповицкий. – Сенат или ваше величество?
Екатерина усмехнулась:
– Что в том? Все едино он к моей руке приложится. Ибо ведает, откуда ветер дует. Без моей воли и Сенат ничего не предпримет – это ему и так хорошо известно.
«Сама проговорится», – подумал секретарь, заготовляя повеление и скрепляя его печаткой для вручения курьеру – одному из многих.
Курьеры были в его распоряжении. Они находились всегда под рукой: шла оживленная переписка с Петербургом, с Москвою, с другими городами, и всякий день их отправлялось несколько, равно и прибывало до десятка.
«Таврический, – повторял он про себя, перекатывая звучное словцо, – не ровен час, станет повелителем всея Руси, он от этого недалече, и так власть его беспредельна».
Ни зависти, ни злобы – ничего такого в нем не завелось. Он, Александр Васильевич Храповицкий, был просто нужный человек, лицо, приближенное к ее величеству и услужающее ей по мере сил. На большее не рассчитывал и не претендовал – не в его натуре. Он старался держаться в тени, не высказывал своего мнения, ежели его не спрашивали, но при том все в себя впитывал, примечал и, не полагаясь на память, записывал. Он вообще был человек письменный, и это сближало его с государыней, которая тож была письменная и изводила ежедневно стопу бумаги и десяток гусиных перьев.
Потемкин стремительно восходил на его глазах. Ныне он всесилен и всемогущ. Выше только в цари, в потентаты. Теперь он Таврический, не станет ли называться царем и великим князем Таврическим и всея Екатеринославской губернии? «Нет, – поправился он, – всея Новороссии. Государыня души в нем не чает. Но так далеко в своей привязанности она не зайдет и короновать его не станет. Да и он достаточно умен, чтобы ни на что такое не посягать. Он бескорыстен в своей любви к государыне и России. А что до того, что чрезмерен, что много себе позволяет, то с него много и спрашивается. Повыдавал всех своих племянниц замуж, а держит их при себе без мужей своими полюбовницами. И все это открыто, ничуть не опасаясь молвы, даже пренебрегая ею. Он вообще всем и вся пренебрегает – бесстрашный человек и единственный в империи вельможа, который ничего и никого не боится.
Верно, так надо. Для успеха дела. Без оглядки на кого бы то ни было, без опасения, что осудят. Такой восхищения достоин – несмотря ни на что. Грехи же отмолит либо отпустят, сколько бы их не висло гроздьями».
Велик был соблазн поделиться с Александром Андреичем Безбородко примечательною новостью, посудачить, да удержался: кабы не впасть в опалу за длинный язык. Тем паче был предупрежден.
Долго крепился – целых два дня. Но можно ли выдержать?! Тем более что их связывали дружеские отношения. Выждал момент, когда они остались одни, приложил палец к губам, предварительно повертев головою во все стороны, и открылся.
Александр Андреич пожевал губами, что было у него признаком неудовольствия, и затем ворчливо заметил:
– Государыня наша чрезмерно добра, а потому не чает последствий. А они могут быть…
Тут он замолк, как видно обдумывая, что за последствия. Храповицкий терпеливо ждал продолжения. Наконец Безбородко разомкнул уста:
– Посягнет на власть ее величества, вот что. Станет диктовать свое. Князь безмерно самовит и пределов не ведает. Сия приставка может подвигнуть его на многое.
– Позволю себе не согласиться. Во власти он меру знает и будет ее соблюдать. Он пред государыней преклоняется – это мне доподлинно известно.
– Э, голубчик, не то, не то. Князь давненько закусил удила и несется, не разбирая дороги. Не могу отрицать: он – муж истинно государственный, размах у него широк. Однако меры не знает и пределов тож. Я с ним в приязни, однако, как говаривали древние, истина дороже.
– Так-то оно так, однако князь из берегов не выйдет, – убежденно проговорил Храповицкий. – Умен ведь, незаурядно умен.
– Умен, а уж сейчас занесся. Что далее будет – предсказать не берусь, я не сивилла, не пророк.
– А далее, бессомненно, война.
– Это и я отчетливо понимаю. Чему быть, того не избыть. Турок первый полезет: шествие государыни в новоприобретенные земли его раздражило сверх всякой меры. И снести сего он не может. Да и князь рвется в бой. Боюсь только, что он захочет возглавить армию. А какой он главнокомандующий? В лучшем случае генерал-поручик для дивизии. Вот мое главное опасение.
– Тут я, пожалуй) соглашусь. Храбрости одной маловато, надобен опыт, а у него он мал, – наклонил голову Храповицкий.
– Опасаюсь и другого, – продолжал Безбородко, – он вперед себя никого не пропустит, все на себя возьмет. Ревнив больно. А у нас есть полководцы испытанные. Взять того же Румянцева. Турок пред одним его именем трепещет.
– Устарел он, друг мой, как сказывают, отсиживается в своем имении – немощи-де одолели.
Безбородко вздохнул. Отчего-то стало тревожно. Не то чтобы турок был страшен: исход войны казался ему заранее предрешенным – Россия возьмет верх. Но у Порты под ружьем многие сотни тысяч, она и придавит своею тяжестью. И потери будут чрезмерны.
Он высказал это свое опасение Храповицкому. Тот был настроен победительно.
– Этого никак не может быть. Не может – и все тут!
– Дай-то Бог, Александр Васильич, дай-то Бог.
Безмятежное небо глядело на них с высоты. Оно казалось близким, а затерявшиеся в нем облачка – клочками пуха. Люди текли из-за монастырской ограды с просветленными лицами, и этот поток казался неиссякаемым.
Екатерина шла в окружении духовных: невысокая женщина в светлом платье в кольце черноризцев. Иные несли хоругви, в руках других были иконы. Хор неутомимо распевал стихиры, и кто мог, тот подпевал.
Впереди была дорога. И Потемкин, возвышавшийся над всеми, еще не ведавший, что он Таврический, отдавал распоряжения военным чинам, одновременно сверля своим зрячим глазом окружение императрицы. Похоже, он был недоволен тем, что все перемешалось в этом потоке, и те, кто должен был оберегать государыню, оказались оттеснены толпой. Толпа меж тем сжималась все тесней, норовя не только приблизиться к ее величеству, но и коснуться ее платья, заглянуть в ее лицо. Это были все простодушные поселяне, не ведавшие, что такое этикет, да и не менее простодушные духовные.
Екатерина медленно продвигалась в этой толпе. На ее лице застыла принужденная улыбка. Она привыкла к определенному порядку, к тому, что между толпой и ею всегда было значительное расстояние. Но тут все было нарушено, и она чувствовала нечто вроде умаления. И все ждала, что порядок будет восстановлен.
Потемкину удалось пробиться к ней, раздвинуть поток, и, вняв его призыву, государыню тотчас окружили гвардейцы, статс-дамы и фрейлины.
Умиленный Амвросий, бормоча «светлый праздник, великий праздник», осенил государыню крестом.
– В добрый путь! – возгласил он.
Сквозь магический кристалл…
Ветвь двадцать первая: май 1453 года
И повелел богоподобный султан Мехмед своим приближенным явиться на совет. И ждал их разумных речей, зажав свое терпение в кулак, ибо оно уже подходило к концу.
И поднялся старый везир Халил, долго и верно служивший и отцу султана и теперь продолжавший служить его сыну. Он почитался воплощением мудрости и благоразумия.
Халил сказал;
– Не следовало правоверным начинать эту войну, ибо с самого начала было ясно, что она обречена на неудачу. Когда орел бросается из поднебесья на свою добычу и она минует его когти, он больше не преследует ее. Мы ничего не добились. Больше того, неудачи преследовали нас. Со дня на день под стенами города появится флот неверных, и что тогда? Я предлагаю снять осаду. Мы убедились: Аллах не покровительствует нам.
Старый Халил бросил взгляд на своего повелителя: султан гневно сдвинул брови. Нет, не такой речи ждал он от своего везира.
Нашелся, однако, человек, который произнес то, что хотел услышать повелитель правоверных. Это был Заганос-паша, военачальник и правая рука султана.
– Мы начали осаду, и мы должны взять этот проклятый город во что бы то ни стало. Кораблей христиан не видно, слава Аллаху, и они не приплывут, я уверен. Среди неверных нет единства, они трусливы и не хотят рисковать. Я выходил к воинам и спросил их, как поступить. Они в один голос воскликнули: идти на штурм и взять богатую добычу.
Халил остался в одиночестве: все военачальники поддержали Заганос-пашу, и особенно рьяно глава башибузуков Махмуд. Оба они были ренегатами, то есть изменили своей христианской вере, как, впрочем, и многие другие перевертыши из числа христиан, искавшие себе выгоды.
Султан остался доволен, старого Халила ожидала опала. Но в турецком лагере не было полного единства. Были и такие, кто сочувствовал грекам. Они известили их о решении султана идти на штурм простым способом: ночью, когда лагерь спал, они пустили за стены несколько стрел с письменными сообщениями.
Город готовился. Были заделаны бреши в стенах, расчищен ров. Но и турки не бездействовали. Они усилили бомбардировку. И по ночам, при свете костров, солдаты старались как можно основательней завалить ров землей и обломками.
Решение совета воодушевило султана. 27 мая он стал объезжать войска. При звуках труб и барабанной дроби глашатаи вопили: «Повелитель правоверных решил штурмовать стены города! Было знамение свыше: Константинополь будет отдан сынам Аллаха! И тогда его воины получат богатую добычу. Три дня он будет в их власти!»
Султан произнес великую клятву именем Аллаха и пророка Мухаммеда, а также именами четырех тысяч пророков, памятью его отца и жизнью детей, что богатейшая добыла будет распределена по справедливости между всеми воинами ислама. Восторженные клики были ответом на эти слова. «Аллах акбар!» – «Аллах велик!» – гремело со всех сторон. И, слыша это ликование, защитники города содрогались.
Турки с удвоенным рвением принялись готовиться к штурму. Теперь по ночам они разводили костры и при их свете заваливали рвы. Их воодушевляли звуки дудок и флейт, барабанный бой. И возгласы мулл.
Глава двадцать первая
Щедрой рукою
Но за неоспоримую истину должно принять, что развратное сердце влечет за собою развратный разум, который во всех делах того чувствителен бывает… Порочного сердца человек выбирал порочных людей для исправления разных должностей; те не на пользу общественную, но на свои прибытки взирая, также порочных людей ободряли, отчего множество тогда же произошло злоупотреблений…
Князь Щербатов
Голоса
За неделю перед тем в городе (Харькове) уже не было угла свободного: жили в палатках, шалашах, сараях, где кто мог и успел приютиться; весь народ губернии, казалось, стекся в одно место… Показался на Холодной горе царский поезд – настал праздник праздников; тысячи голосов громогласно воскликнули: «Шествует!» – и все смолкло. Неподвижно, как вкопанные, в тишине благоговейной все смотрели и ожидали: божество явилось. У городских ворот встретил государыню наместник Чертков и правитель губернии Норов, оба военные, генерал-поручики, но оба в губернаторском мундире. От ворот до дворца императрица… ехала шагом и из кареты по обе стороны кланялась, слышен был только звон с колоколен… От дворца по площади к собору постлано было алое сукно, по которому Ее Величество изволила пешком идти в собор, где слушала молебен…
Сенатор Федор Лубяновский – из записок
Таково двойное волшебство самодержавной власти и пассивного послушания в России: здесь никто не ропщет, хотя и нуждается во всем, и все вдет своим чередом, несмотря на то, что никто ничего не предвидит и не заготовляет вовремя…
Сегюр – Монморену
Надо быть веселой. Только это помогает нам все превозмочь и перенести. Говорю вам по опыту, потому что я многое превозмогла и перенесла в жизни. Но я все-таки смеялась, когда могла, и клянусь вам, что и в настоящее время, когда я несу на себе всю тяжесть своего положения, я от души играю, когда представится случай, в жмурки с внуками… Мы придумываем для этого предлог, говорим: «Это полезно для здоровья», но, между нами будь сказано, делаем это – просто чтобы подурачиться.
Екатерина – г-же Бьельке, подруге своей матери
Прежде всего я была страшно поражена, увидев, что она очень маленького роста: я представляла ее необыкновенно высокой, столь же великой, как ее слава. Она была очень полна, но ее лицо было еще красиво: белые взбитые волосы служили ему чудесным обрамлением. На ее широком и очень высоком лбу лежала печать гениальности; глаза у нее добрые и умные, нос совершенно греческий, цвет ее оживленного лица свеж, и все оно необычайно подвижно… Я сказала, что она маленького роста, но во время парадных выходов, с высоко поднятой головой, орлиным взором и с осанкой владычицы, она была исполнена такого величия, что казалась мне царицей мира. На одном из празднеств она была в трех орденских лентах, но костюм ее был прост и благороден…
Элизабет Виже-Лебрен, французская художница, о Екатерине
Ах, что было, что было!
Столпотворение вавилонское!
Весь Харьков поднялся и высыпал на улицы. Да что Харьков – вся губерния притекла!
Всюду бывали триумфы, всюду навстречу шествию шли все – и стар и млад. Но чтоб столь великая плотность… Улицы – живой коридор – стеснили проезжую часть. Конные гвардейцы еле сдерживали толпу, напиравшую со всех сторон. Иной раз кортеж останавливался – неможно было продолжать движение.
Государыня улыбалась и сквозь опущенные стекла помавала руками то направо, то налево. Хоть она и говорила, что и на медведя народ толпами сбирается, да все-таки ей льстило это проявление народной любви, граничившей с обожанием.
Любили, да. А за что? Порой она задумывалась над этим без обольщений. И выходило: только за то, что она вознесена в поднебесную высоту и оттуда не видна народу. А раз столь высока, значит, подобна божеству. Божество же всегда любимо.
Да, она хотела добра и старалась творить добро. Кое-что ей удалось, кое в чем облегчила народную долю. Но это была такая малость, такая малость. Ну упразднила слово «раб» в обращении к ней, заменив его «верноподданным». Ну пресекала жестокосердие помещиков, запарывавших своих крепостных… Ежели начать перечислять, наберется вовсе не так много. В основном же – послабления дворянству. Вот оно-то и должно быть ею довольно.
Все сходились на том, что правление ее – мягкое. Не было ни казней, ни жестоких преследований. Однако Шешковский по-прежнему возглавлял Тайную канцелярию, и оттуда не доносилось ни звука: никому не ведомо было, что там творилось.
Зато ближние, фавориты, чиновники одарялись щедрою рукой. Они-то восславляли государыню. Пели ей дифирамбы в стихах и прозе, восхваляли ее в речах и в церковных проповедях. Редкие критические голоса тонули в хвалебном хоре.
Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачествы сквозь пальцы видишь.
Лишь зла не терпишь одного…
Ты здраво о заслугах мыслишь.
Достойным воздаешь ты честь,
Пророком ты того не числишь.
Кто только может рифмы плестъ…—
слагал Гавриил Державин оду «Фелице» – Екатерине.
Хвалы его были истинны и искренны:
Мурзам твоим не подражая.
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая,
Бывает за твоим столом…
Державин создал монолог и для главного из мурз – Потемкина:
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом.
Скачу к портному по кафтан.
Или в пиру я пребогатом.
Где праздник для меня дают.
Где блещет стол сребром и златом.
Где тысячи различных блюд…
Где все мне роскошь представляет,
К утехам мысли уловляет,
Томит и оживляет кровь;
На бархатном диване лежа.
Младой девицы чувства нежа.
Вливаю в сердце ей любовь.
Простота и неприхотливость государыни противопоставлялась непомерным изыскам мурзы, а лучше сказать мурз, потому что поэтические стрелы летели и в графа Алексея Орлова, и в другого графа – Петра Панина, и в князя Андрея Вяземского, и в других вельмож.
Многие из стариков, встречавших восторженными кликами императрицу, помнили еще царствование Анны Иоанновны и злобного ее любовника Бирона, кровавое злодейское царствование – контраст был резок. И даже правление дочери Петра Елисавет Петровны, бывшее довольно кротким, казалось им грубым в сравнении с нынешним.
В памяти обывателей прошлое всегда окрашено в розовый цвет. Все-де в старину было куда исправней и благостней. Но нынешнее царствование чувствовалось очень многими мягким и доброжелательным.
– Благодарствую, благодарствую, – раскланивалась Екатерина во все стороны, – я очень тронута. Очень!
Кортеж с трудом пробился сквозь восторженную толпу к губернаторскому дворцу. Государыня выглядела довольной, но усталой. Ей, говоря откровенно, хотелось бы преклонить голову. Но это было никак не возможно. Предстояли церемонии, долгие и утомительные: поднесение адреса и представление дворянства, благодарственный молебен.
И напоследок прощание с князем Григорием Александровичем Потемкиным, главным мурзою Новороссии и Тавриды. Он отбывал к войскам. И не только: всюду требовался его глаз, единственный зрячий, но проницающий, его распорядительность и понукание, равно и здравый смысл, которого так не хватало на просторах отечества. То должно быть не простое прощание, а напутное – с обеих сторон.
Князь глядел озабоченно и был рассеян: собирался мыслию. Предстоял разговор о деньгах, коих вечно недоставало. Ограничивать себя он не думал: нужды его были законом, хотя и далеко не законным. Государыня, впрочем, смотрела на них сквозь пальцы: князь на многом выгадывал для казны, и она знала, что лишнего он не потребует. Устроение же края, как ей казалось, велось разумно, с должным размахом. Она своими глазами убедилась в этом.
Новороссия и Таврида поедали непомерно много казенных денег. Но она видела: они стоили того.
После недолгого отдыха и короткой трапезы Екатерина вышла в залу. Боже, какая пестрота дамских платьев, мундиров в звездах и лентах предстала ей. Гул голосов при ее появлении мгновенно стих.
Капельмейстер на хорах взмахнул рукой, и полилась нежная музыка. Это было некстати: предводитель дворянства готовился произнести речь. Наместник Чертков послал на хоры своего правителя канцелярии, дабы он отменил музыку.
– Великая государыня, матерь Отечества, – начал он, как только оркестр смолк, – сколь много мы осчастливлены благополучным прибытием вашим в пределы нашей губернии. Сколь это великий праздник и торжество наше.
И пошло, и поехало. Екатерина слушала с благосклонной улыбкой, но пропускала содержание мимо ушей. Все это было так знакомо! Казалось, все сговорились и выражали свои восторги одними и теми же словами, стершимися, как медная полушка.
– Господа, я не намерена быть помехою вашему веселью. Позвольте мне немного побыть среди вас, а затем удалиться.
На возвышении меж колонн, где обычно восседал распорядитель, было поставлено кресло. Государыня воссела. Улыбка не сходила с ее уст. Возле нее расположились придворные дамы. Храповицкий, Безбородко и Мамонов.
Оркестр заиграл снова. Вначале робко, а затем все смелей и смелей пары заскользили по навощенному полу в полонезе. Неожиданно в строй танцующих ворвался Потемкин. Он увлек хорошенькую девицу из числа местных завидных невест, совершенно потерявшуюся от такой чести. Князь возвышался над нею словно гора.
Все взоры устремились на эту пару. Ах, как она была колоритна! Казалось, кукольных дел мастер вывел напоказ одну из своих кукол: тоненькую, изящную, с пылающими щеками и губами, наведенными кармином.
– Браво, браво! – раздались возгласы.
Князь был величествен в своем фельдмаршальском мундире с орденскими лентами и звездами. Он держал голову прямо, не обращая внимания на свою даму, и почти не умерял шага, словно бы был на смотру.
Сделав два крута, Потемкин с тем же невозмутимым видом отвел девицу к ее обомлевшей маменьке и с поклоном усадил на стул.
– Менуэт, менуэт! – потребовал кто-то, как видно, надеясь, что Потемкин снова вступит в круг танцующих. Но князь подошел к государыне и, наклонясь к ней, сказал что-то вполголоса.
По-видимому, все решили, что князь вздумал пригласить ее величество на танец. Середина зала осталась пустой. И хотя оркестр заиграл менуэт, не произошло никакого движения. Ждали!
Каково же было разочарование, когда князь, поклонившись, удалился в сопровождении двух своих адъютантов. Вскоре поднялась и государыня. Оркестр тотчас умолк.
– Продолжайте, господа, – звучным голосом произнесла Екатерина. – Благодарю вас за доставленное удовольствие и желаю вам хорошо повеселиться.
Потемкин собрался отбыть ввечеру, получив высочайшее напутствие. Оно было важно для обоих. Все уж было напряжено. Внешних примет этого напряжения не замечалось, однако те, кто был близок к власти, остро чувствовали его. Дипломатические агенты, конфиденты слали с курьерами депеши, содержание которых было схоже, хотя они и поступали из разных стран: война вот-вот разразится.
Солнце садилось в тучу, и это предвещало непогоду. Последний раз на западе блеснула лимонная полоса и погасла. Наступил тот сумеречный час, когда открывается душа и начинают приглушенно звучать ее самые чувствительные струны.
Екатерина и Потемкин остались вдвоем. Разговор был важен и чужд посторонних ушей. Оба были откровенны, как некогда, как всегда, когда оставались вдвоем, с глазу на глаз.
– Ты напрасно затеял столь поздний отъезд. Я буду тревожиться, – начала Екатерина.
– Э, матушка, мне не впервой колесить по ночам. Езжены не токмо торные, но и не торные дороги, прямиком по целине. И ништо, цел остался.
– Бог с тобой…
– И Николай Угодник, – подхватил князь. – Он меня не оставит своим призрением.
– Надеюсь. Полагаю вот что: все наличные полки надобно двинуть без промедления к Херсону и Севастополю.
– Беспременно. Скороспешно строю казармы и склады к тем, что там есть. Бельмо на глазу – единственном – Очаков. С него стремлюся начать…
– Нет, Гриша, прошу тебя: дождись турка. Первый не начинай – неполитично. Да он и не удержится – я тебя уверяю. А нам бы, как ты знаешь, хорошо воздержаться как можно долее.
– Знаю, как не знать. Дак ведь не все в нашей воле.
– Размахался ты, взял слишком широко…
– Верно, матушка, натура такова, не мог с нею совладать. Людей бы мне, людей! Звал – не дозвался. Рук недостает, ох как недостает!
– Людей взять неоткуда. Жди, когда колонисты притекут. А и притекут, пользы от них не скоро дождемся. Рекрут надо поболе, набор слабо идет.
– Ты вот дворян жалуешь, а они своих людишек норовят от набора укрыть, – сказал жестко, словно не государыне императрице, а супруге своей.
– С губернаторов спрос будет. С губернских предводителей дворянства, – не замечая этой жесткости, спокойно отвечала Екатерина.
– На строение флота худое дерево губернаторы твои сплавляют, – продолжал в том же тоне Потемкин.
– Разгон им учиню. Непременно.
– Кораблей поболе надо. Втрое-вчетверо против турка. Флот неодолимой армадой войдет в Босфор и осадит Константинополь.
– Дай-то Бог. – И Екатерина трижды перекрестилась. – На строение флота щедрою рукой отпущено будет.
– Пушек корабельных на уральских заводах мало льют. Повели усилить.
– Вестимо. И ты поручи генерал-фельдцейхмейстеру за сим наблюдение иметь. Ты ведь у нас президент военной коллегии, – язвительно напомнила она.
– Что мы все о делах! – неожиданно произнес Потемкин помягчевшим тоном. – Иной раз все это мне в тягость – и президентство мое, и правление… Вернуться бы на… – он остановился, подсчитывая, – на тринадцать лет назад. – И продолжал мечтательно: – То были мои самые счастливые, блаженные годы. Господи, один ты знаешь, как я был счастлив!
Ему было тогда тридцать пять лет. Он был в самой вершинной мужской поре. Екатерина была на десять лет его старше, но все еще неистощима как женщина. Но он принуждал ее к капитуляции: был намного сильней в своей страсти – сильней до жестокости. В конце концов она принуждена была сдаться. Она продолжала любить его, но разделять с ним ложе было свыше ее сил.
А в его памяти она осталась единственной, в полном смысле слова Великой. Сердце его было навсегда занято ею. Женщины приходили и уходили – совсем юные и уже опытные, дивно прекрасные и непримечательные, – каждая из них оставляла слабый след, который вскоре стирался следующей. Его мужское естество не убывало, оно требовало все новых и новых жертв. Но Екатерина пребывала вечно – и в сердце, и, главное, в душе.
В комнате сгустился мрак. Князь предавался воспоминаниям. Екатерина не прерывала его. В эти мгновения корона императрицы словно бы спала с ее головы, она была просто женщиной, женщиной с неугасшей любовью, хотя и потускневшей с годами.
И сейчас, когда князь вспоминал два года их ни с чем не сравнимой близости, их жаркой чувственности, их пылкой любви, она не останавливала его. Потому что в ней слишком многое всколыхнулось, она снова становилась женщиной.
Но в конце концов разум взял верх над чувством, над воспоминаниями: он, разум, с некоторых пор главенствовал. И она сказала – в голосе прорвалась хрипотца, знак все еще не остывшего волнения:
– Князь Григорий Александрович, довольно сидеть в темноте, она кружит тебе голову. Я прикажу зажечь свечи.
Она дернула сонетку, через несколько секунд дверь приоткрылась и дежурный камердинер Зотов спросил:
– Что прикажете, ваше величество?
– Сделай милость, внеси шандал.
– Не гневайся, матушка, – торопливо проговорил Потемкин, – ради Бога прости: забылся. Сердце возговорило. Его не уймешь.
– Не гневаюсь, сердце не камень. Пора тебе ехать, друг мой. Господь с тобою, будь благополучен. Я тебя не оставлю.
и она протянула князю обе руки. Он бухнулся на колена и впился в них губами.
– Полно тебе, Григорий Александрович, полно, ну будет, будет…
– Жизнь свою положу за тебя, матушка-государыня, – умиленно бормотал Потемкин, не отпуская ее руки, – до последней капли крови, до последнего вздоха…
– Встань, князь светлейший, будет тебе в ногах валяться. Езжай. Буду ждать от тебя доношений. Береги себя, ты мне во всякое время надобен.
Потемкин встал и в три шага очутился возле двери. Отстранив камердинера, несшего зажженный канделябр, он вышел. У крыльца его уже ждал экипаж, запряженный восьмеркой, адъютанты и казачий эскорт.
– Боур, пошли разъезд вперед разведывать дорогу, – сказал он адъютанту, – я попробую вздремнуть, не слишком бы трясло только.