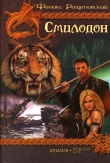Текст книги "Шествие императрицы, или Ворота в Византию"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
– Господи, вот муки-то египетские, – простонал Яков Иванович, – скорей квасу! – И одновременно стал сбрасывать с себя потемневший от пота мундир.
Надлежало немедля сочинить депешу на имя государыни об ультиматуме великого везира, но мозги, казалось, тоже пропитались потом, и сквозь него не пробивалось ни одной осмысленной фразы.
Яков Иванович порешил дать себе роздыху час, дабы привести себя в осмысленное состояние, велел камердинеру образовать курьера для дальнего пути и, охнув, рухнул в постель.
Проспал он как-то незаметно два часа с четвертью и после этого ощутил прилив сил, правда невеликих. Призвавши Виктора Павловича, который был докой по части дипломатических выражений, приступили к сочинению депеши.
– Выражения должны быть весьма решительные, дабы его величество почувствовала наконец крайность положения, – высказался Яков Иванович.
– Те самые, кои произносил везир. Они и есть крайность, – ответствовал Кочубей. – Упомянем, что и дачи не возымели действия. А это верный сигнал о крайности.
– Надо бы призвать австрийского интернунция Губерта для совету, – приложившись к кружке с квасом, предположил Яков Иванович.
– Гм, не думаю, – скептически отозвался Кочубей, уже скрипя пером с каким-то странным ожесточением.
Виктор Павлович рассусоливать не стал. Он обрисовал положение в выражениях сжатых и энергичных. И покорнейше просил ответить без малейшего промедления, как быть дальше. Ибо промедление опасно.
Яков Иванович, прочитав, одобрил, вставив только выражения «припадая к освященным стопам Вашего Императорского Величества» и «сугубая отчаянность положения понуждает нас»…
Дали перебелить письмоводителю, потом долго заделывали пакет, наложив пять сургучных печатей особым образом. Курьер уж был наготове со своим сменщиком и сменными же лошадьми.
– С Богом, – напутствовали их все члены посольства, собравшиеся на крыльце. У каждого было свое приватное поручение, а то и письмецо, весьма краткое: времени на написание было в обрез.
Ежели повезет, в Галате сядут на российский корабль и он доставит их в Кафу-Феодосию, а то и в Херсон, ежели не очень – то на любой купеческий корабль, направляющийся в Россию, разумеется за немалую плату. Все было предусмотрено – деньги, и немалые, у них были. Было и драгоценное предписание со все открывающими словами: «Курьер Ее Императорского Величества». Была и бумага с печатью великого везира – для турецких властей.
Отправивши курьера, велели сварить кофий, к которому весьма пристрастились, живучи среди турок. И, прихлебывая его малыми глоточками, предались ленивым рассуждениям. Тема была задана Яковом Ивановичем, а лучше сказать светлейшим князем, его однокашником. Яков Иванович имел с ним доверительные разговоры, будучи в Севастополе. Потемкин сказал ему тогда, что надеется чрез года три-четыре водрузить осьмиконечный крест на Святой Софии.
«Ты, Яша, вполне возможно, станешь тому свидетелем», – заверил князь его.
– Пустая игра воображения, – отозвался трезвомысленный Виктор Павлович. – Можно ль завоевать самый большой город в подлунной? Здесь же мильон народу.
– Мильон-то мильон, а турок чуть более половины, – возразил Яков Иванович, – и тебе то ведомо. Греки, армяне, евреи станут ли оборонять его? Непременно разбегутся. Греческие стены обвалились и не починяются. Ежели действовать с моря да с суши, то не составит труда разбить турка наголову, как некогда Румянцев-Задунайский.
– Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается…
– Эвон янычары бунтуют, котлы опрокинули, чернь ропщет, хлеб вздорожал – недород…
– У нас тож недород…
– Ты, Виктор Павлыч, любишь все поперек молвить, – рассердился Яков Иванович. – Князь, должно, все взвесил. Сколь его знаю, был всегда упорный и своего добивался. И кем стал? Первым человеком после государыни. Ему Царьград в голову запал, и ее величество с ним заодно.
– Ты же знаешь, Яков Иваныч, – в свою очередь рассердился Кочубей, обычно уравновешенный, – что не в одних турках дело. Европейские монархии у нас в супротивниках. И что из сего может произойти, предвидеть невозможно.
– Император Иосиф с нами заодно, – не сдавался Булгаков. – Не можешь ты отрицать, что за ним знаменитая сила.
– Не верю я никому. Коль дело дойдет до драчки, все попрячутся в кусты.
– Зря, что ли, император заладил с государыней встречаться? У него свой интерес есть, и немалый. Он от него не отступится.
Разговор перекинулся на турок и подвластные им народы. Века владычества отложились на них, и слой этот был густ. Греки, болгары, валахи, молдаване, сербы и другие носили сходную одежду, языки впитали великое множество турецких слов и понятий, мелодика песен и напевов ощутимо отуречилась, да и в обычаях и нравах появилось нечто турецкое.
– Не могло быть иначе, – сказал Кочубей. – Кабы прошли десятилетия, а то века… Века непрестанного давления…
Их разговор неожиданно прервало появление гостя. Он тоже был в некотором роде неожиданным. Это был Мари-Габриель-Флоран-Огюст Шуазель граф Гуфье, французский посол, представитель, так сказать, противоборствующей державы. Впрочем, все иностранные послы в Константинополе в основном держались друг друга, несмотря на противоречия держав, которые они представляли.
Оба относились к французу с уважением. Тому была отнюдь не дипломатическая причина: граф был известный ученый, страстный археолог, а посему свои прямые обязанности как бы отодвинул на второй план. Кроме того, он был занимательный собеседник и не часто, но все-таки время от времени бывал у них, равно и они бывали в его резиденции.
– Граф, какими судьбами! – воскликнули оба, не сговариваясь. В томительном однообразии их жизни каждая разрядка была желанной. – Располагайтесь же и чувствуйте себя как дома. – Это была обязательная формула для всех визитеров, и избежать ее значило бы нарушить этикет.
Яков Иванович захлопал в ладоши, вызывая мажордома, и, когда тот явился, приказал подать кофе, шербет и все остальное, приличествовавшее в таких случаях. А покуда стол готовился, стали наперебой жаловаться графу на жесткий ультиматум везира.
– Вот это-то и привело меня к вам, – озабоченно произнес Шуазель, – Не скрою, господа, я решительный противник войны между вашими империями. Об этом я писал своему министру. Он настроен несколько иначе, вам это известно, известна и причина. Я же реалист, даже суровый реалист, и понимаю одно: война окончится крахом для турок, несмотря на наше усиленное наставничество. А этот крах косвенным образом отзовется и на Франции. Я, как представитель союзной державы, был поставлен в известность о только что состоявшемся заседании султанского дивана. Война решена, господа. Я совершенно откровенно выразил Кодже-Юсуф-паше свои опасения. Но он настроен весьма воинственно, ибо сам султан, этот слабоумный старец, стоит за войну. А противиться ему – значит остаться без головы, это вам тоже известно.
– Как же так, – растерянно пробормотал Булгаков, – мы только что отправили курьера в Петербург и теперь ждем ответа…
– Вряд ли ваша государыня пойдет на уступки, – отвечал граф уверенно, – ибо уступки требуются весьма основательные – это вам тоже известно. Так что войны не избежать, какие бы усилия вы ни прикладывали.
– Что же нам делать, дорогой граф? Что вы посоветуете?
– Укладывать имущество. Жечь секретные бумаги – эта мера никогда не повредит. Турки, как вам известно, не придерживаются никаких международных правил и способны на все. Они могут, например, натравить на вас чернь, и она разгромит вашу резиденцию и растерзает всех, кого застанет здесь.
– Да, такие случаи бывали, – уныло согласился Яков Иванович. – Примите нашу сердечную благодарность. Мы последуем вашему совету.
– Следовать благоразумным советам – долг каждого благоразумного человека, – пошутил Шуазель.
– Скажите, любезнейший граф, – осторожно подступил Кочубей, – а назван ли срок объявления войны?
– В том-то и дело, что мне он не был объявлен. Полагаю, что уйдет некоторое время на окончательную подготовку. После этого вас известят. Я уже отправил депешу моему министерству, в которой сообщаю о решении дивана и рекомендую предостеречь турок от поспешных решений. Но, признаться, я совершенно не уверен, примут ли во внимание мои доводы.
Некоторое время все молчали, размышляя каждый о своем. Никто не притронулся ни к яствам, ни к напиткам. Шуазель открыт было рот, желая что-то сказать, но тотчас замялся. Наконец, решившись, он отомкнул уста:
– Я осмелюсь задать вам вопрос, на который вы вправе не отвечать. Но для меня ответ на него важен, ибо он просветит мою мысль и мои доводы, которые я изложил в депеше. Скажите, как вы оцениваете военную мощь своего отечества? Считаете ли, что российское войско одержит победу? Повторяю, можете не отвечать…
Яков Иванович с горячностью, которую вызвал не только слепой патриотизм, но и трезвая убежденность, ответил:
– Безусловно, граф, в этом не может быть никаких сомнений. Победа останется за нами. И это показал опыт прошлых русско-турецких войн. Турки ничему не научились и урока не извлекли.
– Всего одна кампания в нынешнем веке была проиграна, – поддержал его Кочубей, – я говорю о Прутском походе императора Петра Великого.
– Что ж, им снова придется расплачиваться за свое безрассудство, – с невольным вздохом произнес француз. – Вопрос только в том, сколь велика будет эта плата. Я умываю руки. Как говорят в таких случаях: «Ты этого хотел, Жорж Данден»[47]47
«Ты этого хотел, Жорж Данден» – слова из комедии Мольера «Жорж Данден» (1688).
[Закрыть].
– Кого это вы процитировали? – полюбопытствовал Кочубей.
– Одного из героев Мольера – нашего выдающегося, а лучше сказать, великого драматического писателя. Турки захотели в очередной раз проиграть войну, и никто не в силах стать поперек их желания. Пусть свершится то, что должно свершиться.
– Дорогой граф, мы у вас в неоплатном долгу, – с чувством произнес Яков Иванович. – Вы поступили как истинно благородный человек.
Шуазель поклонился и поспешно вышел, как видно, опасаясь нежеланных свидетелей его визита к русским.
– Надо торопиться. – Булгаков суетливо кинулся в свой кабинет. – Виктор Павлыч, распорядись-ка, чтобы люди укладывали вещи, да и сам пожги ненужные бумаги.
Поднялось великое смятение, как бывает тогда, когда обрушивается нечто неожиданное и грозное. Два дня из труб резиденции вился серый дым вперемешку с легчайшим серым пеплом.
Ждали. Ожидание становилось томительным: прошло более полумесяца со дня визита Шуазеля. Вещи были упакованы, срочный курьер с сообщением о неожиданном повороте событий отправлен. Все было готово к отъезду: в том, что им придется поспешно покинуть резиденцию в случае объявления войны, не было никаких сомнений. Конюхам приказано держать лошадей в упряжи, дабы отвратить канитель.
В один из первых дней августа резиденция была окружена целой ордой янычар.
– Господи, ужо стряслось! – выдохнул испуганный Булгаков.
Ворота сотрясались от властных ударов. На пороге появился янычарский ага. Со злорадной усмешкой он объявил:
– Великий везир повелел доставить вас в Едикуле без промедления. Без промедления, – повторил он.
– Не может того быть! – вскрикнул обескураженный Булгаков. – Особа иностранного министра, посла неприкосновенна у всех народов.
– Я исполняю приказ, – отвечал ага. – И не мое дело вникать в какие-то там неприкасаемости.
Вперед выступил драгоман. Его речь была полна иезуитского изящества. В заключение он сказал:
– Особа вашего превосходительства отныне именуется мусафиром, то есть гостем. И весь персонал посольства, препровождаемый в Семибашенный замок, тоже. Там вам будут предоставлены вполне удобные помещения. Вас будут снабжать едой и питьем, как почетных гостей.
– Ничего себе гости, – пробормотал возмущенный Булгаков. – В тюрьме, среди преступников, великий почет. Я принесу жалобу его величеству султану.
– Его милость великий везир исполняет повеление солнца вселенной падишаха, владыки всех мусульман, – невозмутимо сообщил драгоман.
– Ее императорское величество наша государыня не оставит нас в узилище. Все монархи Европы будут возмущены таковым своеволием, – не унимался Яков Иванович.
– Вы и ваши люди – гости, мусафиры, – с прежней невозмутимостью продолжал драгоман.
Кочубей неожиданно вспомнил одно из турецких слов, известных ему, и выпалил:
– Мы не мусафиры, мы музахиры – заложники!
Сквозь магический кристалл…
Ветвь двадцать четвертая: май 1453 года
Итак, клятва была произнесена. Знатные люди великого города во главе с императором исповедовались и причастились. Затем все заняли свои посты.
Сумерки быстро сгустились, и наступила летняя южная ночь. Небо было усеяно звездами, они переливались, словно сказочный самоцветный ковер. В турецком стане была слышна глухая возня, не предвещавшая, впрочем, ничего устрашающего.
Итальянцы и треки проследовали на внешний участок стены, подвергавшийся наиболее ожесточенным атакам, и их предводитель Джустиниани приказал закрыть ворота внутренней стены. Путь к отступлению был таким образом отрезан.
Император Константин бодрствовал. Он исповедовался и причащался вместе со всеми и у всех просил прощения, если кто-нибудь почитал себя обиженным. Он молил Господа простить ему все прегрешения – вольные и невольные, ибо каждый христианин должен чувствовать свою вину перед Богом.
Затем он сел на своего белого скакуна и отправился во дворец, где его появления с нетерпением ожидали приближенные и домочадцы. И у них он смиренно просил прощения за причиненные обиды.
– Примите мое покаяние, и да будет с вами милость Господня. Быть может, мне суждено погибнуть в утро наступающего дня. И в таком случае поминайте меня в своих молитвах, ибо я исполнил свой долг перед Богом и моим народом.
Затем он обнял своих близких и принял их прощальное целование, равно и утер их слезы, сам пролив слез немало.
Наступила полночь. К императору подвели коня. Он вздел ногу в стремя и позвал:
– Франдзис, тебе придется сопровождать меня. Мы в последний раз должны убедиться, что все готовы отразить штурм.
Этот беспримерный ночной смотр длился долго: император и его спутник объезжали все сухопутные стены. Все ли ворота и калитки на запоре, бодрствуют ли часовые, не осталось ли где-либо неукрепленных участков.
Оба напряженно вглядывались в темноту за стенами. Там время от времени вспыхивали огни, тускло светились головешки загасших костров да доносился слабый шум каких-то работ.
Возвратившись к Калигарийским воротам, император и Франдзис спешились и поднялись на башню, замыкавшую выступ Влахернской стены. С этой высоты открывался обзор во всех направлениях – в сторону Золотого Рога и Месотихиона.
Часовые, дежурившие на башне, доложили: сразу после захода солнца турецкие артиллеристы принялись перетаскивать свои пушки ближе к стене через засыпанный солдатами ров. А турецкие корабли, судя по бортовым огням, начали движение к стенам со стороны Золотого Рога и Мраморного моря.
Не оставалось никаких сомнений: турки готовятся к решающему штурму. И понедельник 28 мая станет тем днем, когда защитникам великого города придется выдержать ожесточенный натиск непримиримого врага.
– Прощай, дорогой Франдзис! – Император обнял своего верного секретаря. – Быть может, нам уже не суждено будет увидеться. Езжай домой и отдохни немного перед решительным сражением.
Отпустив Франдзиса, император еще долго всматривался и вслушивался в темноту ночи. Ему было не до сна.
Глава двадцать четвертая
Война, война!
Дошедшая до такой степени лесть при дворе, и от людей, в дела употребленных, начали другими образами льстить. Построит ли кто дом, на данныя от нея отчасти деньги или на наворованныя, зовет ее на новоселье, где на люминации пишет: «Твоя от твоих тебе приносимая»; или подписывают на доме: «щедротами Великия Екатерины», забывая приполнить, но «разорением России»; или давая праздники ей, делают сады, нечаянный представления, декорации, везде лесть и подобострастие изъявляющия.
Князь Щербатов
Голоса
Ордер Вашей Светлости от 24-го числа (августа) об открытии с турецкой стороны военных действий их морскими силами против бота и фрегата российского я получить имел счастие сего дни. Нет никого в здешнем корпусе, который бы сего неровного сражения и по обстоятельствам его столь важного для флага российского не почитал справедливым предзнаменованием усугубления славы знамен российских, Вами одушевляемых….
Сего дни соединился я с Херсонским и Александрийским легкоконными полками, последний нашел в наилучшем состоянии, лошади бодры и сбережены, в первом же лошади требуют великого поправления… Сей час получил от ольвиопольского коменданта повторение, что из противолежащего турецкого селения уехали жители в Очаков, убоясь приближения наших войск…
Кутузов – Потемкину
Вчера поутру я был на броде Кинбурнской косы, на пушечный выстрел. Варвары были в глубокомыслии и спокойны. Против полден обратился сюда (в Херсон). Здесь сказано мне, будто рано там стреляли, но сего не было… Накануне разрыва Очаковский паша нашего из Кинбурна присланного принимал ласково, сказывал, что наш посланник арестован (Булгаков) и замкнут в титле Стамбульского кабальника…
Суворов – Потемкину
Вы велики. Ваша Светлость! Вижу ясно, как обстоят дела. Будущее управляет настоящим… Виды красивы здесь, под Херсоном и Кинбурном, но для любителей вахт-парадов: все в обороне, актеры нехороши, да и все они люди… Ну, пусть-ка варвары сунутся. Сколько их наберется? Тысяч пять – девять, если пустят в ход все морские силы. Чем далее они углубятся, тем скорее мы татар отрежем – вот они и безоружны. На Лимане под Очаковом имеют они четверть своих сил или около того, да еще кое-что под Трапезундом, Варной, Суджуком. Могли бы более иметь, да не могут обнажить Дарданеллы. Разбить их поскорее под Очаковом? Ежели станут они драться, не дожидаясь подкрепления, и храбрость выкажут, мы с ними славно позабавимся, с теми, кто уцелеет…
Суворов – Потемкину (по-французски)
Все турецкие у наших берегов в Тавриде находящиеся суда ваше превосходительство прикажите тотчас удержать, не позволяя им никак оттуда удаляться и сколько таковых будет удержано, мне рапортовать.
Ордер Потемкина правителю Тавриды Каховскому
Получив известие, что один из слуг Ваших заточен в Семибашенный замок в Константинополе, я, другой слуга Ваш, посылаю против мусульман всю мою армию.
Иосиф – Екатерине
Война!
Война!!
Война!!!
Всего пять букв, но сколь грозное предвестье скрыто в них, в этом коротком слове.
Турок объявил войну 13 августа. Ее императорское величество Екатерина Алексеевна изволили подписать манифест о войне 7 сентября. Перед этим было спрошено у Александра Васильевича Храповицкого, какие реки составляют границу России с Турциею. Он сего не помнил, но справился с картою, и ответствовал: Буг и Синюха.
Набросок манифеста сочинила сама государыня, а отделку его поручила Александру Андреевичу Безбородко. Манифест получился несколько многословным, но таков был дух восемнадцатого столетья – «столетья безумна и мудра», как оценил его неукротимый строптивец Радищев.
Царскосельский дворец дышал равномерно, как всегда. Государыня была ровна и тверда, война ее нимало не озаботила. Она ждала ее – и дождалась. Полюбопытствовала только: что говорят в Петербурге о войне?
Храповицкий отвечал, что люди спокойны, скорей даже равнодушны. Слишком далеко она от северной столицы, эхо ее едва слышно. Уныния нету, и все спрошенные военные готовы тотчас же выступить.
– Ну да, иного не может быть, – сказала Екатерина, выслушав его, – теперь мы куда лучше изготовились, нежели в прошлую кампанию. В две недели войска могут быть на своих местах. Князь Григорий Александрович, – подчеркнуто твердо произнесла она его имя, – не даст промашки. Он ее, войну, ожидал, как и я. Но она против ожидания поспешила. Что ж, встретим ее как должно.
Александру Васильевичу Храповицкому прибавилось работы: государыня чаще, чем обычно, требовала справок и бумаг. Удивляться ли сему? Какова, например, пространственная протяженность империи? Подал записку: 165 градусов долготы, от островов Эзеля и Даго до Чукотского носа. Тако ж 32 градуса широты, считая от Терека до Северного Ледовитого океана.
Потом зачем-то понадобился строго секретный проект, сочиненный князем несколько лет назад, чтобы, воспользовавшись персидскими неустройствами, занять Дербент и Баку и, присоединя к ним Шилянь, поименовать Албаниею для будущего наследия великого князя Константина Павловича. Да, было и такое, и быльем поросло. А ведь император Петр Великий, да пребудет с ним вечная слава, собственной рукою присоединил сии города и земли к России. Да только потомки не сумели удержать: слабехоньки были руки.
– Мы против прежнего преуспели, – заметила государыня, – да только всего не достигли, что нам сей великий государь завещал. Авось война эта кое в чем поможет.
Сказала и трижды перекрестилась.
– Да пребудет с нами милость Господня! Верю: Всевышний не оставит нас в сей войне, как не оставил в минувшей. Как мыслишь?
– Бессомненно, ваше величество, – без запинки отвечал Храповицкий. Ничуть не кривил душой: сила была на стороне союзных держав. Император Иосиф 30 августа направил письмо, в котором, выразив негодование вероломством турок, подтверждал свою союзническую верность и выражал готовность действовать в соответствии с пожеланиями ее императорского величества. О, ежели бы это случилось в Севастополе! Он готов бы был вместе с Черноморским флотом осадить дворец султана и собственноручно палить по нему из пушки.
Государыня немало смеялась таковой горячности. Потом сказала:
– Сними-ка копии да пошлем в Сенат и светлейшему князю. Пусть позабавятся.
Меж тем Потемкин известил государыню, что, как только получил он известие об объявлении войны, тотчас приказал войскам занять диспозиции. По его расчету, все части будут на местах к 6 сентября. Стало быть, они уже в полной готовности сражаться.
– Да, я счастливица: за двадцать пять лет царствования завоевала доверие подданных, – откинув голову, произнесла Екатерина. – Мои генералы, офицеры и солдаты без колебаний пойдут в бой за Россию и государыню. Свою государыню, – прибавила она. – Оттого я бодра духом.
В самом деле, распорядок ее жизни ничуть не изменился. Она по-прежнему просыпалась в шесть часов утра со звоном дворцового колокола и после короткого туалета пила свой утренний, притом крепчайший, кофе, затем, после прогулки с Марьей Саввишной и в сопровождении целого выводка левреток, возвращалась в кабинет. В девять – время приема и подписи бумаг. Первым докладывал обер-полицмейстер о событиях в столице. Затем наступала очередь Безбородко и других сановников. Все это время в кабинете находился Храповицкий, записывая поручения государыни под ее диктовку.
То и дело она осведомлялась, есть ли курьер от Потемкина с театра военных действий. Театр не торопился раздвигать свой занавес: и русские, и турки все еще топтались, приготовляясь.
Но вот – началось! Курьеры прибывали один за другим. Кинбурн – Кыл-бурун, по-турецки «острый нос». Этот нос нацелился на турецкий Очаков. Турки такого не стерпели и первым делом атаковали его десятком своих судов.
Все смешалось: бой морской, бой штыковой. Турок числом, русский – уменьем. Кабы не Суворов и суворовский дух, пришлось бы худо.
Турки высадили десант, многотысячный, как всегда; окопались, нацелили пушки на крепостцу и открыли оголтелый огонь.
Суворов молился. Святое – молитва! Звуки боя не помешали ему отстоять обедню. Адъютант и ординарец с конем в поводу его дожидались.
– С Богом, братцы!
Поднял солдат, бросились на турка, покололи, порубили несчетно, потопили в море. И все, можно сказать, на виду у очаковского паши.
Паша боялся русских. Но более всего боялся гнева султана: повелитель правоверных посулил отрубить ему голову, если он не возьмет Кинбурн.
Легко сказать – взять Кинбурн, коли там сам Суворов. Где Суворов, там одоление и победа.
Очаковский паша отрядил все корабли, уцелевшие от первой атаки на Кинбурн, в новый бросок. Приблизились. Их встретил пушечный шквал замаскированных батарей.
Но пуще всего отличилась галера «Десна». Да, да, та самая, на которой государыня совершала свое плавание по Днепру. Императорская галера!
Ею командовал мичман Ломбард, родом с Мальты. И было ему двадцать пять лет. Он знал родословную галеры и гордился ею. Во что бы то ни стало желал отличиться. И чтобы слух о «Десне» и ее капитане достиг ушей ее величества.
Два турецких фрегата и четыре галеры шли на сближение с «Десной». Она казалась им легкой добычей. Просчитались! Когда приблизились – оторопели. Им показалось, что перед ними брандер, зажигательное судно. Брандеров же они панически боялись.
«Десна» открыла огонь. Пушечный. Неравный бой длился почти три часа. Турки ретировались.
Адмирал Мордвинов, командовавший соединением российских кораблей, приказал отдать мичмана Ломбарда под суд за самовольство. Сам он и пальцем не пошевельнул в виду турецкой эскадры. Суворов написал Потемкину:
«Шевалье Ломбард атаковал весь турецкий флот до линейных кораблей; бился со всеми судами из пушек и ружей… и по учинению варварскому флоту знатного вреда сей герой стоит ныне благополучно под кинбурнскими стенами».
Ломбард продолжал «самовольничать». Когда турецкий флот вновь устремился на Кинбурн, он отделился от флотилии без приказа и смело атаковал суда противника. «Десна» вновь вышла победительницей из боя, подвиг ее командира был оценен Георгиевским крестом и чином лейтенанта.
Обо всем этом было доложено государыне. Она и радовалась и печалилась. «Плакали», – односложно занес в свой потаенный дневник Храповицкий.
Затем пришло донесение о дальнейших действиях полков и эскадронов под командою Суворова. Под ним убило лошадь, он был ранен, да не единожды, терял сознание и вновь вставал в строй и вел за собой солдат.
«Рассказывано об отбитии турок от Кинбурна, – заносил в дневник Храповицкий, – Суворов два раза ранен и не хотел перевязываться до конца дела. Похвалена храбрость его. Турок побито больше 4000».
– Кавалериею святого Андрея Первозванного отличаю сего храбреца, высшим отличием, ибо всех нас он поставил на колена, – сказала она Храповицкому. – А Ломбарда произвесть в капитан-лейтенанты. Всех наградить, кто был представлен твоим тезкою Александром Васильевичем, – закончила она.
Екатерина была неколебимо уверена: ее Гриша, ее Потемкин не оплошает и победоносно завершит эту кампанию. Она всячески ободряла его. «Будь уверен, что не подчиню тебя никому, кроме меня», – писала она ему.
Однако до нее то и дело доходили вести, что ее князь потерялся, пал духом и впал в хандру. Вести то были верные, да и сам он в своих письмах то подтвердил. Он – статочное ли дело! – просил отставки, а главнокомандование поручить старому фельдмаршалу Румянцеву. Более того: готов был сдать Крым! А Румянцеву писал, будучи в полном упадке: «Ведь моя карьера кончена… Я почти с ума сошел… Ей-Богу, я не знаю что делать, болезни угнетают, ума нет».
Ничего подобного Екатерина не допускала. Она писала ему: «Всего лучше, что Бог вливает силы в наших солдат, тамо да и здесь не уныли, а публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои и баталии складывает, и Царьград бомбардирует Войновичем. Я слышу все сие с молчанием, а у себе на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, естьли бы где и вырвалось что неприятное. Усердие А. В. Суворова, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало: ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности…
Молю Бога, чтоб тебе дал силы и здоровье и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то тебе и покою нет; для чего не берешь себе генерала… скажи, кто тебе надобен: я пришлю. На то и даются фельдмаршалу генералы полные, чтобы один из них занялся мелочию, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, в том я уверена; но, во всяком случае, не унывай и береги свои силы: Бог тебе поможет и не оставит, а Царь тебе друг и подкрепитель…»
Екатерина подбодряла его неустанно, не жалея ни времени, ни бумаги, ни перьев, она писала ему столь же часто, как и своему алтер эго, своему духовному поверенному барону Гримму, распространителю ее славы. И князь мало-помалу стал приходить в себя.
«Я с не малым удовольствием вижу, что ты моим письмам даешь настоящую их цену, – писала она ему, – они есть и будут искренно дружеские, а не иначе. Беспокоит меня твое здоровье: я знаю, как ты заботлив, как ты ревностен, рвяся изо всей силы; для самого Бога, для меня имей о себе более прежнего попечение; ничего меня не страшит, опричь твоей болезни. В настоящее время, мой милый друг, ты не просто частный человек, который живет и все делает, как ему угодно: вы принадлежите государству и мне; ты должен, приказываю тебе, беречь свое здоровье; я должна сделать это, ибо благо, защита и слава империи поручены твоим заботам, и нужно быть здоровым и телом и душою, чтобы исполнить дело, которое ты имеешь на руках. После этого материнского увещания, которое прошу принять с покорностью и послушанием, буду продолжать…»
Но только Потемкин стал было поправляться, как новая беда обрушилась на него: Черноморская эскадра под командою Войновича, которой было предписано искать и разбить турецкий флот в Черном море, была разметана жестокой бурей, а один фрегат без руля и без ветрил занесло в Константинополь, где он был пленен.
«Матушка-Государыня, – причитал князь, – я стал несчастлив при всех мерах возможных, мною предприемлемых, все идет навыворот. Флот севастопольский разбит бурею… Корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я при моей болезни поражен до крайности, нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому… Ей, я почти мертв, я все милости и имение, которые получил от щедрот Ваших, повергаю к стопам Вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу к графу Петру Александровичу Румянцеву, чтоб он вступил в начальство… Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком; но то, что я был Вам предан, тому свидетель Бог».
Крик и стон… Неужто совсем сломлен? Сильный человек, сильный духом, сильный характером, сильный мужеством – прошел войну с турком, достаточно ожесточенную, с честью, как подобает воину. И вдруг полная растерянность и слабость.
И Екатерина опешила. Предмет был деликатный, она ни с кем не делилась, не могла делиться. Ведь их связывали отношения более чем близкие: тайное супружество перед лицом Господа. И было дитя, воспитанное в тайности ото всех, даже от самых доверенных…
Нет, она должна стать сильней, решительней, вытащить его из этой пучины безволия, растерянности. Никакого послабления! Она на миг представила себе, как этот огромный, великой, можно сказать, мужской стати и энергии человек пал в трясину и не в силах оттуда выбраться, – и ужаснулась!