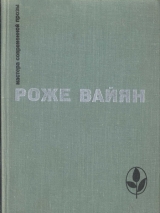
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Роже Вайян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 48 страниц)
Появление внука «великого Летурно» и Нобле не вызвало особого удивления. В первые годы после Освобождения почти вся городская верхушка бывала на праздниках, которые устраивались коммунистами. Тогда в моде были благотворительные базары на американский лад – продажа с аукциона. Владелец скобяной лавки, фамилия которого неизменно возглавляла список реакционных кандидатов на муниципальных выборах, каждый год жертвовал для аукциона старинное кресло стиля Людовика XV и сам же выкупал его на торгах, набавляя одну тысячную кредитку за другой. Он перестал бывать на этих праздниках лишь после того, как в результате блока реакционных партий коммунисты департамента лишились депутатских мест в Национальном собрании. Но в апреле 195… года еще не все мосты между противными сторонами были сожжены, и предполагалось, что сам мэр, радикал-социалист, пожалует на бал около полуночи и чокнется с рабочим Кювро.
Филипп Летурно и его спутники сели недалеко от оркестра – Филипп между двумя своими дамами, лицом к залу, а Нобле напротив них, спиной к публике.
* * *
Как только я показался в зале, меня усадили за стол, украшенный красными гвоздиками. Я прислушивался к разговорам. Речь шла о Филиппе Летурно. Кювро – «рабочий Кювро», как его звали во всех окрестных промышленных городах, – старик лет семидесяти, говорил:
– Франсуа Летурно никогда не пришел бы на бал к рабочим. Но уж если бы пришел, то, конечно, без галстука бы не явился.
Филипп Летурно был без пиджака, в пуловере, какие носят велосипедисты на гонках или спортсмены-лыжники.
– Старик вел лютую борьбу против нас, но он нас не презирал, продолжал Кювро. – Он бы никогда не привел к нам потаскушек…
– У блондинки совершенно приличный вид, – возразила Раймонда Миньо, жена инспектора почтового ведомства. Ее муж был секретарем местной секции компартии, но она сама никогда не выражала желания стать коммунисткой.
Бернарда Прива-Любас гладко зачесывала назад свои белесые волосы, не красилась, носила блузки и английский костюм строгого покроя. Тощая фигура, одинаково плоская спереди и сзади. Под сердитую руку Натали говорила про нее: «Линялая – как будто целый век простояла под проливным дождем».
– Блондинка вырядилась под мужчину, – заметил Кювро. – Видали мы таких в Лионе лет двадцать пять назад. Я бы свою дочь и близко не подпустил к такой девке.
– Ты же не знаешь ее, зачем так говорить? – запротестовал Миньо.
– Вот они каковы, твои товарищи! – сказала Раймонда. – Увидят какого-нибудь приличного человека и сейчас же наскажут про него всяких гадостей.
Миньо пожал плечами.
Кювро не сводил с Филиппа и его компании пронзительных, живых глаз, смотревших зорким взглядом из-под лохматых седеющих бровей.
– А этот малый, – продолжал он, – хоть и невежа, однако сразу видать породу Летурно. Ростом вон какой вымахал, но сырой, поди, слабогрудый. Помрет в санатории, как его папаша. А шея толстая, как у деда. Бычья шея. Такие в работе выносливы, будто быки в ярме, и вдруг сразу – хлоп! Старик Летурно так и не оправился после нашей забастовки двадцать четвертого года.
– Нет, что ни говорите, по-моему, он красавец, – воскликнула Раймонда Миньо. И, повернувшись к мужу, добавила: – Какая у него шея!.. Ну вот, знаешь, как в твоей книжке у этого, как его… Юпитера Олимпийского.
Миньо в негодовании встал и ушел от нас.
На другом конце стола молча сидела Пьеретта Амабль, «мадам Амабль молодая». Я даже хорошенько не разглядел ее черт – так меня поразили ее глаза, громадные черные глаза. «Не видать лица – одни глазищи», – говорили в Клюзо. Она сидела, сложив руки на коленях, держалась очень прямо, но свободно, так же как сидел в минуты отдыха ее дядя, мой сосед в деревне Гранж-о-Ван, похожий на королей Меровингов.
Миньо сходил узнать, сколько выручили в буфете и каков сбор в кассе: за входной билет с мужчин брали по сто франков, а с дам по пятьдесят. Вернувшись, он сел возле Пьеретты и занялся подсчетами.
– Ну, как дела? – спросила она.
– Плохо.
Сбор далеко еще не покрывал расходов за аренду помещения и оплату оркестра. А ведь бал устроили с целью поправить финансовые дела секции – у нее накопилось долгов на девяносто семь тысяч франков: федерации департамента – семьдесят пять тысяч и книготорговой фирме за брошюры и газеты – двадцать две тысячи.
– Да почему же это товарищи не идут? – с беспокойством говорил Миньо.
Всякий раз, как у секции случалась какая-либо неудача, Миньо лишался сна и аппетита.
Оркестр играл медленное, тягучее буги-вуги. Танцевали только три пары одни девушки. Иногда та, которая танцевала за кавалера, отодвигалась от своей партнерши, и она, сгибая колено, проскальзывала под ее поднятой рукой мягким, плавным движением, должно быть похожим на тот «малый реверанс», о котором писал герцог Сен-Симон.
У буфетной стойки толпились молчаливые молодые люди, уже взиравшие на мир посоловевшими глазами и чувствовавшие потребность опереться на плечо соседа; время от времени они «вкалывали еще» и передавали друг другу стаканы красного.
– Это что же такое делается? Видать, нынче только девушки с девушками танцуют, – сказал пожилой рабочий, сидевший за ближайшим столом.
– А пусть кавалеры поменьше пьют, – отозвалась его соседка.
– Кавалеры, разбейте-ка парочки! – крикнул старик.
Двое юношей отделились от кучки приятелей и двинулись наперерез танцевавшим девушкам.
– Убери лапы, – сказала одна.
– Пойди проспись, – сказала другая, глядя через плечо партнерши.
Один парень все не отставал. Танцорки круто повернули, и он мешком свалился на пол. Девушки сделали три скользящих шага, та, которая вела, отодвинулась, а вторая проплыла под ее рукой, склонив колено в «малом реверансе». Они повторили это па. Парень тем временем медленно поднялся и возвратился к приятелям, которые, хихикая, глядели на него; ему поднесли еще стакан красного.
– Вот свиньи! – возмущался Фредерик Миньо. – Покати сейчас шар им под ноги – все и повалятся, как кегли.
– Просто сердце переворачивается смотреть на них, – сказала Пьеретта.
Я сидел напротив нее, но не решался слишком бесцеремонно ее рассматривать, хотя она вызывала у меня сильнейшее любопытство. Ее огромные черные глаза поражали какой-то необыкновенной чувствительностью: они отражали малейшую игру света и тени, когда она поворачивала голову к эстраде или к дальнему концу зала, и так живо передавали все движения ее души, все впечатления от того, что она видела и слышала вокруг; право, ее глаза напоминали море, когда смотришь на него с самолета или с высокой скалы и видишь, как скользят по нему мимолетные тени бегущих в небе облаков. В каждом ее движении сквозили и смелость и застенчивость, что-то похожее на зарождавшийся и тотчас подавляемый порыв чувства; да, в ней было то, что некогда называли «сдержанностью», – слово, ныне уже вышедшее из употребления.
Оркестр заиграл вальс. Пьеретта повернулась к соседнему столику и поглядела на ту самую девушку, которая ответила старику, что молодые люди слишком много пьют и потому недостойны танцевать с девушками.
– Маргарита! – тихонько окликнула ее Пьеретта.
Девушка кивком головы выразила согласие и тотчас встала. Пьеретта обняла ее за талию и повела на середину зала. Они вальсировали безупречно, в чисто французской манере, еле переступая ногами, держа корпус немного напряженно, и, четко делая каждый поворот, кружились почти на месте. Кроме них, никто не танцевал, весь зал следил за ними взглядом. Обе танцорки были прелестны – тоненькие, стройные, с гордой посадкой головы, с ярко накрашенными губами; на обеих были прямые облегающие юбки и легкие блузки: у Пьеретты – светло-зеленая, у Маргариты – красная.
После вальса Пьеретта познакомила меня со своей партнершей.
– Это Маргарита, – сказала она. – Моя товарка, мы работаем в одном цехе. Она хорошая подружка, но ужасно бестолковая.
– Я политикой не занимаюсь, – заявила Маргарита и тотчас добавила: – А нашу Пьеретту я все-таки очень, очень люблю.
Подруги стояли передо мной, обняв друг друга за талию.
Я знал от Красавчика, что Пьеретте Амабль двадцать пять лет. Маргарита, как я понял, была ее школьной подругой и, значит, приблизительно ее ровесница. Но сейчас обе они, разрумянившиеся от танцев, казались гораздо моложе, у них был тот торжественный и задорный вид, какой отличает юных девушек, впервые попавших на бал.
– Маргарита у нас капитан баскетбольной команды, – сказала Пьеретта. Она защищает знамя наших хозяев по всему департаменту.
– Вот когда я состарюсь и меня уже не примут в команду, я встану под знамена Пьеретты, – ответила Маргарита.
– А пока что, – заметила Пьеретта, – она предоставляет мне бороться за нее и ни чуточки не помогает.
– Вот уж неправда! – возмутилась Маргарита. – В цехе я слушаюсь ее больше, чем мастера.
Но этими фразами, в которых звучали намеки на какие-то старые или недавние споры, они перебрасывались очень весело, с заговорщическими подмигиваниями и тихим смешком.
* * *
Пока Пьеретта Амабль и Маргарита кружились в вальсе, Натали Эмполи внимательно смотрела на них.
– Здесь только одна девчонка в форме.
– Кто же? – спросила Бернарда Прива-Любас.
– Вон та, черноглазая, в зеленой блузке.
– Фи! У нее красные руки.
– У работницы такие и должны быть, – сказал Летурно. – Руки, исполненные жизни. Совершенно такие же, как у той фигуры, что вырезана из дерева на носу ладьи, плававшей некогда по озеру Неми…
– Хороши вы оба! – воскликнула Натали. – Увидели шикарную девчонку. Чего бы, кажется, лучше? Так нет, Бернарда язвит, а Филипп… Несчастный ты этакий! Ну когда женщина будет для тебя женщиной, а не только предметом сравнения с какой-нибудь картиной или статуей?
Пьеретта и Маргарита, вальсируя, упорхнули на другой конец зала, потом снова приблизились.
– По-моему, она просто совершенство, – восторгалась Натали.
– И по-моему, тоже, – согласился Филипп.
Нобле обернулся посмотреть, о ком идет речь.
– Вам, наверно, еще представится случай познакомиться с этой особой, сказал он Филиппу. – Это мадам Амабль, рабочая делегатка.
– Нобле, Нобле! – воскликнул Филипп с деланной игривостью. – Почему вы до сих пор не доставили ее мне, связанную по рукам и ногам? Вы, верно, хотите держать ее в своем монопольном владении?
– А что ты будешь с ней делать? На что она тебе, спрашивается? съехидничала Натали.
– В первый раз вы выражаете желание войти в непосредственное общение со своими рабочими, – довольно сухо заметил Нобле.
Слова «со своими рабочими» он произнес таким тоном, будто поставил их в кавычки.
Нобле был обижен заявлением Филиппа, что он пойдет на вечер для того, «чтобы иметь наконец случай встретиться со своими рабочими». Ведь это был косвенный упрек по адресу начальника личного стола. Возвратившись домой, он всю ночь проговорил о такой обиде с женой, и та только разбередила его рану: «Ты за него всю работу делаешь, а он тебя еще и упрекает…»
– Нобле, – сказал Филипп, – вы, я вижу, злопамятны.
– В следующий раз, как мадам Амабль придет в контору, я немедленно представлю ее господину директору по кадрам.
– «Мадам»?.. – удивилась Натали. – Такая девчурка и уже замужем?
Нобле замялся. Очевидно, ему не хотелось отвечать Натали. Но, поразмыслив, он решил, что вежливое обращение с носительницей фамилии Эмполи входит в его обязанности.
– Да, – сказал он, – мадам Амабль была замужем. Но она развелась или разводится сейчас с мужем. По правде сказать, она выгнала его.
– Люблю энергичных женщин! – заметила Натали.
– Досадная история, – продолжал Нобле. – Муж ее оказывал нам небольшие услуги…
– Нам? – переспросил Филипп. – Кому это «нам»?
– Ну дирекции. Он сообщал некоторые сведения относительно личной жизни руководителей профсоюза. Вы понимаете, что я имею в виду?
– Нет, – отвечал Филипп.
– Ничего, постепенно вы научитесь разбираться в этой кухне. Муж Пьеретты Амабль был нам очень полезен в момент раскола профсоюзов.
– Не понимаю.
– Скоро поймете. Дирекция фабрики должна знать нужды каждого. Какие у кого заблуждения, неприятности. Ваш дедушка часто говорил мне: «Удивительное дело, Нобле, до чего дешево обходится покупка человеческой совести!» И вы сами убедитесь, насколько он прав…
– Потрясающе! – воскликнула Натали.
Нобле бросил на нее недоверчивый взгляд, но желание похвастаться своей профессиональной опытностью взяло верх, и он продолжал:
– Наши осведомители… (мы их так называем) помогают нам также выявить несговорчивых… А таких немало.
– Что же вы делаете с несговорчивыми? – спросил Филипп.
– По нынешним законам мы не можем, как прежде, уволить их без дальних разговоров. Ну так мы стараемся их изолировать… И тут возникают всякие проблемы…
Нобле снова бросил на Натали косой, недоверчивый взгляд. Она вызывающе смотрела на него своими узкими глазами.
– Продолжайте, продолжайте, – сказал Филипп.
– Ваш дедушка был бы очень счастлив видеть, что вы начинаете проявлять интерес к делам фабрики, – заметил Нобле.
Филипп открыл рот, хотел возразить, но удержался.
– Ну рассказывайте, рассказывайте, это очень увлекательно, – воскликнул он.
– Всякие проблемы, – продолжал Нобле. – И эта самая Пьеретта Амабль, по вашему мнению такая очаровательная…
– Конечно, очаровательная, – вставила Натали.
– Дорого она нам стоит. Ведь она что устроила! Добилась, что в ее цехе каждая работница работает только на одном станке, а по нашим правилам работница должна работать на двух-трех станках. И вот встал вопрос: не перевести ли эту самую мадам Амабль в Сотенный цех? Я вам его показывал, мсье Филипп. В Сотенном цехе нерушимо держатся обычаи и дисциплина еще тех времен, когда хозяином фабрики был ваш дед… Помните, вас поразило, какая там тишина? Никто голосу не подаст. Станки смазаны отлично и только чуть-чуть пощелкивают. Помните, вы мне еще тогда сказали: «Прямо как в церкви». И вот мы, знаете ли, поостереглись переводить туда Пьеретту Амабль. Хорошо, если она покорится тамошним порядкам, а что как она перемутит всех своих товарок по работе? Я высказался за осторожность. Лучше с огнем не шутить. Так что мадам Амабль осталась в своем цехе.
– She is tough [12]12
Она упрямая (англ.).
[Закрыть], – сказала Натали. – Крепкая. Она мне нравится.
– Когда Пьеретта Амабль узнала, что ее муж время от времени приходит потолковать со мной, она захлопнула дверь перед его носом, заперлась и выбросила его пожитки в окно. Она всполошила всех красных в Клюзо, и бедняге пришлось уехать подальше отсюда.
– Интересно бы с ней познакомиться, – сказал Филипп.
Нобле, очевидно прекрасно знавший повадки хозяев в отношении красивых работниц, внимательно поглядел на молодого директора, но из благоразумия промолчал.
– Что ж, – проговорил он наконец, – надо знать своих врагов. Ваш дедушка на днях говорил мне, что, по его мнению, у нас во всем департаменте нет такого опасного врага, как эта молодая женщина.
Филипп наклонился к Нобле.
– «У нас»? – резко сказал он. – Почему дед всегда говорит «у нас»? Ведь его давно отставили от дел. Чего ж он суется?
– Ваш дедушка принимает близко к сердцу все, что касается фабрики.
– АПТО украло у нас фабрику, – сказал Филипп. – Деду следовало бы дружить со всеми недругами АПТО.
– Браво! – воскликнула Натали. – Не стесняйся, излей свою наболевшую душу господину галерному надсмотрщику.
Нобле немного отодвинул свой стул, желая показать, что он разговаривает только с одним Филиппом.
– Господин Летурно, – сказал он, – вы еще очень молоды и не знаете важных событий в истории фабрики. В тысяча девятьсот двадцать четвертом году у нас была долгая и ужасная забастовка. Она весь город довела до нищеты. Ваш дедушка был оскорблен поведением своих рабочих, и, как только забастовка кончилась, он тут же уступил фабрику АПТО, а сам отошел от дел.
– Вот здорово! – сказала Натали. – Врет и сам себе верит, совсем как твоя мать, Филипп.
– Бросьте, Нобле, – сердито оборвал его Филипп. – Вы прекрасно знаете, что после забастовки двадцать четвертого года дед не мог заплатить в срок по векселям, АПТО этим воспользовалось и задушило его.
– При участии мамаши Филиппа, – спокойно добавила Бернарда.
– Которая потом вышла за моего отца, – продолжала Натали. – Так что теперь АПТО – это я!
– Хвастунья! – проворчала Бернарда.
– Ну конечно, АПТО – это я. Хотите, приведу доказательство? А почему же, скажите, пожалуйста, я всегда за всех плачу?
Бернарда наклонилась к Нобле и, показывая пальцем на Натали, прошипела:
– Сразу сказалась еврейка.
Нобле отодвинул свой стул.
– Я не желаю ничего знать о личных делах моих хозяев.
– Нобле, – сказала Натали, – АПТО истомилось жаждой. Закажите нам что-нибудь, только поживей.
Натали с интересом следила за стариком Нобле. Оказывается, его рачьи глаза могли принимать выражение ненависти. Она ждала взрыва. Но привычка взяла верх, и Нобле подчинился представительнице АПТО. Он поманил старушку буфетчицу.
– Ну как, тетушка Тенэ? – сказал он. – В буфете хозяйничаете?
– Помогаю, чем могу. Ведь праздник-то устроила наша партия, – ответила буфетчица.
Нобле повернулся к Филиппу.
– Вот, полюбуйтесь на нее! – сказал он. – Тридцать лет проработала на фабрике и на старости лет не нашла ничего лучшего, как сделаться коммунисткой!
– Значит, она оказалась понятливее вас, – заметил Летурно.
– Пожалуйста, не говорите так! – взмолился Нобле. – Только не здесь!
– А вы разве не знаете, что Филипп – коммунист? – спросила Натали и, обратившись к буфетчице, добавила: – Да, да, ваш директор по кадрам коммунист. Разумеется, не из опасных. Коммунист в той мере, в какой он вообще может быть кем-нибудь. Коммунист на словах. Не очень-то на него рассчитывайте.
Старуха буфетчица стояла не шевелясь, с бесстрастным выражением лица.
– Что желаете заказать? – спокойно спросила она.
– Бутылку красного, – ответил Филипп.
– Ваш директор по кадрам совсем потерял голову! – воскликнула Натали. Вообразил, что раз мы в гостях у коммунистов, то все должно быть красное, даже вино. Скажите, что у вас есть по части спиртного?
– Коньяк имеется, – ответила старушка.
– Тащите сюда коньяк.
– Для всех четверых? – спросила буфетчица.
– Бутылку коньяку и четыре рюмки, – скомандовала Натали. – АПТО умирает от жажды. И знаете ли, очень интересно получится: господин Нобле немножко выпьет и, набравшись храбрости, ругнет меня. Ведь ему этого безумно хочется.
Нобле встал.
– Позвольте пожелать вам всего хорошего.
Он поймал взгляд Филиппа.
– Завтра я должен к восьми утра быть в конторе.
И он широким шагом пошел через зал.
Несмотря на старомодные черные брюки в полоску, жесткий воротничок с закругленными кончиками и узенький пиджак, этот старый служака не был смешон. У него вдруг появилась уверенная поступь и смелая осанка, как у горцев-крестьян.
– Смотри-ка, а проститутка-то оказалась не такой уж почтительной, как ты думал, – воскликнула Натали.
И все трое весело расхохотались.
* * *
Зал постепенно наполнялся.
За одним из столиков в буфете сидели африканцы-землекопы, работавшие на строительстве железной дороги. Они заказали себе лимонаду. На всех были рубашки ярких цветов, пестрые галстуки, праздничные костюмы. Но пригласить девушку потанцевать никто из них не осмеливался, боясь услышать насмешливый отказ: «Ходи-ка лучше по дворам: „Ковры, циновки продаем! Ковры, циновки!“»
Явились на бал парни из местной команды регбистов, все трезвые. Они стали танцевать. Женских пар теперь было уже немного, но они по-прежнему танцевали лучше всех.
К нашему столику подсели Блэз и Мари-Луиза Жаклар, чета педагогов, которых я уже встречал на съезде федерации партии. Их деятельность в качестве активистов заключалась главным образом в том, что во время выборов они предоставляли себя и свой маленький автомобиль в распоряжение партийной организации, помогали устраивать предвыборные собрания, развозили агитаторов по всей округе; на такой работе эти добровольные шоферы ежегодно «накручивали» тысяч двадцать километров. Супруги много читали, подписывались на несколько журналов, коммунистических и других, от «Нувель критик» до «Тан модерн». Когда я встретился с ними в первый раз, они сделали для себя открытие – прочли роман Алексея Толстого «Хождение по мукам».
На балу в Клюзо они тотчас заговорили со мной о своем новом увлечении, о книге Сафонова «Земля в цвету». Мне нравилась их восторженность.
На другом конце стола Миньо и его жена сердито спорили о чем-то вполголоса.
Вдруг Раймонда Миньо вскочила, вся бледная, и схватилась за бедро.
– Боли! Опять боли! – воскликнула она.
Миньо и Кювро подхватили ее под руки – она стояла на одной ноге, другую ногу свело судорогой, – потом у Раймонды началось удушье.
– Мы ее отвезем домой на машине, – тотчас предложила Мари-Луиза Жаклар.
Раймонда простонала, задыхаясь, останавливаясь после каждого слова:
– Доктор… доктор… предупреждал… чтобы не раздражали меня… иначе опять вернутся боли…
Миньо и один из распорядителей повели ее на улицу к автомобилю.
– Зачем ты с ней споришь? – упрекал его потом Кювро.
– Не могу я выносить, чтоб моя жена и вдруг называла африканцев «черномазые обезьяны».
– Это правильно, конечно… – согласился Кювро. – Но ведь ты же ее знаешь…
– Как только вошли в зал наши африканцы, она принялась меня шпынять, зачем я вожу ее в такие места, где бывают «черномазые обезьяны». Не мог же я это спустить.
– Ты ведь ее знаешь, – повторил Кювро. – Не надо было приводить ее сюда.
– Она постоянно пилит меня, что я никуда ее не беру, что она скучает дома одна.
Народу набралось много. Мари-Луиза Жаклар кое-что рассказала мне о супругах Миньо. Раймонда – дочь богатых крестьян, родители ее живут в деревне в Брессе. Ее братья и сестры все крепыши, здоровяки, только она одна уродилась хворая. В годы войны она жила спокойно, читала бульварные романы, покупая их целыми охапками, по пятьдесят выпусков, на ярмарке в палатке странствующего букиниста. В дни Освобождения ей исполнилось двадцать лет; она только и мечтала, как бы распроститься с родительской фермой, избавиться от черной работы; отец заставлял ее откармливать на продажу уток и гусей. Когда Фредерика Миньо назначили начальником почтового отделения в главном городе кантона, он основал там местную секцию СРМФ [13]13
Союз республиканской молодежи Франции.
[Закрыть]; на организационное собрание была приглашена молодежь из всех окрестных сел. Раймонда, заметив, что она приглянулась Фредерику, решила вступить в Союз. Они поженились в тот год, когда Миньо, сдав конкурсный экзамен, получил место инспектора почтового ведомства и был назначен в Клюзо. Раймонда надеялась завязать знакомство о местной знатью. Однако Миньо приводил к себе домой только коммунистов; три раза в неделю он уходил по вечерам на собрания, в остальные вечера читал или готовился к выступлениям. В первый раз «боли» появились у Раймонды в то воскресное утро, когда у нее в доме сел за стол рабочий Кювро, приглашенный к обеду. Раймонда ненавидела Кювро за то, что он резал правду в глаза, как ее родной отец, брессанский крестьянин. Припадки ее выражались в блуждающей судороге, сводившей то руку, то ногу; однажды боль подкатила к сердцу, Раймонда впала в глубокий обморок; боялись, как бы она не умерла. Миньо стал возить жену к докторам, объездил с ней всю область, даже лечил ее у какого-то знахаря в Сент-Мари-дез-Анж.
– Недавно мы возили ее в Лион, к невропатологу, – сказала Мари-Луиза.
Вернулся Миньо.
– Тебе бы следовало выступить, – сказал он Пьеретте Амабль.
– Только не сейчас, – возразила Пьеретта. – Одни увлечены танцами, а другие пьяны и ничего не поймут.
– Но ведь так нельзя! Коммунисты устраивают вечер, и никто из нас не выступит с речью! – возмущался Миньо.
– О чем, по-твоему, я должна сказать? – спросила Пьеретта.
– Скажи о необходимости единства между трудящимися.
– Выступи сам, если у тебя хватит храбрости.
– Нет, говори лучше ты, – настаивал Миньо.
– Не понимаю – почему?
– Потому, что меня не любят, – заявил Миньо.
– Ну что ты выдумываешь? – воскликнула Пьеретта, и на мгновенье тень затуманила ее большие черные глаза.
В зал вошел Красавчик и направился прямо к нашему столу.
– Добрый вечер, мадам Амабль, – сказал он, энергично встряхнув ей руку.
Я глядел на него с удивлением. Пожимая Пьеретте руку, он расправил плечи и слегка откинул назад голову: так итальянцы здороваются, когда хотят выразить кому-нибудь особое свое уважение (немцы в таких случаях низко склоняют голову, а поляки сгибают стан). Но меня удивило не только то, что он как будто вытянулся во фронт перед Пьереттой. Изменился даже звук его голоса, и в его приветствии: «Здравствуйте, мадам Амабль» – не было нежных или чуть насмешливых заговорщических ноток, которые обычно проскальзывали в его разговорах с женщинами и, случалось, раздражали меня; теперь в его тоне я даже усмотрел некоторую чопорность. И почему он сказал «мадам Амабль», когда все здесь называют эту молодую женщину просто Пьереттой?
– Добрый вечер, Красавчик, – ответила Пьеретта. – Что ж ты так поздно?
– Нынче весь день я провел с земляками в горах, выше Гранж-о-Вана. Они там жгут в лесу уголь.
Он говорил свободно, уверенно, словно вел беседу в светской гостиной. Я лишний раз восхитился учтивой непринужденностью манер, свойственной итальянскому народу.
– …Последние три километра там даже и дороги нет никакой. Товарищи вышли меня встречать и привели с собой оседланного мула. В деревне они не живут – только раз в неделю посылают кого-нибудь туда за провизией.
– А я и не знал, что в здешних краях жгут уголь, – сказал Миньо.
– Ну разумеется, где ж тебе знать! – уколола его Пьеретта. – Ты про наш край знаешь только то, что услышишь в комитете секции.
– Красавчик, – сказала Маргарита, – пригласи меня танцевать.
И она поднялась с места. Итальянец обнял ее за талию, они двинулись скользящим шагом по валу.
– Красавчик… – задумчиво сказал Миньо. – Почему вы все зовете его Красавчик?
– Да ведь это почти что его имя, – сказала Пьеретта. – К тому же он, по нашему женскому мнению, очень хорош, хотя и далеко не красавец. Ты не понимаешь самых простых вещей, бедный мой Фредерик.
– Верно, не понимаю, – согласился Миньо. – Такое несчастье! Отсюда все мои политические ошибки.
– Довольно, довольно! – воскликнула Пьеретта. – Нашел время каяться.
* * *
В эту минуту прибыла еще одна группа регбистов, они явились прямо с пирушки, где праздновали победу, одержанную ими в тот день над командой Лион-Вилербан в матче игроков второй категории. Впереди шествовал капитан команды, сын торговца Бриана, в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, стянутой кожаным поясом с медной пряжкой. У него был особый стиль: полуковбой, полудесантник. Регбисты не любили его и терпели только потому, что его отец, лесоторговец, первый богач в Клюзо, оплачивал майки, бутсы и разъезды команды (женскую баскетбольную команду субсидировало АПТО).
Оркестр заиграл танго. Красавчик и Маргарита были почти одни на кругу. Он ловко вел свою даму, касаясь щекой ее щеки.
Сын Бриана стоял в зале, засунув руки в карманы и широко расставив ноги. Он разглядывал танцующих.
– Ай да макаронщики! Первые кавалеры у наших девчонок! – сказал он очень громко, желая привлечь внимание всего зала.
Красавчик сразу остановился.
– Прошу тебя, – взмолилась шепотом Маргарита. – Ну прошу тебя… Не затевай драки.
Красавчик покружил свою партнершу и оказался как раз напротив Бриана, но на другой стороне зала.
– Прошу тебя… – шептала Маргарита. – Не затевай драки. Ведь этот бал устраивают коммунисты. Полиция только того и ждет… у наших друзей будут неприятности.
Красавчик через каждые два шага тянул свою даму к краю круга и, глядя через ее плечо, старался поймать взгляд молодого Бриана. Маргарита, откидываясь назад, пыталась увести своего кавалера в глубину зала.
– Не смей этого делать, не смей! – шептала она. – Слышишь? Подумай о Пьеретте. Подумай о всех наших товарищах коммунистах.
Они опять принялись скользить, прижавшись друг к другу, но Маргарита чувствовала, что ноги Красавчика дрожат, и поняла, что дрожит он от сдерживаемого гнева.
Бриан медленно пересек зал, расталкивая на пути танцующие пары. Все остановились, кроме Маргариты и Красавчика. Бриан подошел к ним и положил руку на плечо Маргариты. Итальянец немного отодвинулся от девушки. Она побледнела. Зато у Красавчика больше не дрожали ноги. Он весь сжался. «Как будто перед прыжком в воду», – подумала Маргарита.
– Этакая милочка, – сказал Бриан, нажимая ладонью на плечо Маргариты, этакая милочка не для твоего носа, макаронщик!
Маргарита вырвалась от него. В то же мгновенье Красавчик дал ему оплеуху и ударил под ложечку. Бриан свалился.
– Регбисты, ко мне! Ко мне, регбисты! – заорал он, поднявшись на ноги.
Из носу у него текла кровь, он вытирал ее тыльной стороной руки и стряхивал с пальцев красные капли. Красавчик ждал, весь подобравшись, напружинив мускулы. Бриан ринулся на него.
Но уже подоспели распорядители, разняли, растащили противников. Тут прибежали и другие парни, болтавшие у подъезда или сидевшие в соседнем кафе, так как на балу им было скучно.
Регбисты стояли в нерешительности. Всыпать макаронщику? Ладно, это еще куда ни шло. Но вот как пойти против коммунистов? Тут уж другое дело. Коммунисты ни за что не позволят сорвать их собрание или бал, живо дадут отпор. В Клюзо это всем было известно. К тому же в команде регбистов, субсидируемой папашей Брианом, было несколько «сочувствующих», а один даже получил недавно партийный билет. Они держались немного в стороне от остальных. Конечно, неловко, особенно после выигранного матча, смотреть сложа руки, как колошматят капитана твоей команды, но и неохота лезть в драку со своими же ребятами. И регбисты стояли в полном смятении.
Как раз тут в зал вошел железнодорожник Визиль, бывший командир партизанского отряда.
Два парня-распорядителя схватили в охапку Бриана, а тот совсем остервенев, норовил лягнуть их и все пытался расстегнуть пояс, чтобы пустить его в ход.
Красавчик стоял немного поодаль, не сводя глаз с Бриана.
– Ко мне, регбисты! – вопил Бриан, лягаясь изо всех сил.
– Бей макаронщика! Франция для французов! – заорал о другого конца зала колбасник Морель, у которого были неприятности в дни Освобождения, потому что он оказывал «услуги» петэновской милиции. Морель пришел вместе с командой регбистов, он был одним из ее болельщиков.
– Заткнись, колбасник! – прогудел кто-то над его ухом.
Морель вздрогнул и, повернувшись, очутился лицом к лицу с Визилем.
– Ты что? Хочешь, чтоб я еще разок заглянул в твою лавочку? – спросил Визиль.
На лбу у колбасника сразу выступил пот.
– Извините, господин майор! – забормотал он. – Извините!..
У него тряслись отвислые пухлые щеки, тряслись толстые ляжки, тряслось все его жирное тело.








