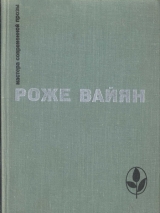
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Роже Вайян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 48 страниц)
Бюзар взглянул на часы: двадцать пять минут третьего. Он опять проверил, сколько времени рука находилась в форме: шесть с половиной секунд. Он отсек «морковку», разъединил кареты. И громко сказал:
– Так я доиграюсь!
Сбросил симметричные кареты в ящик. Он твердо решил:
«Сейчас я починю электрический прерыватель… Я спасен». Загорелся красный глазок. Бюзар вынул, отсек, разъединил, сбросил, вынул, отсек…
Часы показывали сорок две минуты третьего. Раздался крик Бюзара. Рабочий с ближайшего пресса тут же подбежал к нему. Рука Бюзара была защемлена формой по самое запястье.
У него все еще был широко открыт рот, как будто он кричал, но не было слышно ни звука. Рабочий подхватил его под мышки, чтобы не дать упасть. Форма раскрылась. Бюзар рухнул на грудь рабочего. Подбежали остальные. Один из рабочих уже звонил по телефону. А брессанец спал.
Давление в несколько тысяч килограммов Бюзару раздробило всю кисть… Ожоги покрывали руку до самого локтя, так как расплавленная масса, вытесненная из формы зажатой рукой, вытекла сквозь зазоры.
Бюзару наложили жгут. Прибыла карета «скорой помощи». Рабочие разошлись по своим местам.
8
Если вы, проезжая через Бионну, зайдете в «Пти Тулон», вы всегда застанете там одну и ту же картину.
В глубине зала, за одним из угловых столиков сидят любители тарока распространенной в Юрских горах игры в карты. У одного игрока нет руки. Из рукава куртки торчит никелированное приспособление, нечто среднее между щипцами и крючком. В этой искусственной кисти, прикрепленной, по-видимому, к культяпке, безрукий держит сложенные веером карты. В течение дня игроки сменяются, а безрукий остается сидеть все на том же диванчике в углу. Он играет с самого раннего утра до поздней ночи, пока не закроется бистро. Это Бернар Бюзар, владелец «Пти Тулона».
Время от времени он стучит своим стальным протезом по мраморной доске столика, и немедленно к нему подбегает хозяйка, его жена – Мари-Жанна.
Бюзар сухо распоряжается:
– Получи с шестого номера, они хотят расплатиться.
– Сейчас.
– Пиво еле течет.
– Я спущусь в погреб и проверю, в чем дело.
– Папаше Вэнэ охота развлечься. Почему ты с ним неприветлива?
– Постараюсь быть любезнее.
– Улыбайся!
– Хорошо, – покорно отвечает Мари-Жанна.
Бюзар дает понять, что разговор окончен, стукнув по столику своей металлической рукой. У игроков смущенный вид, Мари-Жанна убегает.
Чаще всего Бювар подзывает жену, чтобы заказать напитки:
– Налей всем еще по рюмке!
– Хорошо, – отвечает Мари-Жанна. – Повторить то же самое? – спрашивает она игроков.
Одни просят коньяку, другие вина, а Бюзар всегда только рому. Он пьет с утра до поздней ночи. По его виду не скажешь, что он пьян. Но к концу дня кажется, что его глаза сходятся все ближе и ближе, и от этого у него становится мрачное и злое лицо.
Мари-Жанна все такая же аккуратная, чистенькая, отшлифованная, как и в прежние времена.
Однажды, это было через полгода после того, как они купили бистро, я спросил Бюзара, почему он так суров со своей женой.
– Она шлюха, – заявил он в ответ.
Я принялся было ее защищать, но он сухо оборвал меня:
– Я знаю, что говорю. – И углубился в свои карты.
Мне пришлось много раз, окольными путями, возвращаться к этому вопросу, прежде чем я добился от него объяснений.
После того как Бюзар потерял руку, владелец снэк-бара отказался доверить ему свое заведение, опасаясь, что вид калеки отпугнет посетителей. Да и как он будет обслуживать клиентов одной рукой?
Заработанные Бюзаром триста двадцать пять тысяч повезла в Лион Мари-Жанна. Хозяин снэк-бара сказал ей:
– Я не хочу пользоваться печальным положением вашего жениха. – И полностью вернул внесенные ранее триста семьдесят пять тысяч, несмотря на договор, в котором была оговорена уплата неустойки.
Итак, Мари-Жанна вернулась в Бионну с семьюстами тысячами франков. Бюзар находился еще в больнице. Ожоги на руке гноились, у него поднялась температура, и он беспрерывно твердил:
– Я тут оставил руку, но сам я смоюсь.
Он вспомнил басню, которую учили в школе: лисица, чтобы вырваться из капкана, перегрызла себе лапу. И Бюзар повторял в бреду:
– Я настоящая лиса.
Мари-Жанна скрыла от него крах их затеи.
В это же время Серебряная Нога объявил, что уезжает из Бионны. Здесь, мол, негде развернуться его таланту организатора ночных увеселений. Он решил купить бистро в Париже, около площади Бастилии, и продавал свой «Пти Тулон» за два миллиона франков, из которых восемьсот тысяч просил наличными.
Все, включая и обоих Морелей, уговаривали Серебряную Ногу спустить цену с тем, чтобы Мари-Жанна могла купить это бистро. И впрямь Серебряная Нога заломил слишком высокую цену. «Пти Тулон» не был таким уж доходным заведением, чтобы платить за него два миллиона.
Целую неделю Серебряная Нога упорствовал и вдруг совершенно неожиданно уступил. Мари-Жанна приобрела бистро за семьсот тысяч франков наличными и миллион векселями, растянутыми на два года.
К тому времени, когда была подписана купчая, у Бюзара уже спал жар. Он находился в состоянии прострации. Мари-Жанна, не вдаваясь в подробности, рассказала ему о своих торговых переговорах. Бюзар отнесся ко всему с полным равнодушием. Он только удивился, да и то не сразу, что Мари-Жанна согласилась остаться в Бионне.
Они поженились, как только Бюзар выписался из больницы, и сразу же вступили во впадение «Пти Тулоном».
Бюзар убедил себя, что весь город смеется над ним, и мучил себя, придумывая все новые оскорбительные для самолюбия подробности: «Вы видели этого молодого человека, который решил „жить сегодня“? Он вообразил, будто нашел способ смыться отсюда, и потерял на этом руку. И теперь на всю жизнь прикован к Бионне, к своему борделю». Бюзар ошибался: его только жалели. Он очень стыдился дурной репутации бистро времен Серебряной Ноги, поэтому стоило какой-нибудь девушке громко рассмеяться, как он немедленно выставлял ее вон. Он подходил к столику и, постучав своей стальной рукой по мраморной доске, говорил:
– Ну-ка, убирайся отсюда! И больше чтоб я тебя не видел. Здесь не публичный дом.
Молодые люди, сопровождавшие девушку, не отвечали, потому что вид у него был свирепый, потому что жалели его, да и кто же полезет драться с калекой? Но в это бистро уже больше не возвращались.
Бюзар выгнал также и Жюльетту Дусэ. Вскоре она уехала из Бионны с каким-то коммивояжером. Теперь ее можно встретить в ночных кабаках Лиона. Она утратила былую свежесть, которая наводила на мысль о весенней травке.
Бюзар носил сандалии на веревочной подошве, и первое время после того, как стал хозяином и еще не играл целыми днями в тарок, бывало, неслышными шагами подкрадывался к столику или стойке бара и подслушивал чужие разговоры.
Таким образом он услышал, как ссорились Мари-Жанна и Жюль Морель. Мари-Жанна стояла за стойкой бара. Жюль Морель перед ней, наклонившись над стойкой.
– …И тогда я оставлю тебя в покое, – говорил Жюль Морель.
– Нет, – ответила Мари-Жанна.
– Ни одна женщина не стоила мне стольких денег…
– Надо было раньше думать.
– А если я потребую от тебя сразу всю сумму?
– Я теперь больше не живу в поселке, а бистро не на мое имя.
– Я могу выгнать твою мать.
– Только попробуйте!
– Сука!
Жюль Морель ушел, не заметив Бюзара.
– Ты с ним переспала, чтобы он тебе дал недостающие триста тысяч на покупку кабака… Я ни на минуту не поверил, что Серебряная Нога уступил, чтобы доставить мне удовольствие.
Мари-Жанна упорно все отрицала. Действительно, она три года не платила Жюлю Морелю за свой барак в поселке. Но она никогда не путалась со стариком. Правда, она его обнадеживала, но этим все и ограничилось, вот почему он и приходит скандалить.
– Он сказал: «Еще раз, и я тебя оставлю в покое».
– Нет, он сказал: «Один только раз…» А я на это ответила: «Нет».
– Ты сделала из меня «кота».
Мари-Жанна настойчиво опровергала все обвинения. Они пререкались дни и ночи напролет. И вот с тех пор Бюзар стал так сурово обращаться с Мари-Жанной.
Я попросил разъяснений у Корделии. После несчастного случая с Бюзаром она несколько раз беседовала со своей подругой, хотя Бюзар злился, когда они секретничали, и все время отзывал Мари-Жанну под предлогом всяких дел.
– Никогда ничего у Мари-Жанны не было со старым Морелем, – твердо сказала мне Корделия.
– Давай прибегнем к нашему излюбленному способу проверять честность наших друзей, – предложил я.
Мари-Жанна внесла семьсот тысяч наличными; происхождение этой суммы нам известно; здесь все чисто. На миллион франков она выдала векселя; обеспечением служил оборотный фонд предприятия; в этом тоже нет ничего неясного. Но почему же Серебряная Нога внезапно уступил, в то время как вначале он был неумолим? Это мне казалось подозрительным, так же как и Бюзару.
– У Серебряной Ноги доброе сердце.
– Вот в это я никогда не поверю.
Я знал, что Серебряная Нога способен спустить в одну ночь триста тысяч франков, проиграть их, может в пьяном умилении подарить их кому-нибудь, кто напомнит ему о его былой удали, но отказаться от них в присутствии нотариуса – ни за что в жизни.
– А я верю Мари-Жанне, – упорствовала Корделия. – Она еще ни разу мне не соврала.
– Вы что-то слишком часто шушукаетесь.
– На то мы и женщины…
Она вспомнила о нашем с нею старом разговоре:
– Мы – как бои. У нас от «белых» есть свои секреты.
– Вот именно. И ты сейчас врешь мне. Ты покрываешь Мари-Жанну.
Каждый из нас приводил все те же доводы, и я не мог избавиться все от тех же сомнений, и наш спор длился без конца.
В первое воскресенье мая 1955 года брессанец, отбывавший военную службу, получил отпуск и приехал в Бионну, чтобы принять участие в традиционной гонке. Он снова победил; теперь он умел правильно пользоваться переключателем скоростей.
Мы встретились с ним в начале вечера в «Пти Тулоне». Он еще не был пьян. Корделия отозвала его в сторону, и они долго беседовали; Корделия говорила очень возбужденно; видимо, она что-то выспрашивала; брессанец отвечал односложно и смущенно; он несколько раз заливался краской. Он заказал себе рюмку рома, но Корделия не дала ему пить. Она, казалось, настаивала на чем-то, а он пытался увильнуть от прямого ответа.
– Ты похожа на великого инквизитора, – крикнул я Корделии.
Наконец она подозвала меня и Бюзара к своему столику.
– Выкладывай, – сказала она брессанцу.
Тот рассказал, что недостававшие триста тысяч дал Серебряной Ноге он. И сразу же после этого уехал на велосипеде к себе в деревню, чтобы там повеселиться до армии на оставшиеся у него двадцать пять тысяч. Получил ли он расписку? Конечно, получил. Может ли он нам ее показать? Он не помнит, куда дел эту расписку, скорее всего сунул в ящик стола на ферме родителей; когда вернется домой, он ее поищет. Почему он дал эти триста тысяч?
– Бернар – мой товарищ.
Почему Серебряная Нога ничего не рассказал?
– Я его об этом попросил. Ведь расписку-то я взял.
Зачем же ему надо было хранить это в тайне? И почему он удрал, ничего никому не сказав?
– Это никого не касалось, кроме меня…
Вот и все, что удалось вытянуть из брессанца. Бюзар подозрительно смотрел на него. Я тоже отнесся к его объяснениям с некоторым недоверием.
Оставшись наедине с Корделией, я спросил ее:
– Растолкуй мне наконец, почему он не дал деньги непосредственно Мари-Жанне? И чего он скрылся так, будто украл эти триста тысяч, а не подарил их своему товарищу?
– Он стыдился своего поступка.
– На мой взгляд, он, скорее, должен был им гордиться.
– Ему было стыдно, потому что в его представлении он должен был на эти деньги, заработанные им каким-то чудом, купить волов и коров, в которых нуждается его отец и которые понадобятся и ему самому.
Он боялся также прослыть дураком. С его точки зрения, умный человек не станет выкидывать триста тысяч франков, послушавшись своего сердца.
– Так-то это так… – проговорил я.
Рассказ брессанца не переубедил Бюзара. Он был уверен, что Корделия подговорила крестьянина, научила его что говорить. Он по-прежнему плохо обращался с Мари-Жанной.
В эту минуту, когда я заканчиваю свою повесть, мне сообщили, что вот уже три месяца, как Бюзар не платит по векселям, выданным Серебряной Ноге. Меня это нисколько не удивляет. Бюзар своим неприветливым обращением понемногу отпугнул всех посетителей. А только что Корделия узнала от матери Мари-Жанны, что ее зять собирается продать бистро и вернуться на фабрику.
Приноровившись, можно обслуживать пресс и одной рукой. Жюль Морель разрешил ему попробовать. Мари-Жанне не придется больше работать белошвейкой, за это время она растеряла своих заказчиц. Но Поль Морель предложил ей поступить в сборочный цех.
– У нее будет более независимое положение, чем в торговом деле, сказала ее мать.
Они собираются жить все втроем в поселке, в том же бараке, который остался за ними. Мать благоразумно поступила, не переселившись в меньшую квартиру. Теперь Бюзар будет зарабатывать по сто девяносто франков в час; после несчастного случая с ним возмущенные рабочие объявили забастовку и добились нового увеличения на десять франков.
К тому же Бюзар получает пенсию как инвалид труда.
– Нуждаться мы не будем, – сказала мать Мари-Жанны.
Закон
Перевод Н.Жаркова

На углу Главной площади и улицы Гарибальди, прямо напротив дворца Фридриха II Швабского находится претура Порто-Манакоре. Это пятиэтажное здание с голым, скучным фасадом: в нижнем этаже – тюрьма, на втором полицейский участок, на третьем – суд, на четвертом – квартира комиссара полиции, на пятом – квартира судьи.
В августе в час сиесты городок кажется вымершим. Одни лишь безработные, «disoccupati», незанятые, не покидают обычного своего поста – подпирают стены домов, выходящих на Главную площадь, словно застыли на месте и молчат, вытянув руки по швам.
Из тюремных окон, прикрытых деревянным «намордником», доносится пение арестантов:
Повернись, красотка, оглянись…
Безработные слушают пение арестантов, но сами не поют.
На пятом этаже претуры от пения арестантов просыпается в своей спальне донна Лукреция.
Она просто великолепна, эта донна Лукреция: полулежит в постели, опершись на локоть, в вырезе сорочки видна обнаженная грудь; черная грива волос, спадающая ниже пояса, разметалась в беспорядке. На французский вкус она, пожалуй, слишком крупна и дородна. А здесь, в южной итальянской провинции, где женщина на сносях – объект самых пылких мужских вожделений, она считается первой красавицей. Глаза у нее не так чтобы очень большие, но зато всегда что-нибудь да выражают, причем выражают слишком явно все движения души; в этот период ее жизни чаще всего – гнев, ненависть или на худой конец неприязненное безразличие.
Когда десять лет назад сразу же после свадьбы муж привез Лукрецию в Порто-Манакоре, все дружно стали звать ее «донна», хотя была она всего-навсего супругой судейского чиновника низшего ранга и никто ничего не знал о днях ее молодости, прошедших в большом городе Фоджа, где отец ее был начальником канцелярии префектуры и имел чуть ли не десяток дочерей. В Порто-Манакоре «донна» – это обязательно или дочь или супруга крупного землевладельца, причем старинного рода. Но Лукрецию никто не звал ни «signora», ни «signoria» – «ваша милость», как обычно уважительно обращаются к нездешним. Слишком очевидно, что она именно донна, domina, подобно римской императрице, хозяйка, госпожа.
Ее супруг, судья Алессандро, входит в спальню и направляется к жене. Она отталкивает его.
– Совсем меня разлюбила, – вздыхает судья.
Она не отвечает, подымается, идет к окну, приоткрывает ставни. В лицо ей ударяет удушливая волна зноя. Теперь арестанта затягивают неаполитанскую «канцонетту», получившую премию на последнем радиофестивале. Донна Лукреция нагибается и видит руки, множество рук, вцепившихся в тюремную решетку, до тут она замечает, как в темноте между разошедшимися дощечками «намордника» на нее пялятся два огромных глаза. Глядящий что-то говорит своим товарищам, блестят еще и еще чьи-то глаза; пение разом смолкает, донна Лукреция чуть отодвигается от окна.
Теперь она смотрит прямо перед собой и уже не нагибается над подоконником.
На террасе почтамта под сенью башни Фридриха II Швабского дремлют, развалясь в шезлонгах, почтовые чиновники. От пола террасы к самому верху башни карабкается по веревочкам вьюнок с большими бирюзовыми цветами. Венчики свои вьюнок открывает на заре, а к пяти часам, когда их коснется солнечный луч, закроет. И так каждое лето с тех самых нор, когда она, молоденькая супруга судьи, переехала из Фоджи в Порто-Манакоре.
Безработные, подпирающие стены вокруг всей Главной площади, ждут, когда появится какой-нибудь арендатор или управитель в наймет хоть одного человека, пусть на любую работенку; но арендаторам и управителям редко требуется помощь безработных, их семьи сами ухаживают за апельсиновыми и лимонными плантациями и за чахлыми оливковыми деревьями, туго растущими на здешней иссушенной зноем почве.
Справа от Главной площади рабочие развешивают электрические фонарики на ветвях гигантской сосны (по преданию, посаженной еще Мюратом, маршалом Франции и королем Неаполитанским). Нынче вечером муниципалитет дает для курортников бал.
Площадь спускается террасами, а ниже порт и море. Донна Лукреция глядит на море. С самого конца весны оно все такое же синее. Оно всегда здесь. И целые месяцы даже не всплеснет.
Судья Алессандро подбирается к жене сзади, кладет ей ладонь на бедро.
– О чем думаешь? – спрашивает он.
Она оборачивается. Он ниже ее. За последние месяцы он совсем иссох, брюки на нем болтаются. Она видит, что его бьет дрожь и на висках блестят тяжелые капли пота.
– Ты, очевидно, хинин забыл принять! – напоминает она.
Он подходит к туалетному столику, наливает из кувшина воды в стакан для чистки зубов, проглатывает две розовые пилюльки. Его треплет малярия, как и большинство здешних жителей.
– Никогда ни о чем не думаю, – добавляет она.
Судья Алессандро удаляется в свой кабинет и открывает толстый том, книготорговец в Фодже специально для него разыскал и выслал почтой этот труд: Альберто дель Веккьо, «Законодательство императора Фридриха II. Турин. 1874». Фридрих II Швабский, император Римской империи, король Неаполитанский, Сицилийский и Апулийский XIII века, – любимый герои судьи. Он ложится на узенькую кушетку – теперь, когда донна Лукреция потребовала себе отдельную спальню, приходится довольствоваться этим малоудобным ложем.
В соседней комнате шумно ссорятся дети. Служанка, должно быть, спит себе на холодке – или на лестничной площадке, или в канцелярии суда; летом после полудня в ее каморке под самой крышей буквально нечем дышать. Донна Лукреция проходит в детскую и молча водворяет там порядок.
Сейчас арестанты затягивают песенку из репертуара Шарля Трене, слов они не понимают, и она звучит в их исполнении по-простонародному уныло. Летними вечерами громкоговоритель, установленный на Главной площади, передает всю программу итальянской радиостанции «Секондо», так что репертуар арестантов неистощим.
– Дай потрогать, – молит Тонио.
Он тянет руку к грудям, задорно распирающим ткань полотняного платьица.
Мариетта ударяет его по руке.
– Ну просят же тебя, – твердит он.
– А я не желаю, – говорит она.
Он заталкивает ее в тенистое местечко, под крыльцо дома с колоннадами. Августовское солнце, solleone, лев-солнце, немилосердно жжет топкую низину. В доме все еще спят свинцовым сном сиесты.
Тонио удается стиснуть запястье девушки, он прижимает ее к стене и наваливается всей тяжестью.
– Отцепись, а то сейчас людей позову.
Она отбивается и наконец отталкивает его. Но он по-прежнему жмется к ней.
– Мариетта, – шепчет он, – Мариетта, ti voglio tanto bene, я так тебя люблю… дай хоть потрогать…
– Можешь с моей сестрой такими пакостями заниматься!
– Если хочешь, я все брошу… детей, жену, дона Чезаре… увезу тебя на Север…
Мария, жена Тонио, старшая сестра Мариетты, появляется на крыльце. За шесть лет Тонио ухитрился сделать ей пятерых ребятишек; живот у нее сползает чуть не до колен, груди сползают на живот.
– Опять ты к ней вяжешься! – кричит она.
– Тише, дона Чезаре разбудишь, – отзывается Тонио.
– А ты, – кричит Мария, обращаясь к Мариетте, – а ты зачем к нему лезешь?
– Ничего я не лезу, – огрызается Мариетта. – Он сам мне проходу не дает.
– Вы же дона Чезаре разбудите, – пытается утихомирить женщин Тонио.
Джулия, мать Марии и Мариетты, тоже появляется на крыльце. Ей еще пятидесяти нет, но вся она какая-то уродливо-скрюченная, совсем как те корни кактуса-опунции, которые море выбрасывает на прибрежный песок; ссохшая, худющая, лицо желтое, а белки глаз, как у всех маляриков, красные.
– Очень-то мне нужен твой муженек, – кричит Мариетта. – Он сам ко мне все время пристает.
Теперь на Мариетту набрасывается и Джулия.
– Если тебе здесь не нравится, – кричит она дочери, – бери да уходи отсюда.
Мариетта вскидывает голову, в упор смотрит на мать, потом на сестру.
– Орите хоть до утра, – говорит она, – я все равно к ломбардцу не пойду.
– Конечно, тебе приятнее чужих мужей отбивать, – кричит старуха Джулия.
Между колоннами на втором этаже открываются ставни. На балкон выходит дон Чезаре. В мгновение ока воцаряется тишина.
Дону Чезаре семьдесят два года; со времени своей службы в королевском кавалерийском полку (в конце первой мировой войны) он почти не изменился, разве что раздобрел немного; держится все так же прямо и по-прежнему считается в округе лучшим охотником.
За спиной дона Чезаре вырисовывается в полутьме спальни силуэт Эльвиры.
Эльвира тоже дочь старухи Джулии. Марии – двадцать восемь, Эльвире двадцать четыре, Мариетте – семнадцать. И Джулия и Мария в свое время побывали наложницами дона Чезаре. Теперь ложе с ним делит Эльвира. Мариетта еще девушка.
– Слушай меня, Тонио, – начинает дон Чезаре.
– Слушаю, дон Чезаре, – отзывается Тонио.
И подходит ближе к балкону. Он босой, штаны латаны-перелатаны, рубашки на нем вообще нет, зато белая куртка накрахмалена до лоску. Дон Чезаре требует, чтобы все его доверенные люди щеголяли в безукоризненно белых куртках. С тех пор как Тонио женился на Марии, он стал доверенным лицом дона Чезаре.
С балкона дону Чезаре видна вся топь, а за ней озеро, среди камышей и зарослей бамбука оно прокладывает себе дорогу к морю и омывает площадку перед крыльцом дома с колоннами; а дальше песчаные отмели перешейка, а еще дальше бухта Порто-Манакоре. Дон Чезаре глядит на море, которое долгие месяцы даже не всплеснет.
– Слушаю вас, дон Чезаре, – повторяет Тонио.
Джулия с Марией входят в дом. Легко шагая, Мариетта исчезает среди зарослей бамбука; она держит путь к камышовой хибарке: в таких хибарках живут о семьями рыбаки дона Чезаре.
– Ну так вот, – обращается к Тонио дон Чезаре, – поедешь сейчас в Порто-Манакоре.
– Поеду сейчас в Манакоре, – повторяет Тонио.
– Зайдешь на почту… потом к дону Оттавио… Потом в контору «Соль и табак».
Тонио повторяет каждое слово, желая показать, что он все отлично понял.
– Ничего не забудешь? – спрашивает дон Чезаре.
Тонио опять слово в слово повторяет все поручения.
– Как же я доберусь до Манакоре? – спрашивает Тонио.
– А как ты сам рассчитывал добраться? – спрашивает дон Чезаре.
– Может, взять «ламбретту»? – рискует на всякий случай Тонио.
– Если тебе так уж хочется, бери «ламбретту».
– Спасибо, дон Чезаре.
– А сейчас я иду работать, – заявляет дон Чезаре. – Скажи своим, чтобы не шумели.
– Будут молчать как миленькие, – говорит Тонио. – Уж поверьте на слово.
Час сиесты прошел. Дон Чезаре видит, как его рыбаки выходят из своих камышовых хижин, разбросанных в топкой низине, и направляются к площадке, где сохнут их сети. Потом он удаляется к себе в спальню, а оттуда проходит в залу, отведенную под коллекцию древностей.
Тонио входит в большую нижнюю залу, где сидят его женщины.
– Мария, – командует он, – принеси башмаки.
– Башмаки? – переспрашивает Мария. – На что тебе башмаки?
– Дон Чезаре разрешил мне взять его «ламбретту»!
– А почему это дон Чезаре разрешил тебе взять его «ламбретту»?
– Он меня в Манакоре посылает.
– А ты что, не можешь до Манакоре пешком дойти, что ли?
– Он мне велел взять его «ламбретту».
– Он ведь работает, как бы ему шум мотора не помешал, – говорит Мария.
– Всю жизнь он моторов терпеть не мог, – подхватывает старуха Джулия. Если бы не правительство с его приказами, никогда бы дон Чезаре не потерпел, чтобы здесь рядом шоссе прокладывали.
– Сегодня у него хорошее настроение, – поясняет Эльвира. – Нынче утром рыбак ему какую-то древность притащил.
Возвращается Мариетта, она принесла рыбы на ужин. Кладет рыбу у камина в углу просторной залы. Потом облокачивается на подоконник спиной к присутствующим. Белое полотняное платьице, доходящее до колен, надето прямо на голое тело.
Мария идет за башмаками Тонио, они висят на балке, а рядом ее башмаки, и башмаки Эльвиры, и башмаки Мариетты; женщины надевают обувь только в праздничные дни или когда идут к мессе в Порто-Манакоре.
Тонио поглядывает на Мариетту, она стоит к нему спиной, облокотясь о подоконник.
Возвращается Мария с башмаками.
– На что это ты так уставился? – спрашивает она мужа.
– Обуй-ка меня, – приказывает Тонио.
Он садится на лавку перед господским столом, столешница вытесана из одной огромной оливковой доски. Кроме самого дона Чезаре, никто не имеет права пользоваться массивным неаполитанским креслом XVIII века с позолоченными затейливыми деревянными подлокотниками в виде китайских уродцев.
– Видать, дон Чезаре совсем ума лишился, раз позволил тебе взять свою «ламбретту», – говорит Мария. – Один бог знает, куда ты на ней укатишь и в котором часу вернешься.
Мария опускается перед мужем на колени и надевает на него башмаки.
– Вот если встречу дона Руджеро, – заявляет Тонио, – так я ему покажу, кто быстрее: наша «ламбретта» или его «веспа».
– Значит, верно, что дон Чезаре позволил тебе взять свою «ламбретту»? бросает не оборачиваясь Мариетта.
– А почему бы дону Чезаре не позволить мне взять его «ламбретту»? Ведь я его доверенное лицо.
Тонио смотрит на Мариетту. Лучи клонящегося к закату солнца скользят по бедрам девушки, и сейчас отчетливо видна теневая ложбинка, разделяющая ее ягодицы, там, где примялась белая ткань.
– А я тоже умею ездить на мотороллере, – объявляет Мариетта.
– Кто ж это тебя научил? – спрашивает Тонио.
– Надеюсь, ты не окончательно ополоумел и не дашь ей вести «ламбретту» дона Чезаре? – обращается к Тонио Мария.
– Заткнись, женщина, – говорит Тонио.
Он подымается, идет в конюшню, выводит оттуда «ламбретту» и на площадке перед домом берет ее на тормоз. Женщины идут за ним следом. Изо всех углов высыпают ребятишки. Рыбаки бросают сматывать сети и тесно окружают мотороллер.
– Воды принесите, – командует Тонио.
Мария и Джулия зачерпывают полные ведра в водосливе озера. Тонио одним махом выплескивает воду на колеса и на крылья мотороллера. Потом протирает «ламбретту» кусочком замши, доводит ее до блеска.
– Выходит, значит, – говорит один из рыбаков, – дон Чезаре разрешил тебе взять его «ламбретту»…
– А что же тут такого? – отвечает Мария.
Мариетта держится в стороне, у крыльца.
Тонио нажимает на кнопку карбюратора, подкачать бензина. Потом проверяет рычаг скорости, чтобы тот был в нейтральном положении. С задумчивым видом регулирует подачу газа.
Рыбаки еще плотнее окружают мотороллер, дети шмыгают у них под ногами.
Теперь Тонио нажимает на педаль сцепления. Раз, другой, и мотор начинает работать. Тонио передвигает рычаг, и мотор взревывает, работает на полную мощность, затихает.
– Хороша штучка! – восхищается рыбак.
– Работает не хуже «веспы», – подтверждает другой.
– А все-таки уж если иметь мотороллер, так лучше «весну», – говорит третий.
– Раз дон Чезаре купил себе «ламбретту», – возражает первый, – значит, он навел справки, какой мотороллер самый лучший.
Тонио отпускает тормоз, садится на седло. Он снова заводит мотор.
К мотороллеру быстро подходит Мариетта.
– Прокати меня, – говорит она.
– Вот видишь, видишь, сама к нему лезешь! – кричит Мария.
– Больно-то он мне нужен, – отвечает Мариетта. – Просто я хочу прокатиться на «ламбретте».
Она кладет обе ладони на руль.
– Тонио, – просит она, – ну позволь мне сесть сзади.
Мария, которая стоит по ту сторону мотороллера, не спускает с обоих глаз.
– Надо у дона Чезаре разрешения спросить, – мнется Тонио.
– Дон Чезаре разрешит, – уверяет Мариетта.
– Это как сказать.
– Пойду спрошу у него разрешения.
– Нет, вы только посмотрите на нее, – возмущается Эльвира, – теперь она уже дону Чезаре мешать будет.
– Ты сама рассуди, – говорит Тонио, – ведь дон Чезаре, когда работает, не позволяет его беспокоить.
– Но ведь ты же его доверенное лицо, верно или нет? – не сдается Мариетта. – Прокати!
– Это точно, я лицо доверенное, – подтверждает Тонио. – Но мне, знаешь, какие важные поручения даны. Поэтому-то дон Чезаре и позволил мне взять его «ламбретту». Ну сама сообрази: разве берут кататься девушку, когда дела надо делать?
Мариетта убирает с руля руки и отходит прочь.
– Ты просто баба! – кричит она.
Круто повернувшись, она идет к крыльцу.
Тонио дает газ, мотороллер трогается с места и катит по бамбуковой роще в направлении моста.
Рыбаки смотрят вслед Мариетте, подымающейся по ступенькам крыльца. Они перебрасываются шутками, нарочно не понижая голоса, чтобы ей было слышно.
– Мужика хочет, – замечает один.
– А раз мужика не имеется, – подхватывает второй, – и «ламбретта» сойдет.
– А как же! Такой мотороллер – штучка солидная, – замечает третий.
Все трое хохочут, не спуская глаз с Мариетты, а у нее от быстрой ходьбы подол платья липнет к бедрам.
На верхней ступеньке крыльца она останавливается и бросает рыбакам:
– Идите-ка, мужики, лучше к вашим козам!..
Про жителей низины ходит слух, что они предпочитают развлекаться с козами, нежели с собственными женами.
Мариетта входит в дом. Слышно, как «ламбретта», прогремев по мосту, катит за завесой бамбука вдоль водослива.
Сиеста комиссара полиции Аттилио затянулась дольше обычного. Разбудили его дети судьи Алессандро и донны Лукреции, поднявшие шум на верхнем этаже.
Не надев рубашки, он подошел прямо к туалетному столику, опрыскал из пульверизатора лавандовой водой щеки и подмышки. Это красивый мужчина лет под сорок. Он всегда тщательно причесан и смачивает волосы новым обезжиренным американским составом, чтобы они красиво лежали волнами. Глаза у него большие, черные, темные подглазники доходят чуть ли не до половины щек. Он надевает белоснежную рубашку: его жена Анна аккуратно разложила ее на комоде; летом он дважды в день меняет рубашки… Галстук он выбирает с толком – чтобы подходил к легкому полотняному костюму. Одеваясь, мурлычет песенку Шарля Трене, которую недавно распевали арестанты, но он-то слова понимает, недаром учился в лицее французскому языку; он лиценциат права.








