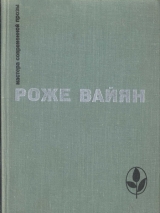
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Роже Вайян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 48 страниц)
– Вдвоем вы выполняете работу трех прессовщиков, – сказал Шатляр, – и лишаете хлеба одного рабочего. Ты соображаешь?
Бюзар молчал. Он стоял перед старым профделегатом, сжав губы и не глядя на него.
– Твой отец упрям как осел, но, когда он работал на фабрике, он вел себя порядочно, – продолжал Шатляр.
– Сейчас нет безработицы, – возразил Бюзар. – Я ни у кого не отнимаю хлеб.
– В Бионне нет безработицы, но она существует в других городах, и существует солидарность рабочих.
– Я лично живу в Бионне, – сказал Бюзар. – Пока что… – добавил он.
– Ты свихнулся.
– Мне нужны триста двадцать пять тысяч франков.
– Мне тоже, представь себе. С того времени как я появился на свет.
– Я женюсь на Мари-Жанне.
– Удивляюсь, как это она разрешила тебе пойти на такую низость.
После того как отец Мари-Жанны погиб, придавленный прессом для целлулоидных изделий, Шатляр опекал девочку и ее мать. Он отвоевал для вдовы пенсию. Благодаря его заботе у Мари-Жанны на елку всегда был подарок. В дальнейшем по его настоянию девочка училась в профессиональном училище, где она получила профессию белошвейки. Иногда вечерком Шатляр заходил побеседовать с матерью Мари-Жанны. На чувствах старика к этой семье и хотел сыграть Бюзар, упомянув о Мари-Жанне как о своей невесте.
– Выкладывай, в чем дело, – сказал Шатляр.
Мари-Жанна непременно хочет уехать из Бионны, объяснил Бюзар. Она согласилась выйти за него замуж при условии, если он станет управляющим снэк-бара. И он вынужден был что-то придумать, чтобы раздобыть недостающие триста двадцать пять тысяч.
– Снэк-бар, что это за штуковина? – удивился Шатляр.
– Это ресторан, где можно поесть на скорую руку, рядом с заправочной колонкой… Теперь так делается. Автомобилисты не желают терять время на еду. Вначале Мари-Жанна будет заниматься готовкой, жарить бифштексы и варить «от-доги».
– Что это за «от-доги»?
– Сосиски.
– Почему ты разговариваешь не по-французски?
– А я буду обслуживать посетителей.
– Стать холуем – вот твой идеал.
– Потом у нас появится обслуживающий персонал. Мари-Жанна встанет к кассе. А я буду только распоряжаться.
– Понятно, хочешь эксплуатировать людей – вот к чему ты стремишься.
– Я политикой не занимаюсь, – ответил Бюзар.
– А я в твоем возрасте мечтал о революции, об освобождении всех трудящихся. Да и теперь не изменил своим убеждениям. Бороться за то, чтобы все имели право «на хлеб и на розы», тебя это не прельщает?
– С вашей стороны это очень благородно, – сказал Бюзар.
Он переминался с ноги на ногу и упорно смотрел старику в рот, чтобы не видно было, что он избегает его взгляда, но в то же время старался не встретиться с ним глазами.
– Но я лично хочу жить сегодня, – резко проговорил Бюзар.
– Дело твое, – сказал Шатляр. – Выколачивай деньги, чтобы купить себе право стать лакеем. Но делай это пристойно. Ни одного сверхурочного часа. Ничего, поработаешь год вместо шести месяцев, это пойдет тебе на пользу.
– На вашей стороне сила, и вы этим пользуетесь.
– Совершенно верно, мой мальчик.
– Но Мари-Жанна не может ждать так долго.
– Почему? Объясни.
– Нечего объяснять, все и так ясно.
Бюзар снова опустил голову.
– Ну-ка, посмотри на меня.
Бюзар поднял голову.
– Ты мне не нравишься, – сказал Шатляр.
Бюзар нахмурился.
– Чего вы ко мне придираетесь? Я поступаю по-честному, Когда я узнал, что у нас будет ребенок, я предложил Мари-Жанне жениться на ней.
– Не нравится мне, как ты разговариваешь.
– Ничего не поделаешь.
Старик скручивал сигарету, не спуская глаз с парня, тот стоял перед ним, скрестив руки на груди, с непроницаемым лицом.
– Так женитесь, незачем мудрить.
– Все равно нам нужны деньги на обзаведение.
Старик нагнулся, чтобы закурить от зажигалки, которую он прикрывал от ветра ладонью.
– Я не понимаю Мари-Жанны, – сказал он.
– Ей не нравится жить в Бионне.
– Так мне и казалось, – медленно проговорил Шатляр. – Она ни за что не хотела идти на фабрику… Предпочитает в одиночестве сидеть у окна и целый день шить и шить… Вот и лезет в голову разное…
Он замолчал. Бюзар угадал мысли старика.
– Она не может забыть несчастного случая с отцом, – сказал он.
– Молчи. Ты-то не имеешь никакого права говорить об этом.
– Вечно эти громкие слова. Вы не на собрании, – возразил Бюзар.
Шатляр в упор посмотрел на него. Бюзар снова скрестил руки на груди, вызывающе глядя на старика.
– Ты мне не нравишься, – повторил Шатляр.
Он опять нагнулся и зажег потухшую сигарету.
– Может быть, я ничего не понимаю в современной молодежи… Хотя некоторые, мне кажется, сделаны из добротного материала.
Он снова поглядел на Бюзара.
– Договаривайся с остальными делегатами… Я не могу быть беспристрастным. Я слишком хорошо отношусь к Мари-Жанне, и мне не по душе, что она выходит за парня, который так некрасиво поступает… Объясняйся с ними сам… Вмешиваться не буду.
Он повернулся и ушел своей тяжелой и решительной походкой, по которой все в Бионне издали узнавали его.
«Я победил, я победил!» – в полном упоении твердил про себя Бюзар.
Остальные профделегаты «Пластоформы» были не так строги, как Шатляр, и Бюзар их не боялся; они даже найдут потешной затею обоих парней и только посмеются над Бюваром: «Эх ты, незадачливый гонщик, ты же не выдержишь до конца…»
Но возражать они не будут.
Бюзар заглянул в цех. Брессанец уже вошел в ритм работы: поднять решетку, отсечь «морковку», разъединить сдвоенные части, бросить их в ящик, ждать, когда загорится глазок; поднять, вынуть, опустить, отсечь, разъединить, сбросить, ждать; поднять, вынуть…
– Это полегче, чем пахать, – заметил брессанец. – Хорошо быть рабочим.
Он, как и Бюзар, ликовал. Он уже видел, как покупает коров и волов, какие закатывает кутежи перед уходом в армию.
Большие часы в глубине цеха, висевшие так, чтобы они были видны отовсюду, показывали три часа двенадцать минут тридцать секунд. На часах была секундная стрелка, потому что старые прессы не имели красного глазка, и рабочие, закрыв форму, отсчитывали секунды, чтобы знать, когда можно вынуть изделие.
Рабочие второй смены (с восьми до шестнадцати часов), не отходившие от машины с раннего утра, все чаще и чаще поглядывали на часы. К концу смены многие пробовали ускорить ход времени, прибегая к разным уловкам: можно, например, заставить себя смотреть только на секундную стрелку, а через некоторое время взглянуть уже на минутную и тем самым доставить себе приятный сюрприз: она продвинулась на целых четыре деления вместо трех вопреки тому, что вы себе внушили.
Пришел мастер снимать показания счетчиков: машины сами регистрируют количество произведенных операций, то есть отлитых изделий. Рабочий имеет право не додать 5 % продукции по отношению к проектной мощности пресса. Из-за технических неполадок, если взять среднее за год, производительность машины снижалась примерно лишь на 2,3 %. Таким образом, 5 % отклонения допускалось с учетом несовершенства человеческой машины. Предполагается, что, если рабочий недовыполняет норму больше чем на 5 %, он сознательно и часто опаздывает поднять решетку в тот момент, когда загорается глазок. В этих случаях рабочий платит штраф, размер которого определяется тем, сколько недостает изделий и как часто повторяются нарушения, По словам старика Мореля, такая система позволяет автоматически отсеять лодырей; с профсоюзом все равно бессмысленно договариваться об их увольнении, а когда рабочий обнаруживает, что сумма штрафа превышает его заработок, он сам уходит: в день получки – кукиш, и больше его не видно.
– Пойду-ка подкреплюсь, – сказал Бюзар.
– Не торопись. Я совсем не устал. Хочешь, возвращайся только к шести, предложил брессанец.
Бюзар направился к поселку в надежде увидеть свою невесту, но на авеню Жана Жореса встретил Поля Мореля. Тот выходил из бистро.
– Ну как, доволен? – спросил он Бюзара.
– Ясное дело, доволен! – воскликнул Бюзар.
Поль Морель принадлежит к классу хозяев, так как именно его семейство владеет машинами, что дает ему право управлять фабрикой (правда, под контролем отца), но он совсем недавно «вошел в этот класс»; еще в 1936 году его отец был простым каменщиком. Сам же Поль Морель окончил ту же начальную школу, что и большинство его рабочих. Когда какое-нибудь неожиданное обстоятельство вынуждает Поля Мореля задуматься, он приходит к выводу, что ему посчастливилось родиться сыном хозяина и не повезло, что отец у него такой скупердяй; но такова уж жизнь: есть у нее и хорошие, и дурные стороны. А уж дети Поля, если к тому времени еще сохранится существующий ныне строй, не будут удивляться разделению людей на два класса: на тех, кому принадлежат машины, и тех, кто приводит их в действие. Они даже будут считать, что рабочим повезло, раз Существуют хозяева, которые дают им возможность заработать на жизнь. Но Поль Морель еще не успел настолько отойти от народа и поэтому:
Во-первых, ему понятно, как должен быть доволен Бюзар, найдя способ заработать необходимые ему триста двадцать пять тысяч франков. Ведь для каждого рабочего добыть денег больше, чем требуется на хлеб насущный, целая проблема, и часто неразрешимая.
А во-вторых, его удивляет такая чрезмерная радость Бюзара. Ведь эти триста двадцать пять тысяч франков достанутся ему нелегко. В течение ста восьмидесяти семи дней он будет работать как автомат. Поль Морель достаточно нагляделся на прессы, чтобы иметь представление о том, насколько нудно на них работать, и он достаточно молод, чтобы эти сто восемьдесят семь дней монотонного труда показались ему кошмарной вечностью. Кроме того, у Бюзара пропадает спортивный сезон. Ко всему еще он потерял тридцать тысяч франков, от которых сам же молчаливо отказался ради права работать на прессе больше часов, чем это положено на фабрике.
Бюзар тоже сознает, что ему дорого обойдется эта попытка заработать триста двадцать пять тысяч. Но он хочет получить эти деньги. Он чувствует себя гонщиком, который делает рывок, чтобы завоевать победу на этапе, сейчас он стремится только к этому; он безрассудно тратит свои силы и в дальнейшем обязательно выдохнется, но в этот момент ему на все наплевать. Бюзара можно также сравнить со стариком, продающим свою пожизненную ренту, чтобы сделать подарок разорившей его девке и тем самым вымолить у нее еще одну улыбку, еще одну ласку, последнюю. Любая страсть, когда она достигает такого накала, что человек, обуреваемый ею, «горит», говоря языком игроков, толкает на безрассудные поступки, на исступленный бег по замкнутой беговой дорожке.
Поль Морель умирал от желания узнать тайну Бюзара. Ради чего идет он на такие жертвы, чтобы за шесть месяцев скопить триста двадцать пять тысяч? Он пригласил Бюзара в кафе.
– Рюмку коньяку, – заказал Поль Морель.
– Клубничный сироп с минеральной, – попросил Бюзар.
Но тут же передумал. К чему обрекать себя на воздержание, раз он больше не будет заниматься спортом?
– Мне тоже коньяку, – сказал он.
Только сейчас до сознания Бюзара дошла эта сторона задуманного им предприятия. Отныне он уже выбыл из когорты героев, которые добровольно отказываются от мелких удовольствий. И это больно кольнуло его сердце. Больше никогда, ничем ему не придется жертвовать ради того, чтобы быть «в форме». Он стал рядовым тружеником, уподобился старым рабочим, ничего не ожидавшим от будущего, которые после смены идут в кабак и напиваются, чтобы сладкая алкогольная дремота сменила унылую сонливость, порожденную механическим, монотонным трудом. Так беспробудно они спят всю жизнь, в то время как человек «в форме» находится в высшей стадии бодрствования. У Бюзара на глаза навернулись слезы.
Морель сразу догадался, чем они вызваны. Когда Бюзар внезапно передумал и заказал себе коньяк, мысли Мореля заработали в том же направлении. И сейчас он тоже чуть не прослезился. По существу, Поль не такой уж скверный человек. Порывшись в бумажнике, он обнаружил всего пять тысяч франков.
– Держи, – сказал он Бюзару, – за мной остается двадцать пять тысяч… Я буду отдавать тебе по пять тысяч в месяц… Честное слово… Хоть на несколько дней меньше проторчишь у машины.
– Спасибо, – холодно поблагодарил Бюзар.
– Ты мне объяснишь в конце концов, зачем тебе так нужны эти триста двадцать пять тысяч?
– Я хочу жить сегодня! – резко ответил Бюзар.
4
Бюзар сменил брессанца. Потом, отработав свои четыре часа, поужинал дома. Был четверг, и он, как обычно, в девять часов вечера отправился к Мари-Жанне. Все двери и окна в доме были закрыты. Он постучался. Нигде не заметно было света, никто не отвечал.
Полчаса Бюзар простоял возле барака у Сенклодской дороги, опершись на свой велосипед. Пришла от соседей мать Март Жанны. Нет, она не знает, где ее дочь. Она ее не видела с самого утра.
– Зайдите и подождите.
Но Бюзар предпочел побыть на свежем воздухе. Мать Мари-Жанны разглядывала его.
– Значит, вы пошли работать на пресс?
– Другого выхода не было…
Мать не спускала с него глаз. Он заметил, что у нее живой, умный взгляд. До сих пор он не обращал на нее никакого внимания: она была только матерью Мари-Жанны, женщиной, не имеющей определенных очертаний, некой абстракцией. Впервые ему пришло в голову, что Мари-Жанна, должно быть, поверяет ей свои тайны, советуется с нею, что в жизни женщины существуют не только любовные дела.
– А на проезжей дороге, на этом шоссе, вам кажется, вы будете счастливее?
– Здесь не жизнь. – И Бюзар показал на бараки, на строения бывшего кирпичного завода, на болото.
– Переменить место это еще полдела.
– Это желание Мари-Жанны.
– Она сама толком не знает, чего хочет.
Он даже и вообразить не в силах был, что можно так говорить о Мари-Жанне, и живо возразил.
– Если уж она что задумала…
– Мари-Жанна в основном научилась понимать, чего она не хочет, прервала его мать. На ее лице промелькнула насмешливая улыбка. – Так вы не зайдете?
– Нет, спасибо. Лучше я загляну позже.
Бюзар сел на велосипед и поехал домой. Мари-Жанна только что заходила к нему и оставила письмо.
«Дорогой мой Бернар, сейчас я разговаривала с Шатляром. Чего ты ему порассказал? Как это некрасиво с твоей стороны. Ты-то хотел, а я никогда не хотела, мог бы об этом вспомнить. Я знаю, что ты мне на это скажешь, потому что Шатляр мне все объяснил. Но все равно твое поведение непростительно. Когда врут в таких вещах, то врут во всем, и мне ты тоже будешь врать.
Я предпочитаю, чтоб ты больше не приходил ко мне. Я знаю, что тебе будет тяжело, но сейчас это пройдет менее болезненно, чем позже.
В снэк-бар поезжай с другой или вообще не берись за таков дело, и это избавит тебя от многих неприятностей.
Я все обдумала и поняла, что я тебя не люблю. Лучше сказать это совершенно откровенно. Я думала об этом еще до разговора с Шатляром и пришла к тому же выводу, но не решалась тебе признаться. Я хорошо к тебе отношусь, но я тебя не люблю. Это правда.
Кстати, я тебе никогда и не говорила, что люблю тебя. Хотя ты много раз просил меня об этом. А что касается нашей женитьбы, то ты так настаивал и столько всего сделал, что я в конце концов дала согласие. Но теперь все кончено. Так будет лучше для нас обоих.
Знаю, что ты станешь меня осуждать. Но что же делать? Лучше это, чем испортить тебе жизнь.
Я буду по-прежнему хорошо к тебе относиться, но сейчас нам разумнее не встречаться больше.
Мари-Жанна».
Бюзар сунул письмо в карман.
– Милые уже побранились? – спросила его сестра Элен.
– Мари-Жанна тебе что-нибудь сказала?
– Чего захотел! Разве у нее узнаешь, что она думает. А вот у тебя такой вид, будто ты проиграл этап с раздельным стартом.
Подтрунивая над братом, Элен любила пускать в ход спортивную терминологию, безбожно перевирая ее.
– Мари-Жанна просто переутомилась, – ответил Бюзар. – Вот и все. Я немного проветрюсь и сразу же отправлюсь на фабрику. А ты оставь мне чего-нибудь пожевать к четырем часам утра, когда я вернусь.
Он снова сел на велосипед и поехал в горы, ко мне. После гонок я виделся с ним два раза. В понедельник в больнице, тогда у нас с ним завязались дружеские отношения. И вчера в бистро у Серебряной Ноги он мне подробно рассказал о своем плане, обо всех затруднениях и о том, как ему удалось их преодолеть.
Бюзар приехал к нам весь взмыленный в одиннадцатом часу вечера. Он молча протянул мне письмо Мари-Жанны. Я прочитал его и передал Корделии.
– Не огорчайся. Сделай вид, что ничего не произошло, – посоветовал я Бюзару. – Завтра она тебе скажет нечто противоположное.
– Вы ее не знаете!
– Никогда не следует принимать за чистую монету слова любимой женщины.
– Не слушайте его, – вмешалась Корделия. – Во-первых, он пошляк. Кроме того, он говорит вовсе не то, что думает.
– Если ты в самом деле дорожишь этой девушкой, поступай, как я тебе советую, – настаивал я. – Не отвечай на ее письмо. Не ходи к ней. И не пройдет недели, как она сама прибежит за тобой.
– Не верьте ему, – прервала Корделия. – Он скоро начнет хвастаться, что знает средство, как заставить женщину раболепствовать перед мужчиной. Но все это вранье. Он сам в это не верит. Он просто-напросто пошляк.
Мы с Корделией довольно долго так препирались, а Бюзар молча смотрел на нас.
– Мне скоро пора на фабрику, – не выдержал он. – Если вообще стоит еще добывать эти триста двадцать пять тысяч франков…
– Он ждет, что мы придумаем, как помирить его с Мари-Жанной, – сказала Корделия.
Пытаясь понять, чем Бюзар так разозлил Мари-Жанну, Корделия попросила его подробно рассказать о разговоре с Шатляром.
Бюзар передал свой спор со стариком.
– Ерунда, – решила Корделия.
Лично меня раздражало, что он обманул старого профделегата, человека светлого ума и большой душевной твердости, в чем я много раз убеждался.
– Ты не мужчина, – упрекнул я Бюзара. – Какая-то негодная девчонка водит тебя за нос.
Корделия возмутилась. И мы с ней снова сцепились.
– Я обещал брессанцу сменить его в двенадцать часов, – проговорил Бюзар.
– Послушай, – обратилась к нему Корделия. – Отправляйся на фабрику, как будто ничего не произошло…
– Именно это я и посоветовал.
– …Поскольку ты связан словом с товарищем, и он тебя ждет. Раз ты затеял все это дело, ты не можешь отступить из-за какого-то письма, написанного под горячую руку. А завтра я повидаю Мари-Жанну и Шатляра. Мы все это утрясем. Не волнуйся…
– Вы думаете, что она действительно меня не любит? – спросил Бюзар.
– Я думаю, что она просто обиделась.
– Но она на самом деле никогда не говорила, что любит меня. Это правда, – настаивал Бюзар.
– Она просто стыдится это сказать.
– Вы правы, – согласился Бюзар.
После его ухода я заметил Корделии:
– Ты сама себе противоречишь. Совсем недавно ты утверждала, что Мари-Жанна по своему складу не может любить.
– Во-первых, я этого не говорила. И вообще сейчас речь не об этом…
– Вся эта история нелепа. Мари-Жанна – сухарь; разве можно любить женщину, которая вот так поджимает губы? А Бюзар – растяпа. Полтора года бегает за ней и ничего не добился. Он мне нравился, пока мечтал выиграть «Тур де Франс». А сейчас, когда он идет на всякие низости, чтобы стать лавочником, он внушает мне отвращение!
– А ты встань на их точку зрения.
– На месте Бюзара я бы предпочел этой мещаночке Мари-Жанне толстуху Жюльетту.
– Не беспокойся, в этом никто не сомневается.
На следующее утро Корделия, выполняя обещание, данное Бюзару, отправилась к своей подружке. Занятая мыслями, как лучше начать разговор, она вошла не постучавшись.
Мари-Жанна с горящими щеками стояла в углу комнаты за своим рабочим столом, положив руки на высокую спинку.
У стола, спиной к дверям, сидел какой-то мужчина. Корделии видна была только его голова: круглая лысина, окаймленная короткими светлыми завитками, и жирный затылок в складках над пиджаком из твида.
Мужчина поспешно захлопнул лежащую перед ним записную книжку и принялся засовывать ее в наружный карман пиджака. Он с трудом протолкнул ее туда. Пухлая книжка была набита истрепанными бумажками; кожаная обложка рыжего цвета потрескалась, сморщилась и вытерлась на углах. Мужчина встал. На нем были брюки-гольф и охотничьи башмаки. «Подрядчик», – решила про себя Корделия.
Не поздоровавшись он прошел мимо нее, опустив глаза и втянув голову в плечи. Судя по его затылку и одежде, Корделия никак не ожидала, что у него будет такой нерешительный вид. Обычно подрядчики твердо шагают по земле. Он пробурчал что-то невнятное и вышел.
Проходя мимо окна, он сделал замысловатый жест рукой и крикнул:
– Не прощаюсь!
Мари-Жанна поспешно захлопнула окно. Мужчина удалялся тяжелыми шагами. Его походка становилась все увереннее.
– Что это за явление? Кто это? – спросила Корделия.
– Мерзкий тип, – ответила Мари-Жанна.
Глаза у нее блестели.
– Я ему выложила все, что о нем думаю, но он все равно еще придет…
Она была очень возбуждена. И все твердила:
– Они всегда возвращаются.
Не в первый раз уже Мари-Жанна жаловалась Корделии на преследования определенной категории мужчин.
– Старые и женатые, – сказала она как-то.
Она ни разу не назвала ни одного имени. Чаще всего Мари-Жанна обобщала их: «они», «эти», и, рассказывая о своих с ними взаимоотношениях, говорила о себе в третьем лице, словно действующим лицом была не она, Мари-Жанна, а вообще женщина.
– Им говорят: «Вы омерзительны», а они не обижаются, достают свой бумажник и спрашивают: «Сколько ты хочешь?» Их выгоняют, а они вцепляются в вас, кидаются на вас, суют свою грязную щетину вам под нос. Пока их не стукнут, не уйдут…
Нам с Корделией приходило в голову, что, может быть, все это плод воображения Мари-Жанны. Я даже посоветовал Корделии:
– Плюнь ты на нее. Неврастенички встречаются и среди работниц. Тебе кажется, что ты открыла чистое сердце, а оно будет существовать только в две тысячи пятидесятом году. И вообще надомная работа вредна. Ходила бы Мари-Жанна на фабрику, как все девушки в Бионне, и подружки своими насмешками давно бы рассеяли всех ее призрачных ухажеров. Она сошлась бы с Бюзаром, и нервы у нее успокоились бы…
Но в то майское утро Корделия собственными глазами увидела одного из этих преследователей.
– Кто это? – повторила она свой вопрос.
– Наш домохозяин, Жюль Морель, владелец «Пластоформы».
– Что ты с ним сделала? Можно подумать, что ты его нокаутировала.
– Я ему такого наговорила!
– А что он записывал в свою книжку?
– Подсчитывал, сколько я ему должна за квартиру.
– Почему ты не платишь? По твоим словам, вы с матерью не нуждаетесь.
– Он не хочет брать с меня денег.
– А у тебя с ним действительно ничего нет?
– Каждый раз, когда он пытался подойти ко мне поближе, я ему давала пощечину.
– Ты должна платить за квартиру.
– Не могу, он не берет.
– Пошли по почте.
– А расписка?
– Почтовая квитанция заменяет расписку, ты же это великолепно знаешь, возмутилась Корделия.
– Он мне достаточно надоедает. – Мари-Жанна повысила голос. – Неужели ты хочешь, чтобы ко всему еще я давала ему деньги.
Все это Корделия передала мне и добавила:
– Знаешь, в эту минуту Мари-Жанна была мне неприятна. На ее лице появилось какое-то совсем новое выражение…
– Что ты имеешь в виду? – спросил я.
– Ну вот как у некоторых матерей, когда они секут своих ребятишек и просто заходятся.
– Разве Жюль Морель был похож на побитого ребенка?
– Нет, сравнение мое неудачно. Едва он переступил порог, он сразу преобразился и, когда крикнул «Не прощаюсь!», показался мне таким злобным…
Корделия задумалась.
– Вот! – сказала она. – Однажды у тебя было такое же выражение, как только что у Мари-Жанны. Это было в Гранж-о-Ване. Мы с тобой гуляли на лугу вдоль рощицы и неожиданно у твоих ног с шипением взвилась змея. Помнишь?
– Помню. Я отскочил и закричал.
– Ты принялся избивать змею своей палкой с железным наконечником. Ты ей что-то повредил, наверное, позвоночник. У змей есть позвоночник? Словом, она не могла уже ни убежать, ни напасть на тебя. Она делала судорожные скачки, но падала все на то же место; говорят, это предсмертные конвульсии. Но ты продолжал колотить по ней своей палкой. Потом ты стал кружить вокруг змеи, не приближаясь к ней, и забрасывал ее камнями, пока она не превратилась в сплошные обрубки. Тогда ты наступил ей каблуком на голову… Знаешь, можно было подумать, что ты боялся всех этих самостоятельно извивающихся кусочков… В тот день ты мне здорово не понравился…
– Мари-Жанна защищается, – сказал я.
– Но она делает это с упоением.
– Понял! – воскликнул я. – Мари-Жанна мучает своих преследователей, как черный бой своего хозяина-колониста.
Корделия возмутилась:
– Пока что, насколько мне известно, хозяин избивает боя.
– Именно поэтому, когда бою представляется случай в свою очередь ударить хозяина, он теряет над собой всякий контроль. Слишком много унижений ему пришлось испытать, и он должен за них отплатить. Он кружит вокруг агонизирующего, как я вокруг змеи.
– Но тебя никогда не унижала ни одна змея.
– Наверняка унижала, хотя я и забыл, при каких обстоятельствах. А может быть, я был унижен тем страхом, что она мне внушила. Это очень унизительно, тем более когда труп оказывается таким вот смехотворным и уже безобидным, как эта убитая змея. Или когда внезапно обнаруживаешь, что враг гораздо слабее, чем ты думал, а ты позволял этому фанфарону себя мистифицировать.
– Но ведь преследователи Мари-Жанны еще не умерли.
– Они просители, и поэтому сила на ее стороне. Появись в ней ответное чувство, и соотношение сил немедленно изменилось бы. В действительности же они сильнее, потому что они мужчины. И по этой причине тебе не по душе обращение Мари-Жанны с ее ухаживателями. Во взаимоотношениях хозяина с рабом всегда есть что-то темное. Они могут жить бок о бок только ценой взаимных уступок, и в конце концов они находят в этих компромиссах удовольствие. Прочти обязательно, что писал об этом Гегель… Бывает, что бою нравится, когда его бьют. Это верно и в отношении домашних животных. У одного человека была собака, на которую дубинка действовала так же возбуждающе, как запах суки, это было омерзительно. Бывает также, что хозяин испытывает наслаждение, когда бой унижает его. Но чаще всего они любят и ненавидят друг друга одновременно и взаимно; и таким образом, все поступки в их совместной жизни носят двусмысленный характер. Стыд обладает еще большим количеством личин, чем многоликая аллегория трагедии. От него остаются шрамы.
– Но Мари-Жанна не раба своих поклонников.
– Пока что в таких странах, как наша, все женщины – а негры.
– Существуют порядочные женщины.
– Это «кроткие негры».
– Я стою за восстание «кротких негров», – сказала Корделия.
– Чудесный сюжет для пьесы, – сказал я, – в тот момент, когда вспыхивает бунт, колонист с удивлением обнаруживает, что больше нет «кротких негров».
– Надеюсь, именно они окажутся самыми свирепыми, – заявила Корделия.
– Пьеса будет хорошей, только если колонист поймет, почему именно «кроткие негры» должны быть самыми свирепыми…
Мы знакомы с одной девушкой, дочерью колониста. Она окончила среднюю школу во вьетнамском городке, где жила с матерью и отчимом. В коллеже она подружилась с неким Нгуеном, молодым вьетнамцем, который, как она знала, был связан с партизанами. Она была полностью согласна с ним, что необходимо бороться за освобождение колониальных народов. Они вместе читали стихи Бодлера, Рембо, Десноса, Превера. Однажды ночью в городке вспыхнуло восстание. Утром девушка нашла своего отчима связанным на стуле в кабинете. В доме все было перевернуто вверх дном. Она ненавидела отчима и отнеслась к этому спокойно. С улицы доносились пулеметные очереди, но француженка была храброй и не перепугалась. Повстанцами, ворвавшимися к ним в дом, командовал Нгуен. Она подошла к своему другу и сказала:
– Ну и шум вы подняли…
Вьетнамец посмотрел на нее. Она собиралась на теннисный корт: на ней был спортивный костюм, под мышкой она держала ракетку, и волосы у нее развевались на ветру. Она задорно смеялась.
– Немедленно вернись к себе в комнату, – грубо сказал Нгуен.
– Это еще что за разговоры…
Совсем близко хлопнул выстрел.
– Ну и бузу вы устроили!
Вьетнамец плюнул ей в лицо.
Дочь колониста живет теперь во Франции и зарабатывает себе на жизнь. С тех пор она о многом раздумывала. Своим плевком вьетнамец помог ей задуматься над диалектикой взаимоотношений хозяина и раба. «Я поняла, рассказывала она, – что все белые без исключения виноваты перед вьетнамцами».
– Каждый мужчина, – сказал я Корделии, – виноват перед всеми женщинами.
– Ты мне надоел, – ответила Корделия. – Как бы нам помирить Мари-Жанну с Бюзаром?
– Разве ты ничего не добилась?
– После всего, что она мне сообщила о старике Мореле, я почувствовала себя не «в форме», как сказали бы твои друзья велогонщики, чтобы разговаривать с нею о Бюзаре.
– А ты убеждена, что Мари-Жанна и раньше так же рьяно сопротивлялась старику Морелю?
– Совершенно уверена, – твердо сказала Корделия. – Ты разве не видел обстановку в ее комнате? Трухлявая кровать, унаследованная от ее бабушки. Ни холодильника, ни стиральной машины, ни электрической швейной машины. Дешевенький динамик. У нее нет ни одной «ценной вещи», выражаясь языком мелких буржуа. Платья она шьет себе сама – покупает остатки и отдает их кроить своей соседке, которая научилась кройке.
– Вот это убедительно.
Мы с Корделией имеем обыкновение проверять честность профсоюзных и политических деятелей, деловых людей и девушек, сопоставляя, с придирчивостью налогового инспектора, их образ жизни с их доходами.
В пятницу, в восемь часов утра, Бюзар начал свою четвертую смену; брессанец вышел на работу в полдень.
После обеда Бюзар поделился своим горем с Элен и дал ей прочесть письмо Мари-Жанны.
В шесть часов вечера Элен пошла к воротам фабрики, чтобы встретить мать Мари-Жанны и переговорить с нею. Корделия со своей стороны собиралась прощупать Шатияра, с которым мы дружили, и после этого снова повидать Мари-Жанну и ее мать.
Таким образом, в субботу утром больше десяти человек, включая мать Мари-Жанны, пытались помирить Бюзара с его невестой.
До сих пор Элен не одобряла женитьбы брата на этой «ломаке», как она говорила. Мать Мари-Жанны утверждала:
– Всякая торговля превращает человека в раба… Тебе придется распрощаться с любимыми развлечениями, с кино, с танцами, – говорила она дочери. – Ты будешь занята и в субботу, и в воскресенье.
Корделия, как читатель помнит, всего неделю назад с жаром отстаивала право своей подруги на свободу. Но теперь все они упорно стремились их поженить. Даже Шатляр и тот, угрызаясь тем, что ссора произошла по его вине, тоже принял участие в примирении.
– Возможно, я разговаривал с парнем слишком резко. Надо быть человечнее…
Таково наше время. Сердечные дела теперь уже не имеют ничего общего с величием души, как в трагедиях Корнеля. Кодекс чести заменен теперь «любовной почтой». Никого не трогает тяга молодых людей к героическим поступкам, но, как только те распускают нюни, все приходят в умиление. Журнал может с возмущением рассказать о расстреле, напечатать фотографию расстрелянных мужчин, женщин и детей, брошенных в братскую могилу, и на обложке того же номера поместить фотографию новорожденных. Наше общество впадает в детство. Это закономерно для кануна великих революций. Сен-Жюст и Робеспьер вначале тоже писали всякий вздор.








