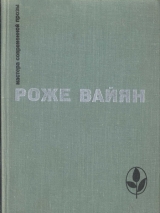
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Роже Вайян
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 48 страниц)
– Так вот хозяйка гостиницы «Орьенталь» в Бангкоке, голландка…
– Кому ты это говоришь!.. Это моя старая знакомая. Налей нам еще рому, выпьем за ее процветание.
После службы в легионе Серебряная Нога немало поколесил по свету в поисках места, где бы ему обосноваться. Но все деньги, которые ему удавалось скопить за год, то подгоняя дубинкой туземцев на каучуковых плантациях в Малайзии, то перевозя товары на грузовиках по тропинкам в верховьях Иравади, он в одну неделю спускал, пропивал в обществе наглых и равнодушных женщин. В конце концов он вернулся в свой родной город Бионну, где какой-то дальний родственник оставил ему в наследство небольшое бистро; и даже теперь, хотя ему было уже семьдесят лет, в его глазах иногда вспыхивал огонек ребяческой гордости королей притонов. Я хорошо представляю себе, как в годы своего расцвета, получив крупную сумму денег, он с независимым видом входил вечером в один из кабаков, пышно называемых «ночными заведениями», и внимательно оглядывал посетителей: здесь он решил «обосноваться» на ночь. Во время одной из драк, которую он затеял, как «настоящий мужчина», ему прострелили коленку; хирург сделал ему металлическую коленную чашечку, откуда и родилось его прозвище.
Итак, в тот вечер мы с Серебряной Ногой попивали ром, хвастаясь друг перед другом прошлыми похождениями.
Около одиннадцати пришел Поль Морель с Жюльеттой Дусэ и сели в уголок. Они переговаривались вполголоса. Я понял, что Морель в чем-то упрекает молодую женщину, а она развлекается, изводя его.
– Она просто великолепна, – заметил я.
На ней было облегающее ситцевое платье, которое она надела, отправляясь на парусную регату. От ее безудержного смеха становилось так же весело на душе, как от вида травки, выбивающейся весной из-под снега в горах.
– Да, – согласился Серебряная Нога. – Жаль только, что она так легкомысленна. Поль Морель всерьез привязался к ней. Но она гуляет направо и налево. Скоро это ему осточертеет.
Ратуя за благоразумие, Серебряная Нога этим как бы компенсировал себя за неразумно прожитую жизнь.
Жюльетта была в том возрасте, когда красивые девушки начинают осознавать свою силу. Она внушала всем мужчинам одинаковые желания, и поэтому все они были для нее равны. Пока еще она не испытала унижений и слушалась только голоса своего сердца.
Вот что мне рассказали о ней: как-то она шла по поселку Мореля и встретила Фландена, старого рабочего, одиноко доживавшего свой век рядом с болотом, в бывшей печи для обжига кирпичей. Он прошелся по ее адресу.
В ответ Жюльетта протянула ему свои губы:
– На, папаша Фланден, целуй! Никогда уже больше тебе не придется смаковать такие губки.
До сих пор ей удавалось избежать унижений главным образом потому, что она упорно продолжала работать, несмотря на все подарки и заманчивые предложения, которые ей делали. Она склеивала пластмассовые изделия в сборочном цехе «Пластоформы». Она знала, что, если бы даже Поль Морель вздумал ее выгнать с фабрики, она всегда нашла бы другую работу. Она оставалась работницей. Поэтому она имела возможность обращаться с поклонниками так, как хотела.
Но это ненадолго. Ее сломят, либо Поль Морель, либо Жюль Морель, а может быть, даже и Серебряная Нога, который сделает это для кого-нибудь из своих посетителей. Это так же бесспорно, как то, что бионнскую велогонку должна была выиграть или красная майка – Ленуар, или голубая майка греноблец. Но в тот вечер вид Жюльетты еще вызывал ничем не омраченную радость. Будь я художником старой школы, я бы выбрал ее для аллегории щедрости.
Поль Морель побледнел. Он что-то быстро говорил, постукивая рюмкой по мраморной доске столика. Жюльетта явно заскучала. У нее опустились уголки губ. Мне стало неприятно, я представил себе, что пройдет время и у нее около рта появятся горькие морщинки.
Было уже за полночь. Открылась дверь, и вошел Бюзар. Увидев, что в кафе, кроме нас четверых, никого нет, он хотел было уйти, но Серебряная Нога громогласно объявил:
– А вот и чемпион пресса!
Я пригласил Бюзара за наш столик, Серебряная Нога встал, чтобы налить Морелю и Жюльетте еще по одной большой рюмке коньяку. Он задержался, болтая с ними, и мы остались с Бюзаром вдвоем. Он рассказал мне о своем пятнадцатичасовом рабочем дне.
– Ты должен пойти выспаться.
– Мне совершенно не хочется спать.
Он нахмурил брови, и от этого расстояние между глазами показалось еще меньше. Выражение лица у него стало еще более упрямое.
После работы, как он мне сообщил, он зашел в кафе, где танцуют, и Мари-Жанны там не застал. В то же время, как я только что узнал от него, он сам послал предупредить Мари-Жанну, что отправится прямо домой. Видимо, он хотел проверить, не пошла ли она все-таки танцевать.
После этого он пошел в поселок и постучал к ней в окно. Она не отозвалась.
Он не стал настаивать из боязни разбудить ее мать, по его словам, а на самом деле, как мне кажется, из страха рассердить Мари-Жанну.
– Правда, мы должны были увидеться только во вторник, но она же знает, что я работал с восьми утра. Не очень-то она… – Бюзар подыскивал слово. – …не очень-то она внимательна.
Я предложил ему выпить рюмочку рому.
– Идет. Может быть, после этого мне удастся заснуть.
Я крикнул:
– Рюмку рому для Бюзара.
– Я сама ему подам! – крикнула Жюльетта.
Она стремительно вскочила и убежала за стойку. Поль Морель возбужденно что-то говорил Серебряной Ноге, видимо, жаловался. Я предложил составить оба столика вместе.
– Очень хорошо! – крикнула Жюльетта.
Морель не посмел противиться, и я просил налить всем по большой рюмке рому. В то время как мы пили, Жюльетта сказала, показывая на Мореля:
– Он ревнует.
– Такую нельзя ревновать, – возразил Морель.
– Он ревнует меня к своему отцу, потому что тот повез меня на регату.
– Я не ревную. Но я не позволю тебе делать из меня посмешище.
Он обратился к нам за поддержкой.
– На парусных гонках было полно моих знакомых, которые часто видели меня с Жюльеттой. Теперь они скажут, что отец переманил мою девку.
– А ты опостылел твоей девке, – резко возразила Жюльетта.
– Понятно, деньжата у старика.
– Мне не нужен ни отец, ни сын. Хватит! – сказала Жюльетта.
– Я изучил старика. Ты совсем не в его вкусе. Он повез тебя только, чтобы похвастаться.
Жюльетта в свою очередь обратилась к нам за поддержкой.
– Сами видели, я его за язык не тянула. Сыну важнее всего его самолюбие, а отцу – похвастаться. А мне какой от всего этого толк? – И, повернувшись к Бюзару, она продолжала: – Ни тот, ни другой не способны сделать ради какой бы то ни было женщины то, что ты делаешь для Мари-Жанны.
Бюзар подозвал Серебряную Ногу:
– Еще по рюмке. Теперь угощаю я.
– Нет, – резко возразила Жюльетта.
– Что ты суешься? – спросил Бюзар.
– Хочешь – угощай, но сам не пей больше ни рюмки. Я тебе запрещаю.
– По какому праву ты мне запрещаешь?
– Разве ты не понимаешь, что они тебя съедят?
– Кто?
– Отец и сын.
– Ну и забавная же ты, – проговорил Бюзар.
Серебряная Нога налил всем рому и с вопросительным видом держал бутылку над рюмкой Бюзара.
– Так как же? – спросил он подмигивая.
– Лей.
Бюзар потянулся с рюмкой к Морелю.
– Твоя машина просила тебе кланяться.
– Что ты хочешь сказать?
– Жюльетта права. Но вам меня не съесть, потому что я смоюсь.
– Короткая же у тебя память, – возразил ему Морель. – Разве не я рыл землю, чтобы дать тебе возможность заработать эти триста двадцать пять тысяч?
– Я идеальная машина, – сказал Бюзар. – При покупке за меня ничего не надо вносить. Единственные твои расходы – содержание этой машины.
– Вот твоя благодарность!
– Через десять лет ты все еще будешь торчать у пресса! – воскликнула Жюльетта.
– Нет, – сказал Бюзар, – я отсюда смоюсь.
Он подозвал Серебряную Ногу.
– Налей еще!
Бюзар выпил залпом рюмку рому и посмотрел на Жюльетту.
– Вот у тебя доброе сердце…
– Я тебя люблю, – проговорила Жюльетта.
– Все понятно, – вмешался Поль Морель.
Жюльетта повернулась к нему.
– Не скоро ты понял.
– Ладно, ладно. – И он деланно рассмеялся. – Выходит, смываться-то надо мне?
– Спокойной ночи, – ответила ему Жюльетта.
– Видите, какая она… – проговорил Поль Морель.
Все молчали. И смотрели на него. Он встал и положил мне руку на плечо.
– Это глупо, но я в самом деле втюрился в нее. – И, обращаясь к Серебряной Ноге, сказал: – Припишешь к моему счету.
– Что именно? – спросил Серебряная Нога.
– Все! – И Поль Морель добавил: – Только на это я и гожусь.
Но в голосе его не чувствовалось озлобления, скорее робость.
Бюзар и Жюльетта смотрели друг на друга и не слышали его.
– Ну, прощайте, – сказал он.
Поль Морель ушел.
Бюзар продолжал смотреть на Жюльетту. Он не казался пьяным. Лицо у него было такое же напряженное, как во время третьего этапа на гонках, когда он после падения продолжал ехать, истекая кровью.
– Ты такая красивая. Как можешь ты путаться с ними?
– Скажи слово, и я сразу забуду, что путалась с ними.
– Я радуюсь жизни, когда вижу тебя.
– Если бы ты захотел, Бюзар…
– Ты же знаешь, я люблю Мари-Жанну.
– Да, верно. Ты любишь Мари-Жанну.
– Ты красивее Мари-Жанны. Ты лучше ее. И мне с тобой лучше. Но почему же так, почему я люблю Мари-Жанну?
– Нам с тобой не везет, – сказала Жюльетта.
– Мари-Жанна немножко похожа на них. Она расчетливая. В ней нет широты.
– Надеюсь, ты не думаешь, что я буду ее защищать.
– Ты на это способна.
– Да, потому что я ставлю себя на ее место. Мари-Жанна обороняется…
– От кого?
– Просто обороняется.
– Мы с тобой сильны, как львы, – сказал Бюзар.
– Это только так кажется.
– Вот я – лев. Я твердо решил удрать отсюда. И я удеру. Я не уйду от пресса, пока не заработаю эти триста двадцать пять тысяч. А потом прощай Бионна!
– Львенок ты мой…
– Ты смеешься надо мной?
– Неважно, ведь я тебя люблю.
– Почему ты смеешься надо мной?
– Львы не удирают.
– Просто ты не хотела бы, чтобы я уезжал из Бионны. Вот ты и говоришь, что львы не удирают. Все это потому, что ты любишь меня.
– Ты угадал, – сказала она.
– Серебряная Нога, налей нам еще по рюмке… До чего же ты красивая, Жюльетта!
И так они беседовали до поздней ночи, повторяя все те же вопросы и ответы, все те же восклицания то в одной последовательности, то в другой, но содержание не менялось. Только с каждой рюмкой они говорили все медленнее и медленнее.
Если бы кто-нибудь случайно зашел в бистро, он бы не подумал, что они пьяны. Бюзар сидел слишком прямо на своем стуле, как воспитанные в строгости юноши из старых аристократических семей; воспитание вошло у них в плоть и кровь, поэтому вид у них всегда такой непринужденный, но они умеют в нужную минуту выпрямиться и, как их учили, подобрать живот. Жюльетта редко пьянеет, она выдерживает любое количество спиртного, как горный поток вешние воды.
Неожиданно Бюзар уронил голову на скрещенные руки. Он уснул.
Было четыре часа утра. Серебряная Нога давным-давно опустил железные шторы.
– Бюзару нужно сменить брессанца в восемь часов, – заметил я.
– Ты уложишь его? – попросила Жюльетта Серебряную Ногу.
– Если хочет, может лечь на диванчик.
– А ты его разбудишь?
– Ему волей-неволей придется проснуться. В шесть придет уборщица и начнет уборку.
Мы вдвоем с Жюльеттой перенесли Бюзара на диванчик.
– Дай одеяло, – обратилась Жюльетта к Серебряной Ноге.
– Ты чего распоряжаешься?
– Живей!
Жюльетта укрыла Бюзара и заботливо подоткнула край одеяла. Поцеловала его в лоб.
– Я бы так тебя любила, – сказала она.
Она вышла, нагнувшись, чтобы пройти под приспущенной железной шторой, и вскоре до нас донеслось рычание ее мотороллера.
– Выпьем по последней, – предложил я Серебряной Ноге. – До чего же она хороша!
7
Пятого ноября в полдень фабрику «Пластоформа» закрыли на два дня, чтобы за это время оборудовать на прессах новую систему охлаждения.
Вместо воды, циркулирующей в стенках формы, теперь будут применять какой-то химический состав. Но прежде необходимо было модифицировать змеевики, чтобы кислота не могла разъесть металл. Время охлаждения пластмассы сократится на две трети.
Бюзар немедленно подсчитал, как отразится усовершенствование машины на его работе.
Теперь в его распоряжении будет всего десять секунд вместо тридцати на то, чтобы отсечь «морковку», разъединить сдвоенные кареты и сбросить их в ящик. Красный глазок загорится как раз в тот момент, когда он закончит эти три операции. Итак, рабочие лишились передышки.
Теперь Бюзар будет выпускать по одной карете-катафалку каждые двадцать секунд, по три в минуту, сто восемьдесят в час, две тысячи сто шестьдесят в день, следовательно, за те тринадцать дней, которые ему осталось провести у пресса, чтобы заработать свои триста двадцать пять тысяч франков, он отольет двадцать восемь тысяч восемьдесят катафалков вместо четырнадцати тысяч сорока. Но что это ему даст?
Каждый рабочий производил такие же вычисления. Люди, собираясь вместе, обсуждали нововведение. Несмотря на приказ прекратить работу, все разошлись только в час дня.
Во избежание недовольства дирекция одновременно объявила о прибавке зарплаты на десять франков в час.
Бюзар подсчитал, что он будет зарабатывать две тысячи четыреста сорок франков в сутки вместо двух тысяч сорока, значит, его пребывание на фабрике сократится на один день и три часа. Но так как двое суток вынужденного простоя оплачивались по старой расценке, без надбавки за ночную работу, то для него в конечном счете ничего не изменится. Он закончит свое подвижничество, как и предполагал, в воскресенье, 18 ноября, в двадцать часов, а брессанец в полночь.
Юноши вместе пошли обедать к родителям Бюзара.
– Лично я, – сказал отец Бюзара, – не знаю, что покупатели находят в каретах старика Мореля. Почему они их все заказывают и заказывают, не пойму.
– Будь то серна, эдельвейс или карета – все одна мура, – сказал Бернар.
– У меня каждый эдельвейс не похож на другой, – запротестовал отец.
– Нынешний покупатель ничего не смыслит в качестве, – заметила мать.
– И я делаю всего несколько сотен эдельвейсов в год, – продолжал отец.
– А мне все же интересно, почему старик Морель так упорно отливает кареты? – вмешалась Элен Бюзар. – Современный покупатель предпочитает автомобили.
– Я же тебе объяснил, он выпускает кареты потому, что американцы ему продали по дешевке форму для литья катафалков, – сказал Бернар.
– Это не довод… – возразила Элен. – Я веду дела нашей мастерской и изучила потребности покупателя. Я не берусь продать и три сотни карет в год.
– А катафалки? – спросил брессанец.
Элен пожала плечами.
– На катафалки во Франции нет спроса, – ответила она.
– Старик Морель сбывает свои катафалки неграм, – сказал Бернар Бюзар. Я узнал это от Поля Мореля.
– Негритята наверняка похожи на наших детей, – вставила Элен. – И я убеждена, что они тоже предпочитают автомобили.
– Все идет в Африку. Больше я ничего не знаю.
– Может быть, они принимают эти кареты за катафалки, – сказала мать. Этих людей тянет на все мрачное.
– В таком случае Морель должен был бы выпускать их черными, проговорила Элен.
– А может быть, у негров траурный цвет красный, – возразила ей мать, раз у них черная кожа. Это было бы вполне разумно.
– Вы несете чушь, – сказал отец. – Просто Морель нашел какой-то фокус, чтобы сбывать неграм свои кареты.
– Да нет же, папа, – возразил Бернар. – Морель продает свои игрушки колониальным торговым конторам, которые покупают у негров все их товары и снабжают их всем, в чем те нуждаются. Неграм ведь тоже нужны игрушки…
– Я именно это и говорю. У них забирают слоновьи рога и взамен всучивают пластмассовые кареты.
– У слона нет рогов, – сказала Элен.
– Забирают каучук.
– Каучук везут из Индокитая, – сказала Элен.
– В Африке он тоже есть, – вмешался брессанец. – Я читал об этом в «Альпийском стрелке».
– Я знаю, что говорю, – продолжал отец. – Бернар стал сообщником фальшивомонетчика. На него следовало бы подать в суд.
– Ты преувеличиваешь, – заступилась мать. – Эти кареты не бог весть что, но все же они стоят каких-то денег.
– Бернар принимает участие в некрасивом деле.
– Черт побери! – взорвался Бернар.
– Будь повежливее с отцом, – остановила его мать.
Бернар встал и прошел к себе в комнату. Брессанец последовал за ним. Они легли рядом на кровать и немедленно заснули. Впервые с середины мая их не угнетала необходимость через три часа возвращаться в цех.
Когда Бюзар проснулся, он увидел, что брессанец сидит перед отцовским шедевром – макетом площади Согласия и переключает светофор при въезде на улицу Руаяль: красный свет, зеленый, желтый и снова красный.
– Твой отец тут кое-что забыл сделать.
– Только не говори ему.
– Тут есть все, даже пожарная машина. Но нигде ни одного велосипедиста.
– Наверное, в Париже мало велосипедистов. Тем более на площади Согласия.
– А мне говорили, что встречаются…
– Ты прав! – воскликнул Бюзар. – Я даже знал одного, приезжал к нам в отпуск. Он развозил газеты.
– Давно приезжал?
– В тысяча девятьсот сорок шестом году.
– Теперь, должно быть, газеты развозят на мопедах.
– Не обязательно, – сказал Бюзар. – Это зависит от себестоимости и расходов на амортизацию.
– Конечно, – согласился брессанец.
– Все это мне объяснил Поль Морель, пока ты был на велогонках в своей деревне.
– Ты с ним дружишь!
– А что мне это дает?
Оба помолчали.
Потом взглянули друг на друга, и брессанец сказал:
– Поехали?
– Я как раз об этом же подумал.
Они вытащили свои велосипеды, висевшие в дровяном сарае, и тихонько поехали рядом по Сенклодской дороге к перевалу Круа-Русс.
Прошел дождь, и в лугах пахло грибами. Было свежо, но еще не холодно. Столько месяцев Бюзар не тренировался и даже не ожидал, что ехать будет так легко.
– Как дела? – спросил брессанец.
– Все в порядке.
– Я тебя подожду на перевале, – сказал брессанец и умчался вперед.
Бюзар дал ему отъехать, потом сам приналег и с легкостью нагнал его. При каждом повороте педали он преодолевал большее расстояние, чем брессанец.
Поравнявшись с крестьянином, он посоветовал ему:
– Переходи на большую передачу.
– Ты думаешь?
– Попробуй.
Брессанец переключил передачу и поехал с меньшим напряжением. На первом же повороте Бюзар обошел его и остановился, поджидая своего товарища.
– На вираже ты должен был переключить на малую передачу.
– А разве у тебя не та же передача, что у меня? – спросил брессанец.
– Нет, сейчас меньше, ты же видишь, что я верчу педали с большим напряжением, чем ты.
– Я сильнее тебя, – сказал брессанец.
– Конечно, – согласился Бюзар. – Но я лучше знаю велосипед.
Так, болтая, они поднимались к перевалу, а в пятистах метрах от него сделали рывок, и Бюзар пришел первым благодаря своей сноровке.
Они уселись у подножия креста.
– На первом моем велосипеде не было переключателя скоростей, рассказывал брессанец.
– Сколько тебе было лет?
– Это было в феврале этого года.
– А прежде ты никогда не ездил?
– Нет.
– Ты чемпион.
– Верно… Знаешь, пожалуй, мне больше нравятся велосипеды без переключателей. Все эти передачи сбивают меня с толку.
– А у твоего первого велосипеда сколько было зубьев на задней шестерне?
– Шестнадцать.
– И на нем ты одолел перевал Фосий?
– Да.
– Ты чемпион из чемпионов!
– Ты прав, – согласился брессанец.
– Если бы ко всему еще ты умел как следует пользоваться своим велосипедом, ты бы стал чемпионом чемпионов из чемпионов.
Бюзар перевернул велосипед и принялся объяснять принцип устройства переключателя скоростей и какие нужно выбирать передачи в зависимости от подъема, от спуска, от ветра, от того как проходишь вираж – срезая или нет, а также исходя из тактики противника и учитывая свой запас сил.
– А в общем бесспорных правил нет, – сказал Бюзар. – От слишком многих вещей это зависит. Правда, кое-кто тебе скажет, что существуют бесспорные правила. По-моему, это не совсем так. Хороший гонщик, кроме всего, должен чувствовать, в какой момент ему следует переключить передачу и какую именно выбрать. Но если даже в тебе развит инстинкт, все равно ты прежде всего должен знать…
Брессанец задавал вопросы, повторял ответы. Ему захотелось сразу же применить на практике вновь приобретенные знания, и он предложил спуститься в Клюзо, а на обратном пути проделать подъем с тринадцатью поворотами. Но было уже поздно. Солнце скрылось за горами.
– Ничего, поднимемся при свете фонарей.
– Никто не устраивает гонок при фонарях.
– Прошлой зимой я тренировался при фонарях.
– Ну ты же чемпион из чемпионов, – повторил Бюзар.
Но все же он настоял на немедленном возвращении в Бионну. К чему ему тренироваться, раз он больше никогда не будет участвовать в гонках?
Спускались они медленно, чтобы растянуть удовольствие.
«Собственно говоря, почему это я больше никогда не буду участвовать в гонках?» – спросил себя Бюзар.
Ему пришло в голову, что работа в снэк-баре не помешает ему остаться гонщиком-любителем. И что есть даже возможность перейти в категорию «независимых», промежуточную между любителями и профессионалами; Роби́к, Антонен, Роллан и Дарригад начинали свою спортивную карьеру «независимыми». И что, пожалуй, для «независимого» должность управляющего самая подходящая. И что Мари-Жанна – женщина с головой и сможет управлять заведением, пока он будет на тренировках.
Бюзар почувствовал такую же радость, как в тот день, когда нашел способ заработать триста двадцать пять тысяч, необходимых, чтобы заполучить Мари-Жанну и снэк-бар.
С тех пор, как он стоял у пресса, у него было время, даже слишком много времени, во всех подробностях представлять себе будущее. И картина близкого счастья потускнела, подобно контактам старого аккумулятора, покрывшимся окисью. Ток перестал проходить. Честно говоря, снэк-бар самый обычный ресторан. Управлять им – это работа. «Кадиллак», «остен» или «мерседес» – это всего-навсего автомобили. Утренний завтрак в постели это чашка шоколада с рогаликами. Деньги – это деньги. Мари-Жанна – просто женщина.
Последние недели его воодушевляла только одна мысль: разделаться наконец с прессом, с четырехчасовой сменой, с трехсменной работой, дождаться сто восемьдесят седьмого дня. В цеху каждый рабочий прикалывает на стенке рядом со своей машиной изображение того, чем он увлекается, или чем, как кажется ему, он увлекается, или хочет увлекаться. У большинства на стенке висит фотография какой-нибудь красотки, чаще всего Лоллобриджиды. Но из стыдливости люди часто немножко кривят душой. За Лоллобриджидой может на самом деле скрываться какая-нибудь худенькая девушка, чье имя не решаются называть даже самому себе, так что скульптурные формы Лоллобриджиды напоминают о той, у которой их нет. Другие вешают снимок мотоциклетки или мотороллера, взятый из каталога; Бюзар прикрепил вырезанную из календаря полоску начиная с 16 мая, где были целиком июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и часть ноября – до воскресенья 18-го. Ежедневно он вычеркивал по одному дню.
Мысль, что он сможет принимать участие в гонках, и даже еще лучше, чем раньше, как «независимый», придала смысл тем тринадцати дням, которые осталось ему пробыть у пресса. Почему он не подумал об этом раньше? Из-за Мари-Жанны, она не хотела, чтобы он сделал карьеру велогонщика. И вот, выбрав снэк-бар, он отказался от спортивной славы. Но как же он не вспомнил, что у него останется возможность выступать в категории «независимых»? А как же до 1873 года никому не приходило в голову, что можно сохранять равновесие на двух движущихся колесах? Но Бюзар отказался размышлять над природой изобретений.
– Рванем? – предложил он и помчался вниз, но у Бионны брессанец его опередил, и на этот раз не только потому, что был сильнее: он впервые стал разумно пользоваться переключателем скоростей. Стемнело. Мари-Жанна вышивала при свете свисавшей с потолка лампы с грузом, которую она могла опустить или поднять, в зависимости от того, насколько тонка была работа.
Мари-Жанна угостила молодых людей пьяными вишнями. Вернулась с фабрики ее мать и сказала:
– Вам не везет. Профсоюз только что принял решение объявить забастовку… Сейчас заказов маловато, и старик Морель не собирается уступать… это может продлиться до бесконечности, как в сорок седьмом году. Мы тогда бастовали девять недель… Свадьбу придется отложить.
– Я должен внести задаток до двадцатого ноября, – проговорил Бюзар.
Он заплатил триста семьдесят пять тысяч наличными при подписании контракта и выдал вексель сроком до 20 ноября. Ему до того не хотелось затягивать свое пребывание у пресса, что он отказался продлить срок векселя до 31 декабря, как предлагал владелец снэк-бара.
– Вы с ним договоритесь, в таких случаях всегда дают отсрочку, утешала его мать.
– А если он откажется отсрочить? – спросил Бюзар.
Никто не ответил.
– До чего же все это нелепо! – воскликнул Бюзар. – Мне оставалось только тринадцать дней. А почему они объявили забастовку?
– Ты же знаешь, – ответила мать Мари-Жанны. – Новая система охлаждения увеличивает производительность на пятьдесят процентов. Морель сам прибавил десять франков в час, Профсоюз требует двадцать франков.
Бюзар повернулся к Мари-Жанне.
– Какое мне до этого дело? Ведь я-то не останусь на фабрике…
Мари-Жанна продолжала вышивать. На лице ее ничего нельзя было прочесть.
Бюзар обратился к ее матери:
– Даже если Морель и пойдет на эту надбавку, я не выиграю ни одного дня.
– Ты уходишь, а другие-то остаются, – сказала мать.
Бюзар снова обратился к Мари-Жанне.
– Но я-то ухожу. Забастовка там или нет, я все равно буду продолжать работать, пока не кончится мой срок. А потом смоюсь.
Мари-Жанна подняла голову.
– Так нельзя, – сказала она.
– Почему это нельзя?
– Ты сам прекрасно знаешь, что так нельзя поступать.
Бюзар не ответил. Он сел у стола, напротив Мари-Жанны, и обхватил голову руками.
– Почему нельзя? – вмешался брессанец.
– Хватит того, что вы вдвоем выполняете работу троих рабочих, – сухо сказала Мари-Жанна.
– А если наш заработок нас устраивает, имеем мы право поступать, как нам вздумается? – проговорил брессанец.
– А если вам заплатят за то, чтобы вы стали шпиками, вы тоже имеете право поступать, как вздумается, да?
– Не ругай его, – заступилась мать. – Он же крестьянин. Как он может понять? Ведь он впервые работает на фабрике.
– А я вот никогда не работала на фабрике, – сказала Мари-Жанна, – и наверняка никогда не буду работать. Но почему-то понимаю.
– Ты другое дело, ты дочь рабочих, – ответила мать.
– Мои родители тоже рабочие, – проговорил Бюзар. – И все равно я пойду на фабрику, будет забастовка или нет, до тех пор, пока не отработаю свой срок. А потом уеду.
– Уедешь один, – сказала Мари-Жанна.
– До чего же глупо все получается, – возмущался Бюзар. – Ведь мне осталось всего тринадцать дней.
– А я никогда и не верила, что мы получим этот снэк-бар, – ответила ему Мари-Жанна.
– Он будет нашим, – твердо заявил Бюзар. – Забастовка ничего не изменит. Отсрочим вексель на несколько дней.
– Еще что-нибудь случится.
– Ты кого хочешь доведешь до отчаяния.
– Да перестаньте, будет у вас этот американский кабак, – сказала мать. – Всего-то несколько лишних дней. Мари-Жанна напрасно вас огорчает. Просто мы с ней привыкли ко всяким горестям…
Тем временем рабочие делегаты отправились к Жюлю Морелю.
– Бастуйте себе на здоровье, – ответил им старик. – Вы мне даже окажете услугу. Заказов-то нет… Если вы не объявите забастовку, я буду вынужден уволить часть рабочих.
– Я читаю по-английски, – сказал ему в ответ Шатляр.
– Что ты этим хочешь сказать?
Фабрикант и секретарь профсоюза издавна были на «ты». Они изучили друг друга так же хорошо, как старый браконьер зайца, которого он никак не может поймать, и как заяц – браконьера.
Шатляр внимательно следил за французскими и иностранными газетами промышленников. Английский и немецкий языки он выучил в тюрьме, где сидел с 1940 по 1942-й год (ему удалось бежать в тот момент, когда немцы начали оккупацию южной зоны). Из газет он недавно узнал, что «Пластоформа» получила значительный заказ от крупной американской фирмы на выгодных по сравнению с ценами на французском рынке условиях. Все это Шатляр выложил и сказал в заключение:
– Дай нам наши двадцать франков. Ты на этом не проиграешь. А зато насолишь конкурентам – рабочие остальных фабрик в свою очередь потребуют надбавки…
Они еще поспорили, но уже для проформы. Жюль Морель должен был выполнить заказ к определенному сроку, и Шатляр об этом догадывался. Рабочие делегаты настаивали на своем, и Морель согласился на двадцатифранковую надбавку. Забастовка не состоялась.
Седьмого ноября, ровно в полдень, как и было намечено дирекцией, работа в цехах «Пластоформы» возобновилась.
Брессанец пошел в первую смену.
Увеличение темпа его не беспокоило. Работа на прессе была для него настолько легкой, что он не относился к ней как к настоящему труду; вся эта цепь движений: поднять, вынуть, опустить, отсечь, разъединить, сбросить – не требует никаких усилий, а то, что не требует усилий, – не труд. Необходимость проделывать все шесть движений в двадцать секунд вместо сорока ничего не меняет. Ноль плюс ноль равен нолю. По правде говоря, он до сих пор еще не понял, что это и есть та работа, за которую ему платят деньги.
В бресской деревне, где он прожил всю жизнь, когда долго нет дождя, кюре предлагает своим прихожанам устроить крестный ход, чтобы умилостивить небо. Крестьяне шутят: «Вот я, чтоб вызвать дождь, мочусь на землю». Но все же большинство принимают участие в крестном ходе. Хотя, возможно, они считают, что помочиться на землю тоже помогает, чтобы вызвать дождь.
Для брессанца работать на фабрике это то же, что принимать участие в крестном ходе. А то, что ему платят сто шестьдесят франков в час за эти движения, но требующие никаких усилий, – просто чудеса. Но ему очень не нравится профессия прессовщика, он и не считает ее настоящим ремеслом. Работать у пресса так же скучно, как слушать проповедь в церкви. С его точки зрения, только врожденный лентяй способен заниматься этим всю жизнь. Для него пребывание на фабрике – одно из тех необыкновенных приключений, которые случаются с новобранцами в год их призыва. Когда-нибудь он будет рассказывать, как он в тот год на банкете, устроенном 29 января, выпил девятнадцать литров вина и два литра виноградной водки, как он первым пришел на велогонках города Бионны и как ему выдали триста двадцать пять тысяч франков за то, что он в течение полугода ежедневно простаивал по двенадцать часов забавную мессу без органа.
Одной из особенностей, характерных для Франции начала второй половины XX века, было то, что бок о бок, в одном и том же цеху, на одной и той же фабрике работают такой вот брессанец, для которого выполняемый им труд некая магия, и Шатляр, который готовится к забастовке, изучая положение на рынках. Кстати, если бы брессанец пробыл на фабрике дольше, а главное если бы он перешел в механический цех, где изготовляют формы – работа, требующая точности и смекалки, и если бы товарищи немного подзанялись им, он приобрел бы если не зрелость Шатляра, то, во всяком случае, его образ мышления. Да и в его деревне многие парни перестали верить в колдовство в тот день, когда научились ремонтировать мотор своего трактора. (До тех пор пока хозяин умеет лишь заправить свою машину горючим, маслом и водой, а едва она портится, призывает на помощь чудотворца-механика, трактор остается предметом магическим.)








