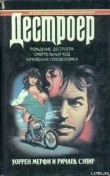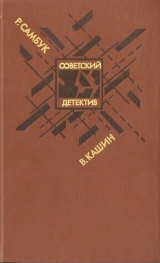
Текст книги "Взрыв. Приговор приведен в исполнение. Чужое оружие"
Автор книги: Ростислав Самбук
Соавторы: Владимир Кашин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
– Мы не боимся пострадать за Христа, – вздохнул Савченко, – это не тяжелая ноша, а радость. Когда вы свои глыбы каменные обрушиваете на нас, мы это принимаем безропотно. Сказано у апостола Павла, что закон духа жизни в Иисусе Христе освобождает нас от закона греха и смерти.
– А Петро Лагута и Мария Чепикова тоже за Христа пострадали, преступив закон жизни и смерти? – вдруг спросил Коваль и с удовлетворением заметил, что при этом вопросе Савченко испуганно стрельнул глазами на машинистку.
– Теперь будем ваши ответы записывать, – сказал Коваль.
– О брате Петре и сестре Марии знаю, но мы им не судии, они теперь вечную жизнь получили и отвечают только перед богом.
– Они-то перед богом отвечают, – вздохнул Коваль, – но кому-то и здесь нужно ответить.
– Об этом нам ничего не ведомо.
– Расскажите, какие у вас были отношения с Марией Чепиковой и Петром Лагутой?
– Никаких. Мария иногда приезжала в Черкассы к врачам, медицина не помогла, вот она к богу и обратилась. Молилась с нами…
– Когда была в последний раз?
– Точно не припомню.
– Накануне своей гибели, седьмого июля, – подсказал Коваль.
Савченко, испуганный тем, что милиции известна дата последнего посещения Марией его дома, закашлялся, стараясь выиграть время и обдумать ответ. Впрочем, если милиция знает дату, то она взята не с потолка. Савченко это знал из своего предыдущего опыта.
– Возможно, и седьмого… Да, кажется, так…
– С кем она была у вас?
– Несколько человек молились.
– А Лагута?
Пальцы Савченко задрожали, и он не знал, куда девать руки. Правое веко, как всегда при волнении, начало предательски подергиваться.
– Не было его на молении.
– А мужа Марии?
– И мужа не было.
– Он что, вообще у вас не бывал?
Савченко подумал: «Не от Чепикова ли у милиции все эти сведения?» И решил, что абсолютно все отрицать нельзя.
– Однажды Мария приводила, но душа у него не раскрылась, не услышал он голос божий.
– А Ганна Кульбачка?
– Седьмого не приезжала.
– Сколько вы продали спирта Кульбачке и по какой цене? – спросил подполковник Криворучко.
– Я ей спирт не продавал.
– Она часто приезжала к вам?
– Веру нашу соблюдала. Вместе со всеми молиться хотела.
– Значит, спирт, который изъяли у нее во время обыска, не с вашего завода?
– Откуда мне знать, что вы у нее нашли! Я ей ничего не продавал.
– Ну что ж, – сказал Криворучко, – проведем очную ставку. Мы располагаем другими сведениями.
– Значит, седьмого июля Мария Чепикова осталась у вас ночевать? – снова перехватил инициативу Коваль.
– Слабенькая она. Устала… – растерялся Савченко. – С богом говорила душевно, все свои силы истратила… Отлежалась и уехала…
– Так, – медленно произнес Дмитрий Иванович, – значит, уехала?.. А в котором часу?
– Не знаю. Спал я.
– А кто еще в ту ночь был в вашем доме?
– Ну, Федора, понятно.
– Может, она знает?
– Да ничего она не знает. Что она может знать!
– Проверим, – произнес Коваль и нажал на кнопку звонка.
Двери открылись, и вошла Федора, одетая в темное платье. Если бы появились живые Мария или Петро Лагута, Савченко, наверное, был бы меньше потрясен.
Увидев брата Михайла, Федора в свою очередь бросила на него испуганный взгляд.
– Ваши фамилия, имя, отчество? – спросил Коваль, предложив Федоре подойти к столу.
– Гнатюк я, Федора Ивановна…
– Вы знаете этого человека? – показал он на Савченко.
– Как не знать…
– Назовите.
– Михайло Гнатович.
Белокурая машинистка-инспектор быстро отстукивала вопросы и ответы.
– В каких вы с ним отношениях? Может, родственник ваш?
– Да ни в каких! И не родственник он мне. Хозяин мой. Служила у них.
– Федора Ивановна, – продолжал Коваль, – вы помните ту ночь, когда у вас последний раз ночевала Мария Чепикова?
Федора тяжко вздохнула и, не подымая глаз, кивнула.
– Какого это было числа? – Коваль заметил, что старуха снова бросила исподлобья какой-то растерянный и виноватый взгляд на Савченко, который в свою очередь зло глядел на нее.
– Да не бойтесь, Федора Ивановна, он уже не страшен, ничего вам не сделает.
– Да, – произнесла она, – помню. Было это с субботы на воскресенье…
– Седьмого июля?
– Седьмого, – кивнула Федора.
– Кто кроме вас находился в доме в ту ночь?
– Мария, хроменькая, прими господь ее душу. И вот они, – указала на Савченко.
– Когда уехала?
– Раненько утром. Я по их приказу, – снова взглянула на Савченко, – посадила ее на машину и отправила.
– А кто еще ночевал в доме в ту ночь?
– Брат Петро.
– Как фамилия?
– Фамилии не знаю.
– И что у вас произошло в ту ночь?
Федора опять тяжело вздохнула и некоторое время молчала, грузно опираясь руками на спинку стула, возле которого стояла.
– Да вы садитесь, Федора Ивановна, – предложил ей Коваль.
Она словно не слышала его слов и продолжала стоять. Только крепче вцепилась пальцами в стул.
– Грех там был большой…
– Я понимаю, вам тяжело говорить об этом, – сочувственно произнес Коваль. – Но необходимо. Ради истины…
Федора продолжала молчать, уставившись в носки своих истоптанных ботинок.
Дмитрий Иванович был готов к тому, что ответы из старушки придется клещами вытягивать. Это была полуграмотная, забитая женщина, потерявшая в войну всех своих близких. Одинокая, без крыши над головой, она нанималась в домработницы. Несколько лет тому назад Федора попала к Савченко и преданно служила ему, не вникая в то, чем занимается хозяин, и не рассуждая, хорошо или плохо все, что он делает. Она исполняла его распоряжения, по-хозяйски смотрела за домом, готовила еду и стирала. Была истинно верующей и фанатично молилась перед своими иконами, висевшими в ее комнатке.
Но как ни старалась она не вникать в дела хозяина, все же происходившее в доме вызывало у нее внутренний протест. Когда начинались, как говорила себе Федора, «бесовские игрища», она запиралась в комнатке и молилась, пока хозяин не выпроваживал гостей.
Она не осуждала хозяина, следуя заповеди «Не судите, да не судимы будете», но старалась держаться от него подальше, как от зачумленного. Даже белье его стирала, предварительно осенив корыто крестным знамением, словно изгоняя оттуда скверну.
Субботняя же ночь потрясла ее. Федора ничем не могла помочь Марии, спряталась у себя, молилась и плакала. Утром, проводив измученную сестру во Христе в Вербивку, старуха твердо решила уйти от Савченко. Но пока собиралась, произошли события, в результате которых она и оказалась в милиции, где допрашивали ее бывшего хозяина.
И все-таки вера и сейчас не позволяла ей вершить суд над Савченко. Давая показания, она выговаривала слова скупо. Возможно, и совсем бы не раскрыла рта, но еще до очной ставки с Савченко Дмитрий Иванович дважды беседовал с ней и смог кое-что выяснить о событиях субботней ночи.
Увидев своего бывшего хозяина, сидевшего, подобно раскаявшемуся грешнику, она не смогла так уверенно, как раньше, выразить свое отношение к событиям в доме, где служила. Было очевидным, что Савченко до сих пор подавлял ее волю.
– Вы говорили нам, – сказал Коваль, обращаясь к Федоре и подвигая к себе протокол прошлой беседы, – что среди ночи услышали крик. Кто это кричал?
– Мария кричала…
– Почему?
Федора отвернулась от Коваля.
– Что происходило в доме?
Старуха, казалось, вот-вот осядет в бессилии на пол. На лбу ее, окаймленном черным платком, выступили крупные капли пота.
– Я уже все сказала, – наконец произнесла она непослушными губами.
– Гражданин Савченко, – обратился Коваль к подозреваемому. – Расскажите тогда вы, что произошло в вашем доме в ту субботнюю ночь.
– Да ничего особенного, гражданин начальник… Ну выпили, погуляли… Без женщины, конечно, не обошлось. Она ко мне давно липла, эта Мария. Муж у нее старый, немощный. Дело такое… обычное… житейское…
Коваль заметил, как вдруг блеснули глаза Федоры.
– Неправду говорите, Михайло Гнатович! – неожиданно сказала старуха. – Она христом-богом вас просила, плакала! А вы говорите – липла! Плохой вы человек, Михайло Гнатович, ох плохой! А Мария несчастная была… Ее обижать – все равно что дитя!.. Она из-за вас, Михайло Гнатович, возможно, и с жизнью рассталась.
– Так где же, Савченко, правда? – строго спросил Коваль.
– Да что вы, гражданин начальник, мне все статьи клеите! И что с женщиной позабавился… Беда в этом небольшая. Государству ущерба нет… И преступления тоже. Если по обоюдному согласию, – вяло закончил Савченко.
Наступила пауза.
Подполковник Криворучко недовольно засопел. Его явно интересовали другие дела, а Коваль все больше уводил допрос в сторону.
– Скажите, гражданка Гнатюк, кто привозил Савченко спирт? И сколько?
– Не считала я. Возили. И сам приезжал с канистрами, и ему привозили…
– Что вы ее терзаете?! – не выдержал Савченко. – «Возили… Привозили…» – передразнил он Федору. – Что она понимает?! Знала свою кухню да корыто с бельем… А в остальном – дуб дубом, с рубля сдачи не посчитает. Бывало, за день слова из нее не вытянешь, а тут разговорилась. – И для пущей убедительности бывший экспедитор постучал себя кулаком по лбу, а потом по столу и указал на Федору. – Она не то что канистры – людей рядом не видела, ходила как лунатик.
С Савченко слетело напускное безразличие, и он начал говорить своим обычным голосом. Коваль понял, что только теперь начнется настоящий разговор.
Федора подняла возмущенный взгляд.
– А что ты знаешь, хозяин?! Разве видел, как умирают дети, как хоронят мужей, знаешь горе?! Водкой глаза заливал… Люди у тебя как овцы: «Иди!» – идут! «Беги!» – бегут. В страхе держал, пугал, обманывал, измывался. И Марию погубил. Ирод, ирод, нет тебе другого слова…
– А оружия в доме не видели? – спросил Коваль, когда Федора в гневе умолкла. – Пистолет, например…
– Нет, – твердо ответила она. – Чего нет, того нет. Да и пистолеты зачем ему? Он и без них мог человека загубить!
– А кому продавал спирт? – спросил Криворучко. – Вы этих людей знаете?
– Всякие приходили. Вот и Ганка, та, что приводила Марию. Ей тоже спирт давал, а деньги себе забирал. Ганя одна душевной была, добрая, ласковая, только от нее одной и слышала слово хорошее. Когда вы бедняжку посадили в тюрьму, он сразу отрекся, как Иуда от Христа. Хлеб милосердный отнести запретил…
– Глупая ты, Федора, и милосердие твое глупое, – пробурчал Савченко, уже знавший, что Федора, несмотря на запрет, тайком ездила к Кульбачке. Но в его сердитом, презрительном бурчании Коваль с удивлением обнаружил и сочувственные нотки.
– А кроме Кульбачки кто еще спирт у вашего хозяина брал? – продолжал Криворучко.
– Имен их не знаю. – Федора упорно стояла, уцепившись в стул. – Грицько кривой, из портового магазина, приходил. И другие тоже.
– Вишь, какая ты, Федора! Тихая да темная… – обиженно заговорил Савченко. – Пригрел гадюку… Ладно! – стукнул он кулаком по столу. – Пустые все это разговоры. Заберите отсюда эту дуру, сам все расскажу.
Когда Федора выходила, Савченко бросил ей вслед:
– Пропадет, бестолочь, без меня. – И, обратившись к Ковалю, добавил: – Вы ее хоть в дом престарелых пристройте…
IV
Они говорили долго. Уже темнело, зажглись вечерние звезды, и в комнату вливался слабый, какой-то фиолетовый свет.
Электричества Коваль не включал. Трудно сказать, что именно подействовало на Кульбачку: растерялась от неопровержимых улик ее мошенничества, тщательно собранных капитаном Бреусом, или испугалась обвинений в убийстве, а может, просто смерть Петра Лагуты, разрушив все планы и надежды, окончательно выбила ее из колеи, но, так или иначе, она вдруг стала откровенной.
– Что моя жизнь, гражданин подполковник, – грустно произнесла Ганна. – Не было счастья смолоду, нет его и теперь. Но я не ропщу. Такая, знать, судьба моя… Сижу в вашей камере, времени хватает припомнить и переворошить всю мою горькую жизнь. И как замуж пошла за нелюба, и как жизнь с ним промаялась, и как Петра встретила и полюбила… Работа у меня была выгодная, деньги не переводились. Все складывала на будущую нашу с Петром жизнь. Не знаю, какая в нем сила таилась, откуда она бралась, может, и впрямь господь одарил, была у него своя вера, не такая, как в церкви и книжках. Только не могла я его не слушаться и волю его исполняла, как самого бога. Откуда мне знать, есть там где-то за тучами господь или нет, но когда с Петром молилась, камень с души скатывался, все грехи мне прощались, и светлой я становилась, словно голубка белая. А грехов у меня, чего таить, хватало: и спаивала, и обвешивала, и обсчитывала…
Коваль слушал, не перебивая, ничего не записывая. Он думал о том, как жажда наживы до сих пор отравляет людей. Сколько горя доставила та же Кульбачка своим односельчанам, причиной скольких семейных трагедий она была, соблазняя мужиков «бесплатной» с виду выпивкой… Сколько не поддающейся учету беды принесла людям эта вроде бы ласковая, терпеливая, приятная на вид, но такая страшная и циничная женщина… Вот говорит она, что не в жадности дело, что деньги копила во имя любви к Лагуте… Но какая же это любовь, если влечет за собой страдания других? Ее проклинали даже те, кто в похмелье низко кланялся, она рисковала постоянно – каждый день ее могли отдать под суд. И все равно шла за Лагутой как завороженная, ради денег готова была потерять свободу и все, что имела…
– И сейчас бы еще торговала, – продолжала Кульбачка, – если бы не комбайнерка эта, Верка Галушко. Ну прямо войной пошла. До сих пор не пойму, что ей надо было. Муж непьющий, за сынов-подростков тоже бояться нечего… Была бы депутатка еще, а то ведь простая баба. А такую кутерьму подняла, всех настроила против меня… Дальше сами знаете… Кукую вот теперь…
Воспользовавшись паузой, Коваль спросил:
– Откуда пошел слух о любовных связях Марии и Лагуты?
– О Петре чего говорить… Мужик он мужик и есть. Хотя и божьего духа. Я к нему только по вечерам бегала, да и то не часто, тайком. Еще года нет, как своего Сергея похоронила. А Мария всегда у него под рукой была, рядом. Молодая, лицом пригожая. Хоть и хроменькая, а мужикам приятная… И все-то у Петра на виду была, молиться бегала к нему, веру его приняла. Хотя свое, наверное, в уме держала. Видела, что не нищий – и дом, и в доме полно всего, и деньги есть. А денежки-то мои! Все в его дом я принесла. Не для нее, а для нас с Петром! Вот и довела Марусечка своего муженька до горькой. Он после войны, раненый, в Вербивке осел, немолодой, а она баба в соку… Дитя иметь хотела, а его все нет и нет. Мать, Степанида, уверила, что молитвами только и можно дело поправить. А молитвы, они вон чем кончились… – вздохнула Ганна. – Когда приметила я, что Мария к соседу зачастила, а Чепиков на мои «дубки» повадился, то сказала Петру: «Нечего ей к тебе шастать, Ивана на ревность наводить». А он в ответ: «Мария в молитвах радеет». – «Смотри, – говорю, – домолится до греха». А он свое: «Неисповедимы пути господни…» Думаю, Петро даже обрадовался, когда Чепиков запил. Испугалась я, что на любовь мою туча надвигается, что все труды и добро накопленное прахом пойдут. Ум помутился. Если так, говорю, и сама жить не буду и им не дам…
– Нашли пистолет, – предположил Коваль, – и пришли вечером к любовнику…
– Нет, нет! – спохватилась Кульбачка. – Что вы!.. Это так, ради красного словца… Не способна я на страшное дело!..
– Значит, Лагута обрадовался, когда узнал, что Чепиков запил? – Коваль решил сделать вид, что меняет направление беседы. – Он очень не любил своего соседа?
– Избегал его, хотя и пробовал приохотить на свою сторону. Когда Мария впала в молитвы, он стал говорить ей, чтобы она и мужа своего причастила к богу. Но Чепиков не поддался, и Петро очень сердился, из себя выходил, когда при нем по-хорошему скажешь о соседе. Ненавидел его и даже боялся. Думаю, желал, чтобы Иван спился насмерть и не мешал якшаться с его женой… А как все кончилось, сами видите… Может, это господь покарал Петра рукой Чепикова. Заслужил он, прости меня, боже… Мы с ним должны были сойтись и уехать отсюда, да он все откладывал. Ясное дело, что Мария тому причиной была…
Кульбачка умолкла. Коваль потянулся к новой пачке «Беломора».
– Почему Лагута боялся Чепикова? Может быть, тот угрожал разоблачить его как изменника?
Кульбачка не знала, что ответить.
– Петро не воевал. А был он дезертиром или нет, не моего ума дело. Хотя все возможно… – Ганка, видимо, решила, что теперь любовнику ничем ни помочь, ни навредить нельзя, а искренними ответами, глядишь, и в доверие подполковника войдет.
– А что знаете о его связях с оккупантами?
– Откуда мне знать… Я поселилась в Вербивке после войны.
– А его дальнейшие связи, последних лет?
– Он себе Иисуса придумал, не такого, как в церкви, а своего, и сам в него поверил. Говорил, что в него сошел господь… И Марию этим заворожил…
– Я спрашиваю о других связях, о тайных встречах с какими-нибудь приезжими людьми.
Ганна Кульбачка уже пожалела о своем решении быть откровенной.
– С какими это приезжими? – удивилась она, и Коваль подумал, что Лагута, наверное, и от любовницы многое скрывал.
– Он хотел уехать отсюда?
– Да.
– Почему?
– Я настаивала.
– Только поэтому?
Кульбачка лишь руками развела: мол, откуда ей знать.
– Значит, капитан Бреус был прав, когда сказал, что вы в доме Лагуты искали свои деньги?
– Какие они мои! – горько вздохнула Кульбачка. – Теперь все ваше…
– Скажите, у кого в Вербивке кроме Чепикова было оружие?
Ганка растерялась от такого неожиданного поворота допроса.
– Мальчишки в лесу оружием игрались. У нас тут после войны добра этого хватало. Но у взрослых не видела.
– А сами не находили?
Коваль поднялся, щелкнул выключателем. Ровный яркий свет залил комнату, и Кульбачка прикрыла ладонью глаза.
– Не находили, значит, оружия? – повторил свой вопрос подполковник, возвращаясь к столу. Он пододвинул к себе стопку бумаги и взял авторучку. – Или оно было у вас?
Кульбачка пристально посмотрела на него. При ярком освещении глаза ее показались ему темными и глубокими.
– Зачем мне оружие? – тихо, словно с укоризной сказала Ганка. – Я никогда ничего такого в руках не держала. Неужто и вправду подозреваете?..
– Когда вы в последний раз видели Лагуту?
– В последний раз?.. Дней так за несколько до смерти.
– А точнее?
– Во вторник или в среду на той неделе. Я же говорю, за несколько дней… – повторила Ганна.
– Не сходятся дни. Вы были у Лагуты в тот же вечер и в то же время, когда произошло убийство. Это установлено, – спокойно произнес Коваль. – Что тогда произошло между вами?
Кульбачка, казалось, окаменела на стуле.
– Я жду, – напомнил подполковник.
Несколько секунд в комнате еще царила такая тишина, что слышно было, как в соседнем кабинете майор Литвин отчитывает кого-то из подчиненных, а во дворе моют машины.
– Да, я была там, – наконец выдавила Кульбачка.
…Она долго рассказывала о последнем вечере с Лагутой. Он был ласков, уверял в любви, но слова его были неискренними, и она чувствовала себя на краю пропасти. Поняла, что стала ему в тягость. После того тяжелого разговора крадучись, как обычно, пошла домой. Выстрелы услышала, когда уже подбегала к своей хате. Вначале не поняла, где стреляют, но каким-то внутренним чутьем угадала, что беда обрушилась на Петра, случилось что-то ужасное.
Охватил страх, тянуло вернуться назад, но побоялась, тем более что увидела возле своих ворот Миколу Гоглюватого.
Допрос закончился, когда у Коваля сложилось полное представление о роли Кульбачки в вербивской трагедии.
Спросил еще, не заметила ли она тогда кого-нибудь во дворе Лагуты или по дороге, и, получив отрицательный ответ, вызвал конвоира.
Когда милиционер выводил Кульбачку из кабинета, Коваль уже знал, что в деле об убийстве Чепиковой и Лагуты она ему больше не понадобится.
V
Розыски участников хищений на спиртоводочном заводе, установление и опрос свидетелей, изучение документов и, наконец, дознание велись активно. Уже дали показания продавцы, которые получали от Савченко ворованный спирт, среди них и Ганна Кульбачка, переведенная в следственный изолятор в Черкассы. Подготовив документы для прокуратуры, проведя необходимые очные ставки Михаила Савченко с соучастниками преступлений и свидетелями, подполковник Криворучко решил еще раз допросить бывшего экспедитора. Сознаваясь в мелких хищениях, он категорически отрицал, что является организатором воровской шайки.
Но допрос начался не совсем так, как предполагал начальник отдела борьбы с хищением социалистической собственности, потому что его повел Коваль.
– Вот что, гражданин Савченко, – сказал Дмитрий Иванович, едва конвоир ввел подозреваемого в кабинет. – Ваша роль в группе расхитителей установлена, и сейчас это подтвердится окончательно. – Он посмотрел на Криворучко, который, готовясь к допросу, раскрыл толстую папку с документами. – А пока я вас спрошу о другом. Что вас так тесно связывало с Лагутой?
Коваль впервые увидел в глазах Савченко страх.
– Лагуту, или черт его знает, как он там по-настоящему, я боялся, – честно признался Савченко. – Связался с дьяволом на свою голову!.. Хотя это он меня по рукам и ногам связал. Думаете, тихий да божий был? Маскарад! Дьявол в людском обличье! Чужими руками жар загребал. Мне его молитвы ни к чему были – какой из меня святой?! Принудил белую робу натягивать и божьим ослом прикидываться. Попервах на деньги позарился. Дурак был! Мне и своих бы хватало… А потом запугал…
– Лагута знал о ваших махинациях со спиртом? – спросил Криворучко. На обрюзгшем лице Савченко Коваль увидел нечто похожее на улыбку.
– Вот тут я его обскакал. Хоть в этом верх взял, гражданин начальник. У него были свои дела, у меня – свои. – И спохватился. – Только какие там у меня особенные махинации? Мелочишка. Возьмешь иногда поллитра на заводе… И все дело…
– Вы уверены? – прищурившись, спросил Коваль.
– Точно. Думаете, монеты мои во всё вкладывались? Черта бы с два я держал на свои эту гусыню Федору! На деньги Лагуты и дом купил, и клоунские игрища по его указу устраивал, и книжечки всякие припрятывал. Когда запутал, угрожать стал, да так, что я даже боялся, как бы его психи молельщики не поколотили меня. Сам он им не очень показывался, все через меня командовал. Был для них вроде бога на земле. – У Савченко к горлу подкатил ком. – Зачем ему это нужно было, я сперва не думал, а когда смекать начал, волосы дыбом встали. Вот так и жил… Хуже, чем в колонии. Куда хуже!
– О чем же вы «смекать» начали?
Савченко замялся. На его лицо с маленькими хитрыми глазами набежала тень.
– А бог его знает… Всякое такое… Иногда покажется одно, потом – другое… Дел у Петра бывало много. То в Киев, то еще куда… У меня всегда бывал проездом, наскоро. Ночью приедет и ночью же уедет…
– Встречался Лагута с кем-нибудь у вас в доме? Со знакомыми или незнакомыми вам людьми?
– Несколько раз приезжал к нему один. Но меня всегда Петро удалял на это время. Считайте, что я того человека и не видел.
– Ну, ладно, – согласился Коваль. – По этому вопросу с вами займутся другие товарищи. Скажите: вы бывали в доме убитого, в Вербивке?
– И близко не показывался, будь он проклят вместе со своим домом!
– Выходит, смерть Лагуты пошла вам на пользу?
– Туда ему и дорога…
– Я вас правильно понял, что в Вербивке вы никогда не были?
– Вы мне чужое клеите! – упавшим голосом проговорил Савченко, и Коваль почувствовал, что растерянность его искренняя. – Мне тут и своего хватит! Вот так! – Он провел ребром ладони по шее.
– Это верно, – согласился Коваль. – Своего хватит.
Коваль взглянул на подполковника Криворучко, который нетерпеливо ждал, когда он закончит допрашивать Савченко.
– У меня больше нет вопросов, Иван Кондратьевич. Я сейчас к генералу. До отъезда еще увидимся…
Он кивнул Криворучко и вышел в коридор, направляясь по лестнице наверх…
VI
Высоченный, с загорелым лицом крестьянина, участковый инспектор Биляк следом за худенькой женщиной переступил порог кабинета Бреуса.
– Возле Лагутиной могилы застал… – объяснил он, кивнув в сторону женщины, и оттого, что сутулился, казалось, что он с особым пристрастием разглядывает ее. – Конечно, тут ничего такого нет, каждый имеет право… Но шел в Вербивку – стоит, иду через час назад – все на том же месте… Спросил, кто такая; говорит: дочка его… А фамилия другая… – Докладывая, инспектор смотрел то на Бреуса, то на подполковника, пытаясь по реакции начальства определить, правильно он поступил, приведя женщину, или нет.
Женщина с мрачным видом стояла посреди кабинета. Крепко сжатые сухие губы свидетельствовали о необщительности. Удлиненное лицо и продолговатые лисьи глаза действительно чем-то напоминали Лагуту, хотя Ковалю и не пришлось видеть его живым, только в морге и на небольшой паспортной фотографии.
Коваль жестом попросил женщину сесть.
– До сих пор о детях Лагуты мы ничего не знали, – словно оправдываясь, сказал капитан Бреус.
– Об этом никто не знал, – глухо проговорила женщина. – Мать, умирая, призналась мне и все о нем рассказала.
– Как ваша фамилия? Имя? – спросил Коваль.
– Пойда. Катерина.
– Фамилия девичья?
– Материна. Есть церковная запись. По ней и паспорт получала.
– Чем вы можете подтвердить, что Петро Лагута ваш отец?
– А ничем. – Она вздохнула. – На улице до сих пор байстрючкой называют. Меня это не трогает.
– На наследство претендуете? – спросил Бреус.
– Своя хата есть.
– Где и когда вы родились? – спросил Коваль.
– Под Богуславом, в Хохитве. В сорок первом…
– Там и записаны?
– Только попа того уже нет.
– А теперь где живете?
– В Корсунь-Шевченковском.
– Мать давно умерла?
– Шесть лет тому назад.
– Вы с Петром Лагутой часто виделись?
– Нет.
– В последний раз когда?
– Прошел уже год.
– В Вербивке?
– Сюда я никогда не приходила.
– Он приезжал к вам?
– Когда бывал в Корсуне, я пряталась… Но случалось, что находил.
– Так, так, – несколько иронически протянул Коваль, – не жил вместе с вами, не помогал, отказался, обидел мать… И вы за это его невзлюбили…
– Он не отказался, – резко ответила она. – Мать сама уехала от него в Корсунь. А меня он все же любил… Если вообще кого-то мог любить…
Катерина Пойда говорила просто и спокойно, удивительно ровным, усталым голосом.
– Почему же вы избегали его? – осторожно спросил Коваль.
Женщина тяжело вздохнула.
– Кровь на его руках. – Она сделала паузу. Возможно, ей было нелегко продолжать. Но вдруг быстро сказала: – Он вместе с немцами убивал детей, которые закопаны в яру возле Днепра… – И словно сбросила с себя камень, который долгие годы несла на плечах.
В кабинете стало так тихо, что, казалось, зазвенел, задребезжал душный воздух. Участковый Биляк крякнул и стал вытирать большим носовым платком пот с лица.
– Это там, где стоит памятник жертвам фашизма, по дороге на Днепр? – спросил Бреус.
– Там только расстрелянным, а детей не стреляли… Их отравили.
– Каких детей? – негромко осведомился Коваль.
– Из больницы…
– Чего же вы до сих пор молчали?! – взорвался возмущенный Бреус. – И цветы, значит, ему на могилу!..
– Цветов я не приносила, – развела руками женщина. – И не в этом дело… Правосудие свершилось, и счеты сведены. У меня осталась только отцовская могила…
У капитана Бреуса вдруг мелькнула неожиданная догадка о следах женских туфель на лесной дороге неподалеку от усадьбы Лагуты. Уж не она ли, эта не по годам увядшая женщина, явилась орудием правосудия?!
– Он и меня тогда отравил, не только чужих детей. И отрава эта навсегда останется во мне, – тихо добавила Катерина Пойда.
Догадка все сильнее захватывала Бреуса. Капитан пристально присматривался к разношенным туфлям женщины.
– Какой у вас размер обуви?
«Вот сейчас, – думал он, – я, кажется, сделаю открытие, которое хотя и перечеркнет всю предыдущую работу, но выведет наконец розыск на верную дорогу».
– Тридцать седьмой?! – уверенно подсказал Бреус.
– Нет, – возразила женщина. – Тридцать шестой… Даже тридцать шесть с половиной.
Бреусу стало жарко. Глянув на Коваля, он расстегнул под галстуком верхнюю пуговицу рубашки.
– А где вы были восьмого вечером?
– Дома.
– Кто может подтвердить?
– Наверное, соседи.
«Значит, тридцать шесть с половиной. Почти тридцать семь», – крутилась в голове капитана навязчивая мысль.
– Расскажите о вашем отце. Все, что знаете, – попросил Коваль.
– Знаю очень мало… Пока жила мать, он встречался с ней, совал ей деньги. Она терпела; думаю, боялась его. У меня он тоже вызывал страх. Хотя и называл дочкой, но я считала его чужим дядей. И только при смерти мать сказала, что он мой отец. Когда я выложила ему, что знаю о его прошлом преступлении, он плакал и клялся, что его заставили и что теперь он замаливает грехи, помогает сиротам и инвалидам. Поверил в бога и взывает людей к вере, потому что это единственный способ заслужить прощение греха…
– У бога, – пробурчал Бреус, – а у людей?
– Обещал пойти с повинной и покаяться перед властью, если я потребую. Убеждал, что живет на свете только ради меня, ибо я – его кровинка и след на земле. Твердил, что служил немцам из-за страха, чтобы я не осталась сиротой… Я не могла простить. Сказала, что у меня жизнь все равно погублена, что я проклинаю и его, и свою кровь и не хочу никогда его видеть… Но выдать властям и послать отца на смерть своими руками тоже не могла. А теперь?.. Ну что теперь… Судите, воля ваша… – Последние слова она произнесла, обращаясь к одному Бреусу.
Коваль позвонил майору Литвину и попросил зайти. Катерина Пойда кратко повторила свою горькую исповедь, и начальник милиции условился по телефону с прокурором и председателем исполкома Отрощенко об эксгумации детских трупов в яру.
Майор вместе с лейтенантом Биляком повезли Катерину Пойду в прокуратуру, а Коваль и Бреус еще какое-то время молча сидели в кабинете, находясь под впечатлением истории этой женщины, которая, рассказывая, ни разу не заплакала, словно была каменная. Потом капитан вдруг заторопился и, не спрашивая разрешения, стремглав выскочил из кабинета. Вернулся через несколько минут с большими фотографиями в руках.
VII
На фотографиях были хорошо видны контрастированные специальным порошком отпечатки женских туфель.
Бреус доложил, что девятого утром снял эти следы невдалеке от дома Лагуты, на обочине лесной дороги, но посчитал, что они принадлежат случайной прохожей. Теперь, когда дознание зашло в тупик и его предположение о Ганке Кульбачке как убийце отпало и версия про Чепикова не находит полного подтверждения, а тут еще эта Пойда появилась, вот он и решил представить на рассмотрение эти фотографии.
– Да, товарищ капитан, – строго заметил Коваль, выслушав признание начальника уголовного розыска. – Проступок серьезный: вас ли учить, что нельзя пренебрегать даже малейшей деталью. Ведь со временем любая может стать доказательством…
– Но женщина находилась все же далековато от усадьбы и двигалась по лесной дороге. Я проследил ее путь… Он уходил в сторону от дома Лагуты и на самом дворе не встречался, – сказал Бреус в свое оправдание.




![Книга Приведен в исполнение... [Повести] автора Гелий Рябов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-priveden-v-ispolnenie.-povesti-219978.jpg)