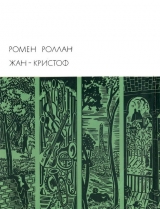
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц)
Гаслер хохотал. Он сам вытер нос пристыженному и счастливому мальчику. Потом спустил его с колен, взял за руку, подвел к столу, насовал ему полные карманы конфет и печенья и расстался с ним, сказав напоследок:
– Ну, до свиданья! Помни же, что ты мне обещал.
Кристоф был на седьмом небе. Весь остальной мир перестал существовать для него. Если бы его спросили, кто еще там был, что еще происходило в зале, он не смог бы ответить: весь вечер он влюбленными глазами следил за выражением лица и жестами Гаслера. Одна фраза, брошенная композитором, поразила Кристофа. Гаслер стоял, держа стакан в руке; он произносил тост, и вдруг его лицо исказилось; он сказал:
– Как ни весело нам сегодня, одного мы не должны забывать: своих врагов. Врагов никогда нельзя забывать! Если мы еще не раздавлены, то не по их вине; они не пожалели на это труда. И мы не пожалеем труда, чтобы раздавить их! Вот почему в своем тосте я хочу вам напомнить, что есть люди… за здоровье которых мы пить не будем!..
Все встретили смехом и рукоплесканиями этот необычный тост. Гаслер смеялся вместе со всеми, и лицо его опять приняло добродушное выражение. Но Кристофу стало неловко. Он не посмел бы и на секунду усомниться в правоте своего кумира, а все-таки ему было неприятно, что Гаслер в этот вечер думает о чем-то злом и безобразном, – в этот вечер, когда ничему не должно быть места, кроме света и ликования. Но это чувство лишь смутной тенью прошло в душе Кристофа и почти тотчас было вытеснено перекипавшей через край радостью и той капелькой шампанского, которую дедушка дал ему выпить из своего бокала.
Когда они возвращались домой, дедушка всю дорогу не переставал ораторствовать – похвалы Гаслера привели его в восторженное состояние; он кричал на всю улицу, что Гаслер гений, такие, как он, рождаются раз в столетие! А Кристоф молчал, скрывая глубоко в сердце любовное упоение: Гаслерпоцеловал его! Гаслердержал его на коленях! Как ондобр! Как онвелик!
«Ах! – думал Кристоф, лежа потом в своей кроватке и страстно обнимая подушку. – Я хотел бы умереть за него! Умереть за него!..»
Пронесшийся над их городком блестящий метеор оказал решительное влияние на ум Кристофа. С этих пор, в течение всего детства, Гаслер стоял перед его внутренним взором как живой образец, и по его примеру маленький шестилетний человечек решил, что тоже будет сочинять музыку. По правде сказать, он давно уже это делал, сам того не подозревая; ему, чтобы творить, не нужно было знать, что он занимается творчеством.
Всё музыка для музыкальной души. Все, что колеблется, и движется, и трепещет, и дышит, – солнечные летние дни и свист ночного ветра, струящийся свет и мерцание звезд, гроза, щебет птиц, жужжание насекомых, шелест листвы, любимые или ненавистные голоса, все привычные домашние звуки, скрип дверей, звон крови в ушах среди ночной тишины, – всё сущее есть музыка; нужно только ее услышать. И вся эта музыка живого бытия звучала в Кристофе. Всё, что он видел, всё, что он чувствовал, незаметно для него самого преображалось в мелодии. Он был как улей, полный звенящих пчел. Но никто этого не замечал и меньше всех сам Кристоф.
Как все дети, он постоянно напевал. В любой час дня, что бы он ни делал – гулял ли по улице, припрыгивая на одной ножке, разглядывал ли картинки, растянувшись на полу в спальне у дедушки и подпирая кулаками склоненную над книгой голову, сидел ли под вечер в своем креслице в самом темном углу кухни, мечтая бог весть о чем в сгущающихся сумерках, – всегда он тихонько гудел себе под нос, надувая щеки и плотно сжав рот или наигрывая на губах. Кристофу никогда не надоедало это занятие. И Луиза привыкла к его монотонному жужжанию. Только иногда ее вдруг охватывало раздражение, и в сердцах она кричала на Кристофа.
Потом он внезапно выходил из своей полудремоты; ему хотелось шуметь и двигаться. Тогда он сочинял арии и распевал их во все горло. У него были особые мелодии для всех случаев жизни. Одну он пел по утрам, когда плескался в тазу, как утенок. Другую – когда садился на табурет перед ненавистным роялем, а третью – когда сходил с табурета, и эта была особенно бравурная. Еще одну он пел, когда мама подавала суп на стол; он тогда бежал впереди, испуская трубные звуки. Он играл на губах триумфальные марши, торжественно направляясь вечером из столовой в спальню. Иногда он с братишками устраивал целые шествия; все трое с важностью выступали друг за другом, и каждый исполнял свой собственный марш, но себе Кристоф по праву выбирал самый красивый. Каждый напев предназначался для своей особой цели, и Кристоф никогда их не путал. Другим они могли казаться одинаковыми, но Кристоф различал в них оттенки, в которых нельзя было ошибиться.
Однажды у дедушки он кружился по комнате; закинув голову и выпятив живот, притопывая каблуками, он делал круг за кругом – до одури и тошноты – и распевал воинственную песнь. Дедушка в это время брился; внезапно он поднял намыленный подбородок и, поглядев на Кристофа, спросил:
– Что это ты поешь?
Кристоф ответил, что не знает.
– Ну-ка, спой сначала! – сказал Жан-Мишель.
Кристоф попробовал, но не мог вспомнить. Тогда, польщенный вниманием дедушки, он затянул на свой лад какую-то оперную арию, стараясь петь как можно громче, – очевидно, дедушке понравился его прекрасный голос! Но старику не того было нужно. Он замолчал и больше уже как будто не обращал внимания на Кристофа. Но с этих пор он стал оставлять дверь открытой, когда мальчик играл один в соседней комнате.
Несколько дней спустя Кристоф, расставив полукругом стулья, разыгрывал на этой импровизированной сцене музыкальную комедию, которую сам состряпал из обрывков своих театральных воспоминаний; он с важным видом выделывал па в темпе менуэта, подражая актерам в какой-то из виденных им пьес, и отвешивал поклоны перед портретом Бетховена, висевшим над столом. Сделав по всем правилам пируэт, он вдруг увидел просунувшуюся в приотворенную дверь голову дедушки: старик внимательно смотрел на него. Кристофу подумалось, что дедушка над ним смеется, и ему стало стыдно; он замер на месте, потом побежал к окну и прижался к стеклу лицом, как будто разглядывал на дворе что-то очень интересное. Но дедушка и не думал смеяться; он подошел к Кристофу, обнял его и поцеловал, и видно было, что старик доволен. Детское тщеславие Кристофа не замедлило вышить узоры по этой канве: смышленый мальчик отлично понял, что ласка дедушки была данью его талантам, он только не мог решить, в каком именно качестве заслужил он дедушкино одобрение – как драматический автор, как музыкант, как певец или как танцовщик. Скорее всего последнее, ибо сам Кристоф выше всего ценил свои достижения в этой области.
Через неделю, когда Кристоф уже обо всем этом забыл, дедушка вдруг подозвал его и объявил с таинственным видом, что хочет что-то ему показать. Он достал из письменного стола нотную тетрадь и, раскрыв ее на рояле, предложил Кристофу сыграть. Тот, подзадориваемый любопытством, принялся, как умел, разбирать пьесу. Ноты были писаны от руки, крупным дедушкиным почерком, очень аккуратно и четко, – старик, видимо, постарался. Заголовки были украшены завитушками и росчерками. Дедушка сидел рядом с Кристофом и переворачивал страницы; вдруг он спросил:
– А ты знаешь, что это такое?
Кристоф, поглощенный процессом игры, не замечал, что играет, и равнодушно ответил:
– Не знаю.
– Подумай. Вот этот мотив, разве он тебе не знаком?
Да, как будто что-то знакомое. Но где слыхал, неизвестно. Дедушка засмеялся.
– Вспомни!
Кристоф помотал головой:
– Да нет же, не знаю.
Собственно говоря, что-то мелькало у него в уме; как будто бы эти мотивы… Но нет! Он не смел, он не решался их узнать.
– Право же, не знаю…
А краска уже заливала ему щеки.
– Ах ты, дурачок, разве ты не видишь, что это твое?
Он уже давно догадался, и все-таки, когда это сказали вслух, сердце у него словно подпрыгнуло.
– Дедушка! Дедушка!
Старик, сияя, стал перелистывать тетрадь.
– Вот смотри: «Ария». Это ты пел во вторник, когда лежал на полу. «Марш». Это то, что я на прошлой неделе просил тебя повторить, а ты не мог вспомнить. «Менуэт». Это ты пел, когда танцевал перед креслом. Смотри сюда.
На переплете было тщательно выписано великолепным готическим шрифтом:
Жан-Кристоф Крафт. – «Утехи детства».
Ария, менуэт, вальс и марш. (Op. 1).
Кристоф не верил своим глазам. Его имя на обложке, пышное заглавие, толстая тетрадь – его собственные сочинения!.. Он только растерянно повторял:
– Дедушка! Дедушка!
Старик привлек его к себе. Кристоф бросился ему на шею, спрятал лицо у него на груди. Он весь разрумянился от радости. Дедушка, чуть ли не более счастливый, чем сам Кристоф, продолжал нарочито равнодушным голосом, так как боялся совсем разволноваться:
– Ну конечно, я приписал аккомпанемент и гармонизировал мелодию в соответственной тональности… И потом… (он покашлял) я еще вот тут вставил триов менуэт, потому что… ну, потому что так принято… и кроме того, мне кажется, что оно не такое уж плохое…
Он сыграл это трио.Кристоф был очень горд тем, что они с дедушкой вместе пишут музыку.
– Дедушка, но тогда нужно поставить и твое имя!
– Нет. Не надо. Пусть никто об этом не знает, кроме тебя. Но позже… (тут голос его задрожал) позже, когда меня уже не будет, это останется тебе как память о твоем старом дедушке… Ты ведь будешь вспоминать о нем? Да? Ты не забудешь?
Старик не хотел признаться, что не устоял перед невинным соблазном подкинуть одно из своих неудачных детищ внуку, чьи творения, он чувствовал, переживут его. Это желание приобщиться к чужой славе было таким смиренным и таким умилительным, ибо он соглашался остаться безвестным, лишь бы передать потомству частицу своих мыслей, лишь бы не умереть совсем… Кристоф растрогался до слез: он без счета целовал дедушку. И старик, с каждой минутой все больше умиляясь, тоже целовал мальчика в голову.
– Ты меня не забудешь, нет? Когда-нибудь, когда ты станешь настоящим музыкантом, великим художником и прославишь свою семью, и свое искусство, и свою родину, когда ты будешь знаменит, ты вспомнишь, что твой старик дед первый это угадал, что он первый предсказал твое будущее…
Он говорил, и от жалости к самому себе на глазах у него выступили слезы. Но он не хотел, чтобы мальчик заметил его слабость. Поэтому он раскашлялся, нахмурился, отослал Кристофа играть и заботливо убрал в стол драгоценную рукопись.
Кристоф возвращался домой, не чуя под собой ног от радости. Придорожные камни плясали вокруг него. Но прием, оказанный ему родителями, несколько его отрезвил. Когда он, захлебываясь, стал рассказывать о своих музыкальных подвигах, отец и мать накричали на него. Луиза попросту его высмеяла; Мельхиор сказал, что старик, видно, уж совсем спятил, полечился бы лучше, чем забивать мальчишке голову всякой чепухой; а Кристоф пусть раз и навсегда забудет об этих глупостях – сейчас же пусть садится за рояль и четыре часа играет упражнения. Сперва надо научиться играть как следует, а композицией можно заняться как-нибудь потом, когда другого дела не будет.
Не следует, однако, думать, – как можно было бы заключить из этих разумных слов, – что Мельхиор опасался для сына гибельных последствий преждевременного самомнения. Он скоро показал, что такие опасения ему чужды. Но так как у него не было ни своих мыслей, ни вообще стремления что-либо выразить в музыке, то он, самовлюбленный, как большинство виртуозов, привык считать композицию делом второстепенным, которому только искусство исполнителя придает цену. Восторженные встречи, оказываемые публикой великим композиторам, как, например, Гаслеру, не оставляли, конечно, Мельхиора равнодушным. Это был успех, а Мельхиор преклонялся перед всяким успехом, и к этим овациям он относился с почтением и долей зависти, ибо считал, что по праву они должны бы достаться ему. Но он знал из собственного опыта, что успехи виртуоза могут быть не менее блестящи, не говоря уже о том, что они гораздо больше способствуют его личной славе и дают больше приятных и ощутимых результатов. В разговорах Мельхиор всегда старался подчеркнуть свое глубокое уважение к прославленным творцам музыки, но вместе с тем с особым удовольствием рассказывал про них всякие вздорные анекдоты, дававшие весьма нелестное представление об их уме и нравственности. Виртуоза он помещал на верху артистической лестницы, ибо, говорил он, известно, что язык – самый благородный орган нашего тела: чем была бы мысль без слов? Чем была бы музыка без исполнителя?
Но какими бы побуждениями ни руководствовался Мельхиор, взбучка, заданная им Кристофу, была для мальчика полезна, так как хоть немного его отрезвила, иначе он рисковал совсем утратить здравый смысл под влиянием дедушкиных похвал. К сожалению, она еще мало подействовала: Кристоф не преминул рассудить, что просто дедушка умнее отца; и если после отцовской нотации мальчик безропотно уселся за рояль, то отнюдь не из послушания, а только потому, что ему хотелось помечтать всласть, как он часто делал, пока его пальцы машинально бегали по клавишам. Он разыгрывал бесконечные упражнения, а сам все время слышал внутренний голос, горделиво повторявший: «Я композитор, я великий композитор!»
Раз композитор, значит, надо сочинять. И с этого дня Кристоф усердно принялся марать бумагу. Он не умел еще толком писать буквы, но целыми часами старательно вырисовывал четверти и восьмые на листках, вырванных из тетрадки, в которой Луиза записывала хозяйственные расходы. Однако попытки понять свою мысль и потом ее записать стоили ему такого труда, что под конец в голове у него не оставалось вовсе никаких мыслей, кроме мысли о том, что он хочет иметь какую-нибудь мысль. Все же он упрямо продолжал лепить музыкальные фразы, и так как он был прирожденным музыкантом, это ему кое-как удавалось, хотя фразы эти ровно ничего не значили. Затем он с торжеством нес их дедушке, и тот плакал от умиления – слезы легко приходили к дряхлеющему старику – и объявлял, что это гениально.
Так можно было бы вконец испортить мальчика. К счастью, его спас природный здравый смысл и влияние одного человека, который, однако, ни на кого не стремился оказывать влияние и сам никак не мог служить образцом здравого смысла, по крайней мере с точки зрения окружающих. Это был брат Луизы.
Как и сестра, он был невелик ростом, тщедушный, хилый, сгорбленный. Неизвестно, сколько ему было лет, – во всяком случае, лишь ненамного перевалило за сорок, но по виду ему давали пятьдесят и даже больше. У него было маленькое румяное лицо, все в морщинках, и добрые голубые глаза, очень светлые, как поблекшие незабудки. Он постоянно ходил в шапке, из страха перед сквозняками, а когда решался ее снять, под ней обнаруживалась совершенно лысая, розовая и заостренная кверху голова; ее странный вид до крайности потешал Кристофа и его братьев. Поощряемые грубыми шутками Мельхиора, они вечно приставали к дяде, допрашивали, куда он девал свои волосы, грозились отшлепать его по лысине. Он сам первый смеялся и терпеливо сносил все их шалости. По ремеслу он был бродячий торговец: ходил по деревням с огромным тюком за плечами, а в тюке было всего понемногу – бакалея, галантерея и письменные принадлежности, платки, шали, башмаки, консервы, календари, песенники, конфеты и пилюли. Крафты не раз пытались устроить его где-нибудь оседло, покупали ему запас товаров, снимали для него помещение под мелочную лавочку или маленький галантерейный магазин. Но он не мог долго усидеть на месте; как-нибудь утром он вставал еще до света, прятал ключ под порогом и исчезал вместе со своим тюком. Месяц, два о нем не было слышно; вдруг как-нибудь вечером раздавался робкий стук, дверь приотворялась, в щелку просовывалась маленькая лысая голова – без шапки, как того требует вежливость, – показывалось знакомое лицо с добрыми глазами и застенчивой улыбкой. «Привет всей компании», – говорил он, старательно обтирал ноги, здоровался со всеми по очереди, начиная с самого старшего, и скромно усаживался в уголке. Потом закуривал трубку и, смиренно сгорбившись, пережидал, пока истощится запас грубых шуток, которыми его всегда встречали у Крафтов. И Мельхиор и Жан-Мишель относились к нему с насмешливым презрением. Этот недоносок казался им пародией на человека; к тому же странствующий торговец! Такое ничтожное положение! Их гордость была уязвлена, и они без стеснения давали ему это почувствовать. Но он как будто ничего не видел и всегда проявлял к ним величайшую почтительность; и это обезоруживало их, в особенности Жан-Мишеля, чувствительного к любым знакам уважения. Поэтому они ограничивались шутками, но уж шуточки были такие, что Луизу от них нередко бросало в краску. Привыкнув склоняться перед умственным превосходством Крафтов, она и в этом случае не подвергала сомнению правоту мужа и свекра, но она горячо любила брата, а тот питал к ней молчаливое обожание. Их только двое осталось от всей семьи – оба смиренные, незаметные, сломленные жизнью; из общего горя, которое они переносили без жалоб, и взаимного сострадания родилась грустная и нежная привязанность. Среди Крафтов, шумных и грубых здоровяков, отлично приспособленных к тому, чтобы наслаждаться всеми благами жизни, эти два кротких и слабых существа были как бы вне мира, вне жизни или где-то сбоку – не мудрено, что они без слов понимали и жалели друг друга.
Кристоф с бездумной жестокостью детства разделял презрение отца и деда к маленькому торговцу. Он заставлял его играть роль шута, донимал всякими дурачествами, которые тот переносил с невозмутимым спокойствием. А вместе с тем Кристоф любил его, сам того не сознавая, любил прежде всего как безответную игрушку, с которой можно делать все, что вздумается; любил также и за то, что дядя всегда припасал для Кристофа что-нибудь приятное – лакомство, картинку, забавную выдумку. Возвращение дяди было праздником для детей: они так и ожидали какого-нибудь сюрприза и никогда не обманывались. При всей своей бедности он ухитрялся каждому сделать подарок, и не было случая, чтобы он забыл чей-нибудь день рождения. Когда наступала торжественная дата, дядя Готфрид был уже тут как тут и вынимал из кармана какую-нибудь хорошенькую, с любовью выбранную вещицу. Все так к этому привыкли, что даже не считали нужным благодарить; да разве и не было для него достаточной наградой то удовольствие, которое он сам получал от своих подарков? Но Кристоф, который спал плохо и часто по ночам перебирал в уме события дня, додумывался иногда до мысли, что дядя очень добр, и его охватывал порыв благодарности к этому скромному человеку. Впрочем, эти чувства редко доживали до утра; днем Кристоф только о том и думал, как бы посмеяться над дядей. Да и вообще он был еще слишком мал и не умел ценить доброту; для ребенка добрый и глупый почти одно и то же, и дядя Готфрид казался живым подтверждением этой истины.
Раз вечером Готфрид, оставшись один, – Мельхиор обедал в гостях, а Луиза укладывала малышей, – спустился к реке и сел на берегу недалеко от дома. Кристоф от нечего делать поплелся за дядей и, по обыкновению, начал теребить его, как разыгравшийся щенок; наконец, запыхавшись, он повалился наземь у ног дяди и, растянувшись на животе, зарылся лицом в траву. Отдышавшись, он стал придумывать, что бы еще сказать почуднее, и, придумав, выкрикнул найденное слово, корчась от смеха. Никто ему не ответил. Удивленный этим молчанием, он поднял голову, намереваясь повторить свою остроту, и увидел лицо дяди, освещенное последними отблесками заката, угасавшего в золотом дыму. Слова замерли на устах у Кристофа. Готфрид улыбался; глаза его были почти сомкнуты, губы приоткрылись, болезненные черты хранили неизъяснимо печальное и торжественное выражение. Кристоф молча смотрел, приподнявшись на локте. Вечерело; лицо Готфрида мало-помалу растворялось в сумерках. Стояла ненарушимая тишина. Таинственные чувства, отражавшиеся на лице Готфрида, постепенно завладевали и Кристофом. Он погрузился в какое-то оцепенение. Тень одевала землю, но небо было ясное; зажигались звезды. На берег с чуть слышным плеском набегали мелкие волны. Рядом звенел сверчок. Кристоф вяло жевал травинки, невидимые в темноте; его все больше одолевала дрема, – казалось, еще минута, и он заснет… Вдруг в темноте Готфрид запел. Он пел слабым надтреснутым голосом, словно про себя; в десяти шагах его, пожалуй, никто бы не услышал. Но в его пении была волнующая искренность: казалось, он думает вслух, и сквозь звуки песни, как сквозь прозрачную воду, можно увидеть его душу до самого дна. Никогда еще Кристоф не слышал, чтобы так пели. И такой песни он никогда не слыхал. Медленная, детски простая по напеву, грустная, чуть-чуть монотонная, она шла задумчивой поступью, никуда не спеша, то умолкала надолго, то снова пускалась в путь, не думая о цели, теряясь в ночи… Казалось, она пришла из бесконечной дали и уходит неведомо куда. В ее безмятежности была тайная тревога; под внешним спокойствием дремала извечная боль… Кристоф не дышал, он не смел шелохнуться, он весь похолодел от волнения. Когда песня умолкла, он подполз к Готфриду.
– Дядя… – с трудом выговорил он; спазма сжимала ему горло.
Готфрид не ответил.
– Дядя! – повторил мальчик, опершись руками иподбородком на колени Готфрида.
Ласковый голос откликнулся ему:
– Что, деточка?
– Дядя! Что это такое, скажи? Что это ты пел?
– Я не знаю.
– Ну, скажи же!
– Но я не знаю. Так, песня.
– Это ты сочинил?
– Ну вот еще! Где же мне. Это старая песня.
– Кто ее сложил?
– Не знаю.
– Когда?
– Не знаю.
– Когда ты был маленький?
– Ну нет, гораздо раньше. Когда я еще не родился, и мой отец еще не родился, и отец моего отца, и отец моего деда… Она была всегда.
– Как странно! Мне никогда об этом не говорили…
Мальчик помолчал минуту.
– Дядя! А еще песни ты знаешь?
– Знаю.
Спой еще. Пожалуйста!
– Зачем петь еще? Довольно одной. Поешь, когда хочется петь, когда не можешь не петь. А петь для забавы не надо.
– А если занимаешься музыкой?
– Это не музыка.
Кристоф задумался. Он не совсем понял слова дяди, но не стал просить объяснений. Ведь правда, это не музыка, во всяком случае не такая, как обыкновенно. Потом заговорил снова:
– Дядя! А ты тоже их сочинял?
– Что сочинял?
– Песни!
– Песни? Ну как это возможно!.. Их не сочиняют.
Но Кристоф настаивал с обычным своим упорством:
– Дядя, да ведь кто-нибудь сочинил же эту песню?
Готфрид упрямо мотал головой.
– Никто ее не сочинял. Она была всегда.
Кристоф не унимался:
– Ну хорошо, а другие песни можно сочинить? Новые?
– А зачем? Песни есть для всего. Когда тебе грустно – для этого есть песня, и когда тебе весело – для этого есть другая. И когда устал и скучаешь по дому; и когда презираешь себя, потому что ты всего-навсего жалкий грешник, червь земной. И когда тебе хочется плакать оттого, что люди недобрые; и когда у тебя сердце радуется оттого, что светит солнце, и ты видишь над собой божье небо, и господь как будто улыбается тебе, потому что он всегда добр… Для всего есть песни. Зачем же еще их сочинять?
– Чтобы стать великим человеком! – воскликнул мальчик, вспоминая наставления дедушки и свои простодушные мечты.
Готфрид тихонько рассмеялся. Кристоф, несколько обиженный, спросил:
– Чему ты смеешься?
Ничего, это я так, – откликнулся Готфрид. – Да и что говорить обо мне!
Он погладил мальчика по голове и спросил:
– Так ты, стало быть, хочешь быть великим человеком?
– Да, – с гордостью ответил Кристоф. Он думал, что дядя его похвалит.
Но Готфрид сказал:
– А зачем?
Кристоф стал в тупик. Подумав, он объяснил:
– Чтобы слагать прекрасные песни!
Готфрид опять засмеялся.
– Ты хочешь слагать песни, чтобы стать великим, а великим хочешь быть для того, чтобы слагать песни. Ты – как собака, которая ловит свой хвост.
Кристоф очень обиделся. Он привык сам смеяться над дядей, а тут вдруг дядя смеется над ним! В другое время он бы этого не стерпел. Вместе с тем ему было удивительно, что дядя оказался таким умным – даже нечего ему ответить. Кристофу очень хотелось опровергнуть дядины рассуждения или хоть нагрубить ему, но он ничего не мог придумать. А Готфрид продолжал:
– Будь ты велик, как отсюда до Кобленца, ни одной песни тебе все равно не сложить.
Кристоф возмутился.
– А если я хочу!
– Мало чего ты хочешь. Чтобы слагать песни, нужно самому быть, как они. Слушай…
Луна уже вставала над полями, круглая, яркая. Серебристая дымка затягивала землю и светлое зеркало вод. Переговаривались лягушки, в лугах слышалась мелодичная флейта жаб. Тонкое тремоло сверчков как бы перекликалось с мерцанием звезд. Ветер трогал листья на старой ольхе, и они чуть слышно лепетали. С холмов над рекой струилась переливчатая песня соловья.
– Зачем петь? – вздохнул Готфрид после долгого молчания. (Может быть, он говорил с Кристофом, а может быть, с самим собой.) – Разве это не лучше всего, что ты можешь сочинить?
Кристоф много раз слыхал все эти ночные звуки и любил их. Но так он еще никогда их не слышал. Правда, зачем петь?.. Сердце его исполнилось нежности и грусти. Ему хотелось обнять луга, реку, небо и эти милые, милые звезды… На него вдруг нахлынула любовь к дяде Готфриду – этот маленький человек теперь казался Кристофу самым лучшим, самым умным, самым красивым из всех, кого он знал. Он вспомнил, как всегда смеялся над ним, и подумал, что, наверно, от этого дядя такой грустный. Его охватило раскаяние. Ему хотелось сказать: «Дядя, не горюй! Я больше не буду! Прости меня! Я так тебя люблю!» Но он не смел… В страстном порыве он бросился вдруг на шею Готфриду; однако заготовленные слова не шли с его губ; он только твердил: «Я люблю тебя!» – и горячо целовал дядю. Удивленный и растроганный, Готфрид спрашивал: «Ну что ты?
Что ты?» – и тоже целовал его. Наконец он поднялся и, взяв Кристофа за руку, проговорил:
– Пора домой.
Кристоф пошел за ним, как в воду опущенный; ему грустно было оттого, что дядя его не понял. Но, уже подойдя к дому, Готфрид вдруг сказал:
– Если хочешь, мы как-нибудь вечером опять пойдем слушать божью музыку, и я спою тебе еще другие песни.
И когда Кристоф, преисполненный благодарности, крепко обнял дядю, прощаясь с ним на ночь, он знал, что тот его понял.
После этого они часто гуляли по вечерам. Они шли вдоль реки или по тропинке через поля. Оба молчали. Готфрид не спеша покуривал трубку. Кристоф, слегка робея в темноте, держался за дядину руку. Потом садились на траву, и, помолчав еще немного, Готфрид начинал говорить. Он рассказывал Кристофу о звездах, о тучах; учил его различать голоса земли, и воды, и воздуха, писки и шелесты, пение и крики всех летающих, плавающих, ползающих тварей – всего этого мира малых существ, населяющих темноту; объяснял, что предвещает дождь, а что ясную погоду; заставлял мальчика вслушиваться в бесчисленные звуки, из которых слагается симфония ночи. Иногда Готфрид пел; песни бывали печальные, бывали веселые, но все они чем-то напоминали ту первую и будили в Кристофе такое же волнение. Готфрид никогда не пел больше одной песни в вечер, и Кристоф заметил, что он не любит петь, когда его просят, – нужно было, чтобы это вышло само собой, чтобы ему самому захотелось петь. Иногда приходилось долго ждать, долго сидеть молча, и, уже когда Кристоф с огорчением думал: «Ну, сегодня он не будет петь», – Готфрид вдруг начинал.
Однажды вечером, когда стало ясно, что от Готфрида ничего не дождешься, Кристоф вздумал пропеть ему одну из своих собственных мелодий, на которые тратил столько труда и которыми так гордился. Он хотел показать дяде, как замечательно он умеет сочинять. Готфрид внимательно его прослушал, потом сказал:
– Как это плохо! Бедный мой Кристоф, как это плохо!
Кристоф так оскорбился, что не нашел слов для ответа.
Готфрид сокрушенно продолжал:
– Зачем ты это делал? Это такплохо! Никто ведь тебя не заставлял.
Кристоф негодующе, воскликнул, весь красный от гнева:
– Дедушка говорит, что это очень хорошая музыка!
– А-а… – протянул Готфрид, нисколько не смущаясь. – Ну, раз он говорит, значит, так и есть. Он ученый человек. Он понимает в музыке. А я в ней ничего не понимаю…
Но через секунду он добавил:
– Только, по-моему, это очень плохо.
Он кротко посмотрел на Кристофа, увидел его расстроенное лицо, улыбнулся и сказал:
– У тебя, наверно, есть еще что-нибудь? Может быть, то мне больше понравится.
Кристоф воспрянул духом. В самом деле, может быть, другие вещи изгладят неблагоприятное впечатление от первой. Он спел их все подряд. Готфрид молча слушал; он ждал, пока Кристоф кончит. Затем покачал головой и сказал с глубоким убеждением:
– Эти еще хуже.
Кристоф прикусил губу; у него дрожал подбородок, рыдания подступали к горлу. Готфрид и сам был огорчен, но не мог покривить душой.
– Как это плохо! – повторил он.
Кристоф воскликнул со слезами в голосе:
– Но почему, почему ты так говоришь? Чем это плохо?
Готфрид посмотрел на него своим ясным, правдивым взглядом.
– Чем плохо? Не знаю… Погоди… Это плохо… прежде всего потому, что это глупо… Да, да, в этом все дело… Это глупо, это ничего не значит… Вот. Когда ты это писал, тебе нечего было сказать. Так зачем же ты писал?
– Не знаю, – жалобно ответил Кристоф. – Мне хотелось сочинить что-нибудь хорошее.
– Ну да! Ты писал так, лишь бы написать. Ты писал, чтобы показать, какой ты замечательный музыкант, чтобы тебя похвалили. Ты возгордился и допустил в свое сердце ложь; и за это ты наказан… Вот! В музыке всегда так: когда гордишься и лжешь, всегда бываешь наказан. Музыка должна быть скромной и правдивой, ибо что она такое иначе? Кощунство, хула на господа бога, который даровал нам прекрасные песни, чтобы выражать настоящие, а не поддельные чувства…
Видя огорчение мальчика, Готфрид хотел его обнять, но Кристоф сердито отвернулся. После этого он несколько дней не разговаривал с дядей. Ему казалось, что он ненавидит Готфрида. Но напрасно твердил он себе в утешение: «Он просто дурак. Он ничего не понимает. Дедушка куда умнее, а дедушка говорит, что мои пьески очень хорошие», – в глубине души он знал, что прав дядя, а не дедушка. Слова Готфрида тяжело легли мальчику на сердце, и ему было стыдно оттого, что его уличили во лжи…
Не скоро зажила рана, нанесенная самолюбию Кристофа; и все же, как ни был он сердит, теперь, сочиняя музыку, он всякий раз думал: а что об этом скажет дядя? И часто разрывал написанное, потому что ему вдруг становилось стыдно… А если эта мысль его не останавливала и он дописывал до конца какую-нибудь вещицу, о которой знал, что она не совсем искренняя, он прятал ее от дяди, страшась его приговора; и как же зато он бывал счастлив, когда, решившись что-нибудь показать Готфриду, слышал из его уст скупую похвалу:








