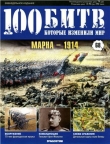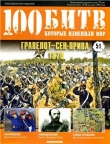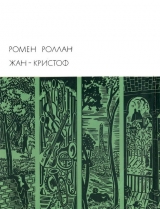
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 57 страниц)
Кристоф смотрел и слушал. Он стискивал зубы, чтобы не сказать дерзости. Весь вечер он сидел со злым и напряженным лицом. Он не мог ни говорить, ни молчать. Говорить не потому, что хочется, и не потому, что приятна беседа, а просто из вежливости, потому что надо говорить, – казалось ему унизительным. Высказывать сокровенные свои мысли ему не дозволялось. Говорить банальности было выше его сил. Но и таланта вежливо молчать у него тоже не было. Если он смотрел на своего соседа, то слишком пристальным и острым взглядом: помимо воли он изучал его, а того это обижало. Если он говорил, то искренне верил в то, что говорит: это шокировало всех и даже его самого. Он ясно сознавал, что был здесь не на месте, и, достаточно чуткий, чтобы уловить тон среды, в которой его присутствие вносило диссонанс, досадовал на свое поведение не меньше самих хозяев. Он сердился и на себя и на них.
Когда же среди ночи он выходил на улицу и оставался в одиночестве, ему становилось так нестерпимо тошно, что не хватало мужества идти домой пешком; хотелось тут же броситься на землю, как бывало, когда он, маленький виртуоз, возвращался с вечеров у герцога и с трудом удерживался от такого же порыва. Иногда у него оставалось всего пять-шесть франков до конца недели, и все же он тратил два из них на фиакр. Он опрометью бросался в экипаж, лишь бы очутиться подальше, и всю дорогу стонал от отвращения. И он продолжал стонать дома, в постели, засыпая… Потом вдруг разражался хохотом, вспомнив какую-нибудь нелепую фразу. Он ловил себя на том, что сам повторял ее, передразнивая жесты говорившего. На следующий день и даже спустя несколько дней он иногда, гуляя в одиночестве, начинал вдруг рычать, как дикий зверь… Зачем ходил он к этим людям? Зачем он к ним ходит? Зачем принуждает себя повторять чужие жесты, чужое кривлянье, притворяться, будто интересуется тем, что вовсе его не интересует? Но вправду ли не интересует? Год тому назад он бы и часу не мог усидеть с этими людьми. Теперь же они забавляли его, хоть и по-прежнему раздражали. Неужели и он стал заражаться парижским равнодушием? И им овладело беспокойство, уж не сдал ли он. Но нет, напротив, он становился сильнее. В чуждой среде он стал свободнее духом. Глаза его невольно раскрывались на великую Комедию жизни.
Впрочем, нравилось ему это или нет, а приходилось мириться с такой жизнью, если он хотел, чтобы его творчество стало известно парижскому обществу, а парижское общество интересуется художественными произведениями, лишь поскольку оно знакомо с самим художником. Приходилось искать связей, если он хотел кормиться уроками, которые мог получить только в домах мещан и филистеров.
А потом, у каждого ведь есть сердце; и сердце помимо нашей воли привязывается; оно находит, к чему привязаться, в какую бы среду ни попало; и если бы не привязывалось, не могло бы жить.
В числе других учениц Кристоф давал уроки дочери богатого автомобильного фабриканта, Колетте Стивенс. Отец ее был выходец из Бельгии, сын обосновавшегося в Антверпене англо-американца и голландки; мать – итальянка. Настоящая парижская семья. Для Кристофа – да и для многих других – Колетта Стивенс олицетворяла собой тип французской девушки.
У этой восемнадцатилетней девицы были черные бархатистые глаза, которыми она нежно поглядывала на молодых людей; зрачки, как у испанки, заполнявшие всю орбиту влажным блеском; чуть длинноватый капризный носик, который она, когда говорила, слегка морщила с задорными гримасками; растрепанные волосы; неправильное, но смазливое личико, с неважной запудренной кожей и простоватыми пухленькими щечками и губками, напоминавшее мордочку надувшегося котенка.
Миниатюрная, прекрасно одетая, обольстительная, дразнящая, с жеманными, вкрадчивыми, деланно наивными манерами, она разыгрывала из себя маленькую девочку и часа по два раскачивалась в качалке, восклицая что-нибудь вроде: «Нет! Не может быть!..»
За столом она хлопала в ладоши, когда подавали ее любимое блюдо; в гостиной курила папиросу за папиросой, при мужчинах прикидывалась, будто нежно любит своих подруг, – бросалась им на шею, ласково гладила им руки, шептала что-то на ухо, говорила наивности, а иногда и колкости, преискусно-нежным и слабеньким голоском; при случае она этим же голоском как ни в чем не бывало умела сказать и большую непристойность, а еще лучше – вызвать на непристойность своего собеседника, и все это с самым простодушным выражением паиньки-девочки, поблескивая томными, с тяжелыми веками, плутоватыми глазами, лукаво косясь по сторонам; она подстерегала все сплетни, подхватывала любую двусмысленность, вечно старалась поймать на удочку чье-нибудь сердце.
Это глупое кривлянье, эти щенячьи ужимки, эта деланная простоватость ни в малейшей степени не прельщали Кристофа. Ему было не до уловок развращенной девчонки, они даже не забавляли его. Ему нужно было зарабатывать себе на хлеб, спасать от смерти свою жизнь и свои замыслы. Все эти салонные попугайчики интересовали его лишь постольку, поскольку они доставляли ему средства к существованию. Они платили ему, а он за деньги обучал их добросовестно, наморщив лоб, ничем не отвлекаясь; он решил не поддаваться ни скуке этих уроков, ни поддразниванью своих учениц, когда попадались кокетливые, вроде Колетты Стивенс. И самой Колетте он уделял не больше внимания, чем ее маленькой двоюродной сестре, молчаливой и застенчивой девочке тринадцати лет, воспитывавшейся у Стивенсов, которой он также давал уроки.
Хитренькая Колетта прекрасно почувствовала, что с Кристофом все ее авансы пропадут даром; в то же время она ловко сумела в одно мгновение приспособиться к его вкусам. Для этого не понадобилось даже никаких усилий. Она действовала инстинктивно. Колетта была женщина. Она, как волна, не имела определенной формы. Чужая душа являлась для нее как бы сосудом, форму которого она, когда нужно, усваивала – иногда просто из любопытства, а иногда по необходимости. Чтобы жить, ей постоянно требовалось быть кем-то другим. Вся неповторимость ее личности заключалась в том, что она никогда не оставалась самой собой. Она слишком часто меняла сосуды.
Кристоф привлекал ее по многим причинам, главной из которых было то, что она сама не привлекала его. Он привлекал ее также тем, что не походил ни на кого из ее знакомых молодых людей, – никогда еще не попадался ей сосуд столь нескладный и столь замысловатой формы. И, наконец, обладая врожденной способностью определять с первого взгляда точную цену сосудов и людей, она ясно сознавала, что отсутствие внешнего лоска возмещается у Кристофа своего рода добротностью, какой лишены ее парижские куколки.
Она занималась музыкой, как занимается ею большинство праздных барышень. И слишком много и слишком мало. То есть она почти всегда была занята музыкой и почти ничего в ней не смыслила. Она бренчала на рояле по целым дням – от безделья, из любви к позе, ради чувственного развлечения. Иногда она играла, как другие катаются на велосипеде. Иногда играла хорошо, даже прекрасно, со вкусом, с душой (почти верилось, что у нее тоже есть душа: для этого ей было достаточно представить себя на месте человека, действительно обладавшего душой). До знакомства с Кристофом она способна была любить Массне, Грига, Томэ. Но она способна была также разлюбить их после знакомства с Кристофом. И теперь она играла Баха и Бетховена очень часто (что, по правде говоря, не бог весть какая похвала); но поразительнее всего то, что она их любила. В сущности, она любила не Бетховена, не Томэ, не Баха и не Грига, – она любила ноты, звуки, свои пальцы, бегавшие по клавишам, дрожанье струн, царапавшее и приятно щекотавшее ей нервы.
В салоне аристократического особняка, обтянутом немного блеклыми шпалерами, с водруженным на мольберте портретом дородной г-жи Стивенс, которую модный художник изобразил чахнущей, как цветок без воды, с глазами умирающей и с закрученной в спираль талией, желая, вероятно, выразить таким образом исключительность ее миллионерской души, – в большом салоне с окнами, выходившими на старые, запорошенные снегом деревья, Кристоф всегда заставал Колетту у рояля, за бесконечным повторением все тех же фраз, ласкавших ей слух мягкими диссонансами.
– А! – восклицал, входя, Кристоф. – Кошечка снова замурлыкала!
– Невежа! – отзывалась со смехом Колетта.
(И протягивала ему немного влажную руку.)
– … Послушайте-ка вот это. Разве не прелестно?
– Восхитительно, – отвечал Кристоф равнодушным тоном.
– Да вы не слушаете!.. Извольте выслушать внимательно.
– Я слушаю… Ведь это все одно и то же.
– Ах, вы не музыкант! – с досадой говорила она.
– Как будто тут дело в музыке!
– Как! Не в музыке?.. Так в чем же тогда, скажите, пожалуйста!
– Вы сами отлично знаете, а я не скажу, потому что это не совсем пристойно.
– Тем более вы должны сказать.
– Вы требуете?.. Пеняйте на себя!.. Знаете, что вы делаете с вашим роялем?.. Флиртуете.
– Вот еще!
– Да, да. Вы ему говорите: «Милый рояль, душка рояль, скажи мне что-нибудь любезное, еще поласкай меня, поцелуй меня!»
– Да замолчите же! – обрывала Колетта, полусмеясь, полусердито. – Вы не имеете ни малейшего понятия об учтивости.
– Верно, ни малейшего.
– Вы дерзкий… А если даже это так, разве это не значит, что я по-настоящему люблю музыку?
– Нет уж, смилуйтесь, не будем примешивать сюда музыку.
– Но это же сама музыка! Красивый аккорд – ведь это поцелуй!
– Вот вы и проговорились.
– Разве не правда?.. Почему вы пожимаете плечами? Почему вы хмуритесь?
– Потому что мне противно слушать.
– Час от часу не легче!
– Мне противно слушать, когда говорят о музыке, как с распутстве… О, вы в этом не виноваты! Виновата ваша среда. Все это пошлое общество, что вас окружает, смотрит на искусство как на какой-то дозволенный разврат… Ну ладно, хватит!! Сыграйте-ка мне сонату.
– Нет, нет, поговорим еще немного.
– Я здесь не для того, чтобы разговаривать, а чтобы давать вам уроки музыки… Ну, шагом марш!
– Вы очень любезны! – отвечала Колетта, раздосадованная, но в глубине души восхищенная этим грубоватым обращением.
И Колетта играла заданный урок, стараясь изо всех сил, а так как способности к музыке у нее были, то получалось вполне прилично, иногда даже довольно хорошо. Кристоф, которого трудно было провести, смеялся в душе над ловкостью «продувной девчонки, игравшей так, точно она чувствует то, что играет, хотя в действительности ничего не чувствует». И он проникался к ней какой-то насмешливой симпатией. Колетта же пользовалась любым предлогом, чтобы возобновить разговор, занимавший ее гораздо больше, чем урок. Тщетно Кристоф отговаривался тем, что не станет высказывать все свои мысли, ибо боится оскорбить ее, – ей всегда удавалось добиться своего; и чем оскорбительнее были слова Кристофа, тем меньше она обижалась: в том-то и заключалось ее развлечение. Но так как Колетта была тонкая штучка и понимала, что Кристоф больше всего любит искренность, то не уступала ему ни пяди и спорила до слез. Расставались они самыми лучшими друзьями.
Однако никогда у Кристофа не возникло бы ни малейшей иллюзии насчет этой светской дружбы, никогда не установилось бы между ними и тени интимности, если бы в один прекрасный день Колетта не сделала ему признания – невзначай или из прирожденного кокетства.
Накануне у ее родителей был прием. Колетта смеялась, болтала, флиртовала напропалую; но на следующее утро, когда Кристоф пришел на урок, она встретила его утомленная, измученная, поблекшая, с лицом в кулачок. С трудом она выговорила несколько слов и казалась вся какой-то потухшей. Она села за рояль, стала играть вяло, наврала, попробовала поправиться, опять сбилась, резко оборвала игру и сказала:
– Нет, не могу… извините меня… Может быть, немножко погодя…
Кристоф спросил, не больна ли она. Она ответила, что нет.
«Просто не в настроении… С нею это бывает… Смешно, конечно, но не надо на нее сердиться…»
Он предложил перенести урок на другой день, но она упросила его остаться.
– Только минутку… Сейчас все пройдет… Какая я глупая, не правда ли?
Он чувствовал, что ей не по себе, но не хотел расспрашивать и, чтобы переменить тему разговора, сказал:
– Вот что значит слишком блистать на вечере! Вы совсем вчера себя не щадили.
Она иронически улыбнулась:
– Зато про вас этого нельзя сказать.
Кристоф звонко расхохотался.
– Вы, кажется, не произнесли ни одного слова, – продолжала она.
– Ни одного.
– А между тем у нас были интересные люди.
– Да, редкостные болтуны и умники. Я теряюсь, когда наблюдаю вашу французскую бесхарактерность, – тут всё понимают, всё прощают и ничего не чувствуют. По целым часам говорят о любви и об искусстве! Просто тошнит.
– Однако это должно бы вас интересовать, – если не любовь, то, во всяком случае, искусство.
– Об этих вещах не говорят: их делают.
– А если не можешь делать? – спросила Колетта, скривив губы.
– Тогда предоставьте это другим, – со смехом отвечал Кристоф. – Не все созданы для искусства.
– А для любви?
– И для любви.
– Сжальтесь! Что же нам тогда остается?
– Семья, хозяйство.
– Благодарю покорно! – обиженно проговорила Колетта.
Она снова попробовала играть, снова наврала, ударила по клавишам и жалобно простонала:
– Нет, не могу!.. Положительно я ни на что не годна. Думаю, что вы правы. Женщины ни на что не годны.
– Сознаться в этом – уже чего-то стоит, – добродушно заметил Кристоф.
Она посмотрела на него пристыженным взглядом девочки, которую бранят, и сказала:
– Не будьте таким суровым!
– Я не говорю дурно о хороших женщинах, – весело возразил Кристоф. – Хорошая женщина – рай на земле. Но только рай на земле…
– … никто никогда его не видел.
– Я не такой пессимист. Я говорю: да, я его никогда не видел, но очень возможно, что он существует. Я даже решил, что отыщу его, если вообще он существует. Да это не так легко. Хорошая женщина и гениальный мужчина – весьма редкие птицы.
– А остальные мужчины и женщины, значит, не в счет?
– Напротив! Только остальные и идут в счет… для света.
– А для вас?
– Для меня они не существуют.
– Вы суровы! – повторила Колетта.
– Как вам сказать! Надо же кому-нибудь быть суровым. Хотя бы для блага других!.. Если бы в этом мире не было разбросано немного камней, его затянуло бы тиной.
– Да, верно, вы счастливый – ведь вы такой сильный, – печально сказала Колетта. – Но не будьте слишком строги к людям – особенно к женщинам, если они слабы… Вы не знаете, как тяготит нас наша слабость. Пусть мы хохочем, флиртуем, кривляемся, а вы уж думаете, что у нас в голове больше ничего и нет, и презираете нас. Ах, если б вы могли прочесть все, что происходит в душе маленьких женщин от пятнадцати до восемнадцати лет, начинающих выезжать и пользующихся успехом, который обеспечивает им их шумная жизнь, – если бы вы могли прочесть, что происходит в них после того, как они натанцевались, наговорили глупостей, парадоксов, горьких истин и все со смехом, пока не рассмешат кавалера; после того как они отдали частицу своего существа разным болванам и тщетно искали в глазах каждого искру света, которого там и быть не может, – если б вы их видели, когда они, вернувшись домой ночью, запрутся в своей тихой спальне и бросятся на колени в смертной тоске одиночества!..
– Возможно ли это? – воскликнул изумленный Кристоф. – Как! И вы, вы тоже так страдаете?
Колетта не ответила, но на глаза ее навернулись слезы. Она попробовала улыбнуться и протянула Кристофу руку; тот взволнованно схватил ее.
– Бедная девочка! – проговорил он. – Если вы страдаете, почему вы не откажетесь от такой жизни?
– Что же прикажете нам делать? Нам нечего делать. Вы, мужчины, можете добиваться свободы, можете делать все, что хотите. Но мы, мы всегда замкнуты в кругу светских обязанностей и удовольствий: для нас выхода нет.
– Кто же вам мешает освободиться, подобно нам заняться делом, которое вам нравилось бы и обеспечивало бы, как и нам, независимость?
– Как и вам? Бедный господин Крафт! Не очень-то оно вас обеспечивает!.. Но, по крайней мере, оно вам нравится. А для какого дела созданы мы? Нет такого дела, которое бы нас интересовало. Да, я знаю, мы теперь вмешиваемся во все, притворяемся, будто нас привлекает и то, и другое, и третье, хотя нас это вовсе не касается; но нам так хочется чем-нибудь заинтересоваться! Я не отстаю от других. Занимаюсь благотворительностью, состою в комитетах. Бываю в Сорбонне, хожу на лекции Бергсона {125} и Жюля Леметра {126} , на исторические концерты, на классические утренники и все что-то записываю, записываю… сама не знаю, что записываю!.. и стараюсь убедить себя, что это страшно меня увлекает или, по крайней мере, полезно мне. Но ведь это совсем не так, я сама прекрасно знаю, как все это мне безразлично и как скучно!.. Пожалуйста, не презирайте меня: я говорю вслух то, что думают все. Я не глупее других. Но к чему мне философия, история и наука? Что же касается искусства, то – вы видите – я бренчу на рояле, мажу дрянные акварельки, да разве это может наполнить жизнь? В нашей жизни только одна цель – замужество. Но, вы думаете, весело выйти замуж за одного из этих господ, ведь мы с вами видим их насквозь. Знаем их истинную цену. Увы, я не умею утешать себя, как ваши немецкие Гретхен, из всего создающие себе иллюзии… Разве это не ужасно? Смотреть вокруг себя, видеть своих замужних подруг, их супругов и думать, что придется поступить так же, как они, изуродовать себя физически и духовно, стать такой же пошлой!.. Уверяю вас, нужно быть стоиком, чтобы примириться с такой жизнью и такими обязанностями. Не все женщины способны на это… А время идет, годы текут, молодость уходит; и, однако же, есть в нас что-то хорошее, путное, но оно ни на что не пригодится, оно умирает с каждым часом, и нам скрепя сердце придется отдать лучшее, что мы имеем, какому-нибудь идиоту, ничтожному существу, которое ты презираешь и которое будет тебя презирать!.. И никто нас не понимает! Для людей мы точно какая-то загадка. Еще можно понять мужчин, когда находят нас пустыми и взбалмошными! Но женщины, казалось бы, должны нас понимать! Ведь и они были такими же, как мы, пусть припомнят… Ничего! Никакой помощи от них. Даже родные матери нас не знают и ничуть не пытаются узнать. Вся их забота – выдать нас замуж. А в остальном – живи, умирай, устраивайся как хочешь! Общество бросает нас всецело на произвол судьбы.
– Не отчаивайтесь, – сказал Кристоф. – Опыт жизни каждый должен проделывать заново. Если у вас есть мужество, все пойдет хорошо. Ищите за пределами вашего круга. Ведь должны же быть честные люди во Франции.
– Они есть. И я их знаю. Но как они скучны!.. И потом, вот что я вам скажу: мир, в котором я живу, мне не нравится, но думаю, что теперь я уже не смогу жить вне его. Я к нему привыкла. Я нуждаюсь в известном комфорте, в известной роскоши и тонкости, принятой в нашем кругу; правда, одних только денег для этого недостаточно, но они тем не менее необходимы. Не очень-то это для меня лестно, я понимаю. Но я знаю себя, я слабая… Не сторонитесь же меня, узнав мои маленькие слабости. Будьте со мною добрым. Мне так полезно разговаривать с вами! Я чувствую, что вы сильный, здоровый; я верю вам всецело. Будьте немножко мне другом, хотите?
– Очень хочу, – ответил Кристоф. – Но я-то что могу сделать?
– Выслушивайте меня, давайте мне советы, подбадривайте. У меня часто такой сумбур в мыслях! Тогда я просто не знаю, куда себя девать. Я думаю: «Зачем бороться, зачем терзаться? То или другое, не все ли равно? Все равно – кто! Все равно – что!» Ужасное состояние. И мне не хочется поддаваться ему. Помогите мне! Помогите!..
Она казалась удрученной, постаревшей на десять лет и смотрела на Кристофа добрыми, покорными и умоляющими глазами. Он пообещал ей все, о чем она просила. Тогда она оживилась, заулыбалась, повеселела.
А вечером смеялась и флиртовала, как всегда.
Начиная с этого дня, они регулярно вели дружеские разговоры. На уроках они были одни: она поверяла ему все, что ей приходило на ум, а он добросовестно старался понять ее и что-нибудь посоветовать; она выслушивала его советы, а то и увещания серьезно, внимательно, как примерная, благонравная девочка, – это ее веселило, занимало, даже поддерживало; она благодарила Кристофа растроганными, кокетливыми взглядами. Но в ее жизни ровно ничего не изменилось: стало только одним развлечением больше.
Весь день был сплошной вереницей превращений. Вставала она поздно, около двенадцати. Ее мучила бессонница, и засыпала она только на рассвете. Целый день она ничего не делала. Бесконечно твердила строчку какого-нибудь стихотворения, музыкальную фразу, пережевывала какую-нибудь мысль, обрывок мысли или разговора, вспоминала понравившееся ей лицо. Окончательно она приходила в себя только к четырем или пяти часам вечера. А до тех пор бродила с опухшими глазами, капризная, заспанная. Оживлялась она только тогда, когда являлись подружки, такие же болтливые, такие же падкие до парижских сплетен. Они вместе до изнеможения спорили о любви. Анализ любовных чувств был вечной темой их разговоров наряду с нарядами, чужими тайнами, злословием. У Колетты имелся еще и кружок праздных молодых людей, которые не могли не проводить два-три часа в день среди юбок и сами вполне могли бы носить юбку, ибо и души и разговоры у них были чисто бабьи. Кристофу отвели свой час: час духовника. Колетта мгновенно становилась серьезной и сосредоточенной – той самой молодой француженкой, о которой Бодлей {127} пишет, что «в исповедальне она развивает какую-нибудь заранее подготовленную тему, образец ясности и блестящего построения, где все, что следует сказать, расположено в строгом порядке и распределено по определенным категориям». Облегчив душу, она начинала веселиться вовсю. И с приближением вечера все больше молодела: отправлялась в театр, где ее ожидало никогда не приедавшееся удовольствие узнавать в зале вечно одни и те же лица – удовольствие не от пьесы, которую играли, а от давно знакомых актеров, у которых лишний раз подмечались хорошо известные изъяны. Злословила с приходившими в ложу насчет сидевших в соседних ложах или же насчет актрис. Находила, что у инженю голосок кисленький, «как позавчерашний майонез», или что платье у премьерши «похоже на абажур». Или же выезжала на вечера; там удовольствие заключалось в том, чтобы показать себя, если только она бывала интересной (что зависело от случая, ибо нет ничего капризнее парижской красоты); там освежался запас злословия насчет туалетов и физических недостатков других женщин. Разговоров в обычном смысле слова там вообще не велось. Домой она возвращалась поздно. С большой неохотой ложилась спать (в этот час парижанки типа Колетты чувствуют себя наиболее свежими). Вертелась вокруг стола. Перелистывала книгу. Смеялась в одиночестве, вспоминая какое-нибудь слово или жест. Скучала. Чувствовала себя очень несчастной. Не могла заснуть. А по ночам на нее находили внезапные припадки отчаяния.
Кристоф, видевший Колетту лишь изредка в течение нескольких часов и присутствовавший лишь при некоторых из ее превращений, разбирался в них с трудом. Он недоумевал, когда же она бывает искренней: всегда или никогда. Колетта сама не могла бы ответить на этот вопрос. Как и большинство барышень, у которых за душой нет ничего, кроме праздных и затаенных желаний, она бродила в потемках. Она не знала, что она такое, потому что не знала, чего она хочет, да и не могла знать, не испытав. И вот она старалась испытать все на свой лад, с наивозможно большей свободой и наименьшим риском, стараясь рабски копировать окружающих, заимствуя у них моральную мерку. Она не торопилась делать выбор. Ей хотелось бы все сберечь, чтобы всем воспользоваться.
Но с таким другом, как Кристоф, это оказалось нелегко. Он еще допускал, что ему могут предпочесть людей, которых он не уважал и даже презирал, но не допускал, чтобы его равняли с ними. У каждого свой вкус, но прежде всего надо иметь вкус.
Кристоф был тем менее склонен к снисходительности, что Колетта, по-видимому, с каким-то особенным удовольствием коллекционировала вокруг себя молодых людей наименее приемлемого для него типа: отвратительных снобов, по большей части богатых и, уж во всяком случае, праздных или имеющих синекуру в каком-нибудь министерстве, что, в сущности, одно и то же. Все писали, вернее, утверждали, что пишут. Писательство стало положительно психозом при Третьей республике. А главное, оно было удобной ширмой для тщеславных бездельников, – ведь умственная работа всегда труднее поддается контролю и открывает широкий простор блефу. О своих великих трудах они лишь изредка роняли сдержанные, но почтительные замечания. Посмотреть – так они насквозь проникнуты важностью своей задачи, изнемогают под ее непосильным бременем. Сначала Кристоф чувствовал даже некоторую неловкость оттого, что не знал их произведений и имен. Робко пробовал он навести справки; особенно хотелось ему узнать, что написал тот, кого единодушно называли выдающимся драматургом. И с удивлением услыхал, что сей великий драматург создал всего только один акт, переделанный из романа, который, в свою очередь, был склеен из серии рассказов, или, вернее, заметок, печатавшихся в одном из их ежемесячных журналов за последние десять лет. Багаж остальных был не более увесистым: две-три пьески, две-три повестушки, два-три стихотворения. Были такие, что сумели прославиться одной статейкой. Другие – книгой, «которую собирались писать». Они выражали презрение к большим полотнам и придавали огромное значение размещению слов и фраз. Слово «мысль» часто повторялось в их разговорах, но, по-видимому, употреблялось оно не в общепринятом смысле, а лишь в применении к мелким особенностям стиля. Однако же в числе их были и великие мыслители, и умы иронические, которые писали свой глубокие изречения всегда курсивом, чтобы они не прошли незамеченными.
Все исповедовали культ своего «я» – единственный их культ вообще. Они хотели бы, чтобы и другие его исповедовали. Но беда в том, что другие были уже заняты. Что бы они ни делали – говорили, ходили, курили, читали газету, встряхивали волосами, смотрели вокруг, здоровались друг с другом, – они думали только об одном: присутствуют ли при этом зрители. Комедиантство свойственно молодым людям – и прежде всего наиболее никчемным людям, то есть праздным. Особенно стараются они ради женщины, ибо желают ее, а еще более жаждут сами стать предметом ее желания. Но не брезгают и первым встречным: распускают хвост ради случайного прохожего, который в лучшем случае проводит их недоуменным взглядом. Кристоф часто встречал таких павлинчиков, они имелись и среди пианистов, и среди скрипачей, среди мазилок, молодых актеров, и все гримировались под какую-нибудь знаменитость: Ван-Дейка, Рембрандта, Веласкеса, Бетховена – или играли какую-нибудь роль: хорошего художника, хорошего музыканта, хорошего мастера, глубокого мыслителя, веселого малого, неотесанного мужика, человека природы… Проходя по улице, они искоса поглядывали по сторонам, – обращают ли на них внимание. Кристоф знал, к чему они клонят, и с коварным равнодушием нарочно отводил глаза. Но конфуз их длился недолго: через два шага они уже пыжились перед следующим прохожим. Посетители салона Колетты были более утонченны: они гримировали главным образом свой ум, подражая двум-трем образцам, которые сами были копиями. Или же выступали олицетворением какой-нибудь идеи: Силы, Радости, Жалости, Солидарности, Социализма, Анархизма, Веры, Свободы, – для них это были лишь роли. Они обладали талантом превращать заветнейшие мысли в литературщину и смотрели на самые героические порывы человеческой души как на модные галстуки.
Но стихией, в которой они чувствовали себя наиболее привольно, была любовь, – тут уж они были хозяевами. Они постигли все секреты, всю казуистику наслаждения; их изощренная фантазия изобретала все новые казусы в надежде с честью решить их. Этим всегда занимались люди, которым нечем заняться: за неумением любить они «занимаются» любовью, а главное – толкуют ее. Их комментарии бывали куда пространнее основного текста, весьма жиденького. Социология служила приправой к самым скабрезным мыслям: в те времена все прикрывалось флагом социологии; как бы они ни наслаждались, удовлетворяя свои пороки, им чего-то не хватало, если они не убеждали себя, что, поступая так, они подготовляют наступление новой эры. Чисто парижский вид социализма: социализм эротический.
В числе вопросов, страстно волновавших тогда эту маленькую «академию любви», было равенство полов в браке и прав их в любви. Известно, что встречались славные молодые люди, честные, немножко смешные, протестанты – скандинавы или швейцарцы, – требовавшие равенства в добродетели: мужчины, подобно женщинам, должны вступать в брак девственными. Парижские казуисты требовали иного равенства – в нечистоплотности: женщины, подобно мужчинам, должны вступать в брак оскверненными, – должны иметь право заводить любовников. Париж до такой степени был пресыщен адюльтером в воображении и на практике, что это блюдо начало уже приедаться; в литературном мире пробовали заменить его более оригинальным изобретением: проституцией молодых девушек, – я разумею проституцию упорядоченную, всеобщую, добродетельную, благопристойную, семейную и при всем том – социальную. Одна только что вышедшая талантливая книга как раз и трактовала этот вопрос: на четырехстах страницах, с забавным педантизмом, в ней изучалась, «по всем правилам Бэконова метода» {128} , «наилучшая организация наслаждения». Словом, полный курс свободной любви, где говорилось об изяществе, благопристойности, хорошем вкусе, благородстве, красоте, истине, стыдливости, нравственности, – настоящий Беркэн {129} для светских девушек, желавших пойти по дурной дороге. Книга эта была на данный срок евангелием, которым восторгался маленький двор Колетты, а сама она постоянно толковала ее. Естественно, как и все новообращенные, Колетта и ее окружение оставляли без внимания все, что еще могло быть в этих парадоксах верного, правильно подмеченного и даже человечного, и запоминали только самое худшее. Никогда не упускали они случая сорвать с этой клумбы самые ядовитые из всех ее обсахаренных цветочков, – афоризмы в таком роде: «вкус к сладострастию может только обострить вкус к труду»; «чудовищно, чтобы девственница стала матерью, не изведав наслаждения»; «обладание мужчиной-девственником является для женщины естественной подготовкой к сознательному материнству»; долг матери – «создать свободу для дочери с такой же деликатностью и благопристойностью, с какой она поощряет свободу своих сыновей»; придет время, «когда девушки будут возвращаться от своих любовников с такою же естественностью, с какою возвращаются теперь с лекции или после визита к своим подругам».