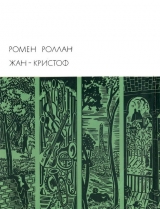
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 57 страниц)
– Папа, я не хочу больше играть.
Мельхиор задохнулся от негодования.
– Что?.. Что?.. – закричал он и так дернул мальчика за руку, что чуть ее не вывихнул.
Кристоф, трясясь от страха и наперед заслоняясь локтем, продолжал:
– Не хочу больше играть. Во-первых, потому, что не хочу, чтобы меня били. А потом…
Он не договорил. От оглушительной пощечины у него перехватило дыханье. Мельхиор закричал:
– Ах, ты не хочешь, чтобы тебя били? Ты не хочешь!
Удары посыпались градом. Кристоф вопил сквозь рыдания:
– А потом… я не люблю музыки!.. Я не люблю музыки!..
Он сполз со стула. Мельхиор насильно посадил его обратно, схватил за руки, стал колотить ими по клавишам. Он кричал:
– Будешь играть!
А Кристоф кричал в ответ:
– Не буду! Не буду!
Мельхиору не удалось его переупрямить. В конце концов, избив мальчика до полусмерти, он выбросил его из комнаты, прибавив в виде напутствия, что есть ему не дадут ни сегодня, ни завтра, – месяц будешь сидеть голодный, пока не проиграешь все упражнения, все до единого! И, поддав Кристофу ногой под зад, он захлопнул за ним дверь.
Кристоф очутился на лестнице, на хорошо знакомой ему темной и грязной лестнице с подгнившими ступеньками. Сквозь разбитое стекло тянуло сквозняком; стены слезились от сырости. Кристоф присел на липкую ступеньку; сердце у него колотилось от гнева и пережитых волнений. Он вполголоса ругал отца:
– Скотина! Вот ты кто! Скотина… грубиян… изверг… Да, да, изверг!.. Ненавижу тебя! Ненавижу!.. Чтоб ты скорее умер! Ах! Чтоб ты скорее умер!..
Ему все сильнее теснило грудь. С тоской оглядел он замусоренную лестницу, паутину над разбитым стеклом, качавшуюся от сквозняка. Один, один, никому не нужный, один со своим горем, словно в пустыне… Он заглянул через перила в пролет лестницы… Броситься туда?.. Или в окно?.. Убить себя, им назло? Вот тогда они пожалеют! Глухой удар от паденья. Дверь наверху распахивается. Встревоженные голоса: «Упал! Упал!» Бегут по лестнице. Мать и отец приникают к его телу. Мама рыдает: «Это ты виноват! Ты его убил, ты!» А он, отец, бьет себя в грудь, падает на колени, колотится головой о перила, кричит: «Я негодяй! Я негодяй!» Кристофу стало легче, когда он все это вообразил. Он даже чуть было не пожалел своих скорбящих родителей, но потом решил: нет, так им и надо! Он упивался местью…
Но, кончив рассказывать себе эту драму, он опять увидел, что сидит в полутьме на лестнице. Заглянул еще раз вниз, и ему совсем не захотелось туда бросаться. Наоборот, по спине у него пробежал холодок, он отодвинулся подальше от края – вдруг упадешь! И тогда он окончательно понял, что он в плену: заперт, как птица в клетке, навсегда, без всякой надежды – и нет никакого выхода, кроме как разбить себе голову, а ведь это, наверно, очень больно! Он заплакал, и плакал долго. Слезы катились у него по лицу, он тер глаза грязными кулачками, так что в один миг весь перемазался. Но, хныча и всхлипывая, он все же поглядывал по сторонам, и то, что он видел, его невольно развлекало. На минуту его рыдания совсем утихли: паук шевельнулся в паутине, и Кристоф с любопытством следил за ним. Потом он опять принялся плакать, но уже не так безутешно. Он все еще ныл потихоньку, и сам прислушивался к этому тягучему звуку, забывая уже по временам, из-за чего, собственно, он плачет. Наконец он встал: его тянуло к окну. Он уселся на подоконник, как можно дальше от края, искоса поглядывая на паука, который очень его занимал, хотя и внушал ему отвращение.
Внизу у самого дома протекал Рейн. Если смотреть из окна, казалось, что висишь прямо над рекой, покачиваясь в небе. Кристоф всегда выглядывал в окно, когда вприпрыжку спускался по лестнице. Но никогда еще он не видел реку так, как сейчас. Горе обостряет восприятие, как будто слезы вымывают из глаз пыль воспоминаний, и все зримое предстает с невиданной яркостью. Кристоф увидел теперь реку, как живое существо – загадочное, но насколько же более могущественное, чем все люди, которых он знал! Он нагнулся, чтобы лучше видеть, прижался губами и носом к стеклу. Куда онаспешит? Зачем? Она неслась так свободно, как будто сама выбирала себе дорогу. Ничто ее не остановит. В любой час дня и ночи, тучи ли, солнце ли на небе, скорбь ли, веселье ли царит в доме, река течет мимо, вперед, вперед, не замедляя бега; ей дела нет до наших печалей, сама она не ведает горя, она наслаждается своей силой. Какое счастье быть как она, бежать среди лугов, под ветвями прибрежных ив, по блестящей гальке, по светлому песку и не знать забот, не ощущать над собой ничьей власти – быть свободным!..
Кристоф с жадностью смотрел и слушал: ему казалось, что река уводит его за собой, что он уже странствует где-то далеко вместе с нею… Закрывая глаза, он видел переливы красок – синие, зеленые, желтые, красные; огромные тени пробегали над ним, вокруг расстилалась сияющая гладь… Потом его видения стали более отчетливы. Вот широкая равнина, камыши, нивы, волнующиеся на ветру; оттуда веет запахом свежей травы и мяты. И цветы, всюду цветы – васильки, маки, фиалки. Какая красота! Какой чудный воздух! Как хорошо бы растянуться на мягкой густой траве… Кристофу весело, пожалуй он чуточку опьянел, как в праздники, когда отец давал ему отпить немножко рейнского вина из своего большого стакана… Но река течет дальше… И все кругом меняется… Теперь по берегам толпятся большие деревья, низко склоняя ветви; узорчатые листья, словно крохотные ладони, окунаются в воду, плещутся, трепещут, переворачиваются под волной… Укрытая в зелени деревушка смотрится в реку. Кипарисы и кресты над белой оградой кладбища, которую лижут волны… А дальше скалы, теснина среди гор, виноградники на склонах, сосновая рощица, развалины старинных замков… Потом опять луга, нивы, птицы, солнце…
Огромный поток катит свои зеленые воды – сплошной, единый, как единая мысль, без ряби, без морщинки, отливая атласным маслянистым блеском. Кристоф не видит его – он закрыл глаза, чтобы лучше слышать. Немолчный гул реки заполняет его слух; у него кружится голова, его зовет, его уносит извечная властительная греза, стремящаяся неведомо куда. Из плеска волн рождаются быстрые ритмы, они взвиваются вверх с пламенным весельем. И по этим ритмам, как виноградная лоза по решетке, поднимаются мелодии: серебристые арпеджии рояля, жалобное пение скрипок, круглые, бархатные звуки флейт… Горы и луга исчезли, река исчезла. Кругом разливается какой-то странный, нежный, сумеречный свет. Сердце у Кристофа трепещет от волнения. Что это перед ним? О, какие прелестные лица!.. Темнокудрая девочка манит его, томно и лукаво усмехаясь… Бледный голубоглазый юноша задумчиво смотрит на него… Еще улыбки, еще глаза – любопытные, вызывающие… Кристоф краснеет под их взглядом, – и добрые, печальные, как глаза собаки, и глаза, которые повелевают, и глаза, полные страданья… А эта женщина, без кровинки в лице, с черными как смоль волосами… Губы ее плотно сжаты, бездонные глаза впиваются в него с таким страстным вниманием, что от этого больно… Но вот та всех милее – та, с ясными серыми глазами, с полураскрытыми губками, меж которых белеют маленькие ровные зубы… Какая добрая, ласковая улыбка! От нее тает сердце. Как она радует, какое дарит счастье! Еще! Улыбнись еще! Не уходи!.. Исчезла! Но в душе остается какое-то неизъяснимое блаженство, как будто нет уже больше на свете зла, нет печалей, ничего нет… Только легкий сон, безмятежная музыка – она плывет в солнечном луче, как паутинка по ветру в погожие летние дни… Но что же это было? Чьи это лица, почему наполняют они Кристофа скорбным и сладким волнением? Он никогда их не видел, но они знакомы ему, он их узнает… Откуда же они возникли? Из каких темных бездн бытия? Из прошлого… или, может быть, из будущего?..
Но вот уже все тает… Стираются все ясные очертания. Еще раз сквозь пелену тумана, точно с огромной высоты, где ты паришь, как птица над землей, видна река в разливе, затопившая луга и поля, величавая, спокойная, почти неподвижная… А там, вдали, на горизонте, стальной блеск, водная ширь, гряда бегущих волн, – море! Река стремится к нему. Оно как будто бежит к ней. Оно зовет ее. Она покорствует зову. Сейчас они сольются… Музыка нарастает, как буря, стремительные, плясовые ритмы взлетают и кружатся, все сметено их победным вихрем… Освобожденная душа уносится сквозь пространство, как опьяневшая от солнца ласточка, врезающаяся в небо с пронзительным криком… О, радость! Радость! Ничего больше нет!.. О, нескончаемое счастье!..
Прошел не один час, наступил вечер, на лестнице стало совсем темно. Пролился дождь; от его капель по гладкой одежде реки разбегались колечки, и волны, танцуя, уносили их с собой. Бесшумно проплывали сломанные ветки и черные куски коры, увлекаемые течением. Паук вдоволь напился крови и уполз отдыхать в самый темный угол. А маленький Кристоф все еще лежал, склоня голову на край окна, с блаженной улыбкой на бледном, перепачканном личике. Он спал.
Пришлось покориться. Кристоф героически сопротивлялся, но побои сломили в конце концов его упорство. Теперь каждое утро и каждый вечер он по три часа кряду просиживал перед орудием пытки. Скривившись от напряжения, изнывая от скуки, он играл, и крупные слезы скатывались по его щекам и по носу; красные ручонки, окоченевшие от холода, – в комнате не всегда бывало тепло, – бегали по черным и белым клавишам; при каждой неверной ноте на пальцы Кристофа обрушивалась линейка, и над самым его ухом гремел зычный голос отца, что было для него еще мучительнее, чем удары. Он был убежден, что ненавидит музыку. Однако занимался он с таким рвением, которое нельзя было объяснить одним только страхом перед Мельхиором. Несколько слов, оброненных как-то дедушкой, глубоко запали ему в душу. Однажды, видя слезы Кристофа, старик сказал тем значительным тоном, какой всегда сохранял в разговорах с внуком: можно немного и пострадать ради того, чтобы овладеть прекраснейшим и благороднейшим из искусств, дарованных человеку для его утешения и для его славы. И Кристоф, всегда признательный дедушке за то, что тот говорил с ним, как со взрослым, втайне был тронут этим бесхитростным советом, так хорошо согласовавшимся с его ребяческим стоицизмом и нарождающимся честолюбием.
Но еще больше, чем все доводы рассудка, повлияли на него глубокие волнения, которые ему как раз об эту пору довелось пережить в связи с музыкой; они-то окончательно покорили его и сделали на всю жизнь рабом этого ненавистного искусства, против которого он тщетно пытался взбунтоваться.
В их городе, как почти во всех городах Германии, имелся театр, в котором ставились оперы, музыкальные комедии, оперетты, драмы, водевили, одним словом все, что можно поставить на сцене, во всех родах и жанрах. Представления происходили три раза в неделю, от шести до девяти часов вечера. Жан-Мишель не пропускал ни одного и ко всем проявлял одинаковый интерес. Однажды он взял внука с собой. Еще за несколько дней до спектакля он во всех подробностях рассказал Кристофу содержание пьесы. Кристоф мало что понял; он уловил только, что будут происходить какие-то ужасы, и хотя ему очень хотелось все это посмотреть, в душе он порядком трусил. Он знал, что будет гроза, и боялся, как бы и его не спалило молнией; знал, что будет сражение, и не был уверен, что и его не убьют. Накануне вечером, ложась в постель, он уже дрожал от страха, а утром в день спектакля готов был молить бога, чтобы дедушке что-нибудь помешало и он бы не пришел. Но, по мере того как приближался назначенный час, – а дедушка и правда не шел, – Кристоф стал все больше волноваться и поминутно выглядывать в окно. Наконец старик появился; они отправились. Сердце у Кристофа сильно билось, в горле так пересохло, что он не мог выговорить ни слова.
Они подошли к таинственному зданию, о котором так часто поминалось в разговорах домашних. У входа Жан-Мишель повстречал кого-то из знакомых, и Кристоф, судорожно цеплявшийся за дедушкину руку, чтобы, не дай бог, не потеряться, смотрел на них с изумлением: как это можно в такую минуту болтать о чем-то, да еще и смеяться?
Дедушка уселся на свое обычное место в первом ряду у самого оркестра и тотчас, опершись на балюстраду, затеял нескончаемый разговор с контрабасом. Тут он был в своей среде, тут его слушали со вниманием, уважая его многолетний музыкальный опыт, и старый Крафт этим пользовался, можно даже сказать – злоупотреблял. Кристоф ничего не слышал. Он был совершенно подавлен и собственным страхом в ожидании спектакля, и великолепием зала, который казался ему пределом роскоши, и многолюдством – эти сотни лиц повергали его в неистовое смущение. Он не смел повернуть голову: ему чудилось, что все смотрят на него; судорожно зажав между колен свой картузик, он не отрывал широко раскрытых глаз от волшебного занавеса.
Наконец прозвучали три удара. Дедушка высморкался, и достал из кармана либретто – он всегда так старательно следил за ходом действия по либретто, что забывал иной раз смотреть на сцену. Заиграл оркестр. При первых же аккордах Кристоф успокоился. В мире звуков он чувствовал себя, как дома, и с этой минуты, какие бы нелепости ни происходили на подмостках, ему уже все казалось естественным.
Поднялся занавес; за ним обнаружились картонные деревья и люди, тоже не слишком похожие на настоящих. Кристоф смотрел, разинув рот от восхищения, но ничто его не удивляло, хотя действие развертывалось в самой непривычной для него обстановке – на некоем фантастическом Востоке – и вся пьеса представляла собой такое сплетение несуразиц, что разобраться в ней было невозможно. У Кристофа сразу все перемешалось в голове: он путал действующих лиц, принимал одного за другого, дергал дедушку за рукав и задавал ему нелепые вопросы, из которых видно было, что он ничего не понял. Но он не скучал, наоборот, никогда еще ему не было так интересно. Не считаясь с идиотическим либретто, он сочинял собственную повесть, не имевшую ничего общего с тем, что совершалось на сцене; театральное действие на каждом шагу противоречило его фантазиям, приходилось все пересочинять, но это не смущало Кристофа. Он уже облюбовал кое-кого среди этих странных существ, расхаживавших по сцене, что-то выкрикивая на разные голоса, и теперь следил, трепеща от волнения, за судьбой тех, кому подарил свое сочувствие. Особенно пленила его босоногая красавица не первой молодости с длинными ярко-золотистыми косами и глазами непомерной величины. Чудовищное неправдоподобие постановки ему не мешало, хотя он и не мог его не видеть острым своим детским зрением. Он не замечал ни безобразия актеров – мужчины, как на подбор, все были долговязые и костлявые, а хористки, и маленькие и большие, выстроившиеся в две шеренги, поражали своим уродливым сложением, – ни косматых париков, ни неестественных жестов, ни красных от натуги лиц, ни высоких каблуков тенора, ни примитивного грима его партнерши-примадонны, у которой все лицо было исчерчено разноцветными гримировальными карандашами, словно покрыто татуировкой. Кристоф был как влюбленный, которому страсть не позволяет видеть любимый предмет таким, каков он есть в действительности. Чудесная власть иллюзии – этот счастливый дар детства – преображала безобразные впечатления, прежде чем допустить их в душу.
Музыка творила все эти чудеса. Она окружала все туманным ореолом – и все становилось прекрасным, благородным и желанным. Она будила в сердце страстную жажду любви, и она же утоляла эту жажду возникавшими отовсюду призраками любви, – создавала пустоту и сама помогала ее заполнить. Кристоф совсем растерялся от нахлынувших на него чувств. Иные слова, жесты, музыкальные фразы вызывали в нем трепет; он не смел поднять глаза, он уже не знал, хорошо это или дурно, он то краснел, то бледнел, капли пота выступали у него на лбу, и больше всего он боялся, как бы все эти собравшиеся в зале люди не заметили его волнения. Когда разразились неизбежные катастрофы, постигающие любовников в четвертом акте оперы, дабы дать случай тенору и примадонне пустить свои самые пронзительные рулады, Кристоф почувствовал, что задыхается; горло у него болело, как от простуды, он держался руками за шею и не мог проглотить слюну, глаза его переполнились слезами, руки и ноги стали холодными, как лед. К счастью, дедушка был не менее потрясен. Он переживал все происходящее на сцене с непосредственностью ребенка. В самых драматических местах он покашливал с напускным равнодушием, но Кристоф отлично видел, что дедушка тоже волнуется, и это его радовало. В зале была нестерпимая жара, Кристоф чуть не падал от усталости, и сидеть ему было очень жестко. Но он думал только о том, много ли еще осталось. «Ах, если бы подольше, ах, только бы еще не конец!..»
И вдруг все кончилось, неизвестно почему. Занавес упал, все начали вставать с мест, очарование развеялось.
Они возвращались по темным улицам – двое детей, старый и малый. Какая чудная была ночь! Как ярко светила луна! Оба молчали, припоминая про себя все увиденное за этот вечер. Наконец дедушка спросил:
– Ну что, малыш, понравилось тебе?
Кристоф не мог даже ответить; он еще не опомнился от пережитых волнений, и ему не хотелось говорить, чтобы не спугнуть свои грезы; наконец, сделав над собой усилие, он пробормотал чуть слышно, с глубоким вздохом:
– Ах! Очень!
Старик улыбнулся. Немного погодя он опять заговорил:
– Видишь теперь, какое это замечательное занятие – быть музыкантом? Создавать живые образы, чудесные зрелища, – какой славный удел для человека! Ведь это все равно что быть богом на земле!
Слова дедушки поразили Кристофа. Как! Все это было создано каким-то одним человеком? Такая мысль даже не приходила ему в голову. Ему казалось, что все это создалось само собой: сотворила природа… А оказывается – человек, музыкант, каким и Кристоф когда-нибудь будет! Господи! Стать таким хоть на один день, на один только день!.. А потом – потом уже все равно! Хоть умереть. Он спросил:
– Дедушка! А кто же это написал?
Старик стал рассказывать ему о Франце Марии Гаслере, молодом немецком композиторе, который теперь жил в Берлине и которого дедушка когда-то знал. Кристоф слушал, ловя каждое слово. Вдруг он сказал:
– А ты, дедушка?
Старика передернуло.
– Что я? – спросил он.
– А ты? Ты тоже писал такие вещи?
– Ну, а как же! Писал, конечно, – сердито буркнул старик.
И замолчал, а пройдя еще несколько шагов, тяжело вздохнул. Это была заноза в его сердце – ему всю жизнь хотелось писать для театра, и всю жизнь вдохновение изменяло ему. В папках Жан-Мишеля хранились наброски одного или двух актов задуманной им оперы, но он не обманывался насчет ее достоинств и даже ни разу не решился показать кому-нибудь свои труды.
Больше они за всю дорогу не проронили ни слова. И оба не спали в эту ночь. Старик был расстроен и обратился за утешением к своей Библии. Кристоф в постели заново переживал все события вечера: он припоминал мельчайшие подробности; босоногая дева снова и снова проходила перед ним. Когда он уже совсем было засыпал, в ушах у него вдруг опять начинала звучать какая-нибудь музыкальная фраза – так отчетливо, словно оркестр был тут же, в комнате. Кристоф вздрагивал всем телом, поднимал с подушки одурманенную мелодиями голову и восклицал про себя: «Когда-нибудь и я так напишу! Боже мой! Неужели я смогу?»

«Жан-Кристоф». Книга первая.
С этого дня им владело одно желание – еще раз побывать в театре, и он стал учиться с невероятным усердием, тем более что отец объявил: пускать его в театр будут только в награду за успехи. Театр поглощал все мысли Кристофа: первую половину недели он жил воспоминаниями о прошлом спектакле, вторую – ожиданием будущего. Больше всего он боялся захворать в день представления, и этот страх нередко вызывал в нем симптомы сразу двух или трех болезней. А в самый день спектакля он уже ничего не мог есть за обедом, скитался по дому, как неприкаянный, поминутно смотрел на часы и приходил в отчаяние оттого, что вечер все не наступает; наконец, не в силах больше терпеть, он за добрый час до начала бежал в театр; по дороге он терзался страхом, что не найдет свободного места, а когда он наконец входил первым в совершенно пустой зал, начинались новые тревоги. Дедушка как-то сказал ему, что бывали случаи, когда публика не собиралась, и актеры решали лучше вернуть деньги, чем играть перед горсточкой зрителей. И Кристоф напряженно следил за приходящими и пересчитывал их: «Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять… Ой, как мало!.. Да когда же они соберутся!» Но тут в ложах или в партере появлялся какой-нибудь известный в городе человек, и у Кристофа становилось немножко легче на сердце. Он думал: «Ну, этого они не посмеют отослать домой! Для него-то уж они будут играть!» Но успокаивался он, только когда оркестранты рассаживались по местам. И то еще его мучили сомнения: вдруг в последнюю минуту перед поднятием занавеса объявят о перемене спектакля – так один раз уже было. Своими острыми, как у рыси, глазами он старался прочитать заглавие на партитуре контрабаса – то ли оно, что значилось в программе? А прочитав и убедившись, что то самое, он через две минуты опять проверял – вдруг да он ошибся! И почему до сих пор нет дирижера? Господи, неужели захворал?.. За занавесом слышался какой-то шум – поспешные шаги, голоса… Ну вот, что-то случилось, какое-то несчастье, неожиданная помеха!.. Наконец водворялась тишина. Дирижер стоит за пультом. Все как будто готово… А почему-то не начинают! Да в чем же дело?.. Кристоф весь кипел от нетерпения. Наконец – наконец-то! – раздавался сигнал к началу. У Кристофа екало сердце. Оркестр играл вступление, и затем, несколько часов подряд, Кристоф утопал в блаженстве, отравляемом лишь мыслью о том, что скоро оно кончится.
Через некоторое время произошло событие, еще больше взбудоражившее мысли Кристофа. Стало известно, что в город приезжает Франц Мария Гаслер, автор той первой оперы, которая так потрясла мальчика, и будет дирижировать концертом из своих произведений. Весь город пришел в волнение. Творчество молодого композитора вызывало в Германии яростные споры, и уже за две недели до его приезда в городе только о нем и говорили. А что началось, когда он приехал! К Мельхиору то и дело забегали знакомые музыканты, собственные его приятели или старые друзья Жан-Мишеля, и приносили последние новости; они рассказывали всякие чудеса о привычках знаменитого композитора и его странностях. Кристоф с жадным вниманием прислушивался к этим разговорам. Мысль, что великий человек находится здесь, в городе, что он дышит тем же воздухом и ходит по тем же тротуарам, повергала Кристофа в немой восторг. Мальчик жил теперь единственной надеждой его увидеть.
Гаслер остановился во дворце – герцог предложил ему свое гостеприимство – и никуда не выходил, кроме как в театр на репетиции, а туда Кристоф не имел доступа. У него, стало быть, очень мало было шансов на осуществление своей мечты, тем более что Гаслер был небольшой любитель моциона и обычно совершал свой путь туда и обратно в герцогской карете. Один только раз удалось Кристофу различить в глубине экипажа закутанную в меха фигуру, хотя он часами простаивал на улице в толпе зевак, работая локтями и коленями, чтобы сперва завоевать, а потом удержать место в первом ряду. Оставалось по целым дням глазеть на те два окна в герцогском дворце, за которыми, как ему сказали, скрывался маэстро. Чаще всего Кристоф видел одни только ставни, ибо Гаслер вставал поздно и окна у него не открывались почти до полудня. Это давало повод разным всезнайкам утверждать, что Гаслер не выносит дневного света и даже днем старается создать вокруг себя ночь.
Наконец Кристофу дано было лицезреть своего героя. Наступил день концерта. Весь город собрался в театр. Герцог и его свита заняли придворную ложу, увенчанную короной, которую поддерживали два парящих в воздухе толстощеких и толстоногих амура. Театр имел праздничный вид. Сцена была убрана дубовыми листьями и цветущим лавром. Все сколько-нибудь известные в городе музыканты сочли своим долгом играть на этот раз в оркестре. Мельхиор сидел за своим пюпитром, Жан-Мишель дирижировал хором.
Когда появился Гаслер, его встретил гром рукоплесканий; дамы вставали, чтобы лучше его рассмотреть. Кристоф пожирал его взглядом. У Гаслера было тонкое молодое лицо, но уже слегка опухшее и утомленное; он начинал лысеть с висков, да и на макушке среди кудрявых светлых волос тоже, просвечивала небольшая преждевременная плешинка. Голубые глаза смотрели куда-то вдаль. Насмешливый рот под короткими светлыми усиками все время чуть заметно подергивался. Он был высокого роста, но держался неловко, не от застенчивости, а скорее от усталости или скуки. Дирижировал он как бы всем своим гибким, развинченным телом, делая то вкрадчивые, то неожиданно резкие движения, словно извивался весь, – точь-в-точь как и его музыка. Видно было, что это не человек, а комок нервов, и его музыка была точным его подобием. Эта порывистая, трепетная жизнь расшевелила всех – даже обычно вялых и равнодушных оркестрантов. Кристоф с трудом переводил дыхание; несмотря на всегдашнюю свою боязнь привлечь к себе чьи-нибудь взгляды, он не мог усидеть на месте – ерзал, привставал; эта музыка словно толкала его в сердце – так сильно и так неожиданно, что временами он просто не мог не двигать головой, руками, ногами – к великому неудобству соседей, которые защищались, как могли, от его неистовой жестикуляции. Впрочем, и вся публика выражала восторг, покоренная не столько достоинствами музыки, сколько славой музыканта. Под конец разразилась настоящая буря оваций, а трубы оркестра, по немецкому обычаю, присоединили к ней еще и свои торжествующие фанфары, приветствуя победителя. Кристоф трепетал от гордости, словно все эти почести воздавались ему самому. Он возликовал, увидев, что лицо Гаслера озарилось детской радостью. Дамы кидали ему цветы, мужчины махали шляпами; потом все устремились к рампе, каждый хотел пожать руку маэстро. Кристоф видел, как одна восторженная поклонница поднесла эту руку к губам, другая похитила носовой платок, забытый Гаслером на пульте. Кристоф тоже старался пробиться к сцене, сам не зная зачем, ибо, очутись он в этот миг перед Гаслером, он тотчас бы убежал, подавленный волнением и страхом. А все-таки он рвался вперед, тараня головой стену из ног и юбок, отделявшую его от Гаслера. Но он был слишком мал и так и не пробился.
К счастью, после концерта за ним пришел дедушка; музыканты надумали исполнить серенаду в честь Гаслера, и Жан-Мишель решил взять внука с собой. Было уже темно; участники несли зажженные факелы. Собрались все оркестранты, и разговоры шли только об услышанном в этот вечер шедевре. Подойдя к дворцу, музыканты, стараясь не шуметь, расположились под окнами. Они напускали на себя таинственность, хотя всем в городе, и Гаслеру в том числе, заранее было известно, что затевается. Затем в прекрасной ночной тишине они сыграли несколько самых известных отрывков из произведений Гаслера. В окне показался сам композитор рядом с герцогом, и музыканты громкими криками приветствовали обоих. На площадь вышел слуга и от имени герцога пригласил всех во дворец. Они прошли через анфиладу залов, расписанных фресками, на которых изображены были голые мужчины в касках; тело у этих воинов было красноватого цвета, они делали угрожающие жесты, а в небе над ними плавали пухлые облака, похожие на губки. Еще в этих залах стояли по углам мраморные мужчины и женщины в набедренных повязках из жести. Полы повсюду были устланы толстыми мягкими коврами, заглушавшими шаги. Под конец все вошли в зал, где было светло, как днем, и столы были уставлены винами и разными удивительными кушаньями.
Герцог тоже был тут, но Кристоф его даже не заметил – он никого не видел, кроме Гаслера. Гаслер подошел к музыкантам, поблагодарил их; он запинался, не сразу находил слова, совсем запутался в какой-то фразе и закончил ее грубоватой шуткой, которая вызвала общий смех. Потом все принялись за угощение. Гаслер беседовал с четырьмя или пятью музыкантами, которых выделил из остальных; дедушка был в их числе. Ему Гаслер сказал несколько очень лестных слов, припомнил, что Жан-Мишель одним из первых стал исполнять его произведения, и добавил, что часто слышал весьма хвалебные отзывы о господине Крафте от своего друга, который некогда был дедушкиным учеником. Дедушка рассыпался в изъявлениях благодарности; он отвечал Гаслеру такими непомерными похвалами, что Кристофу, несмотря на все его преклонение перед великим композитором, стало стыдно. Но Гаслер, по-видимому, находил все это естественным и приятным. Под конец дедушка, окончательно увязнув в своих витиеватых комплиментах, потянул за руку Кристофа и представил его Гаслеру. Тот улыбнулся мальчику, рассеянно погладил его по голове; узнав же, что Кристоф поклонник его музыки и так мечтал его увидеть, что даже не спал несколько ночей, он посадил мальчика к себе на колени и стал ласково его расспрашивать. Кристоф был ошеломлен таким счастьем; весь раскрасневшись, он потупил глаза и не мог вымолвить ни слова. Гаслер взял его за подбородок, заставил поднять голову. Кристоф решился взглянуть – и увидел перед собой такие добрые, смеющиеся глаза, что и сам засмеялся. И тогда его охватила такая радость, ему так хорошо стало в объятиях своего кумира, что он заплакал. Гаслера тронула эта простодушная любовь, он поцеловал Кристофа и стал утешать его с материнской нежностью, тут же подшучивая над ним, говоря ему всякие забавные словечки, щекоча его, чтобы рассмешить, и Кристоф невольно хохотал сквозь слезы. Вскоре он совсем освоился и уже без стеснения отвечал на вопросы; он даже сам стал поверять на ухо Гаслеру все свои маленькие тайны и мечты: он признался, что хочет быть музыкантом, как Гаслер, писать такие же чудесные вещи, как Гаслер, стать великим человеком. Куда девалась всегдашняя его застенчивость: он говорил, не думая, он был в каком-то экстазе. Гаслер смеялся его лепету. Он сказал:
– Когда вырастешь большой и выучишься музыке, приезжай ко мне в Берлин. Я сделаю из тебя человека.
Кристоф онемел от восторга. Гаслер поддразнил его:
– Не хочешь?
Кристоф яростно закивал головой – он кивнул, наверно, раз пять или шесть подряд. Конечно, он хочет!
– Значит, договорились?
Опять кивки.
– Ну, давай поцелуемся, что ли!
Кристоф обнял его за шею и сжал изо всех сил.
– Фу, ты меня всего измазал! Будет уже! Довольно! Да ты бы хоть высморкался!








