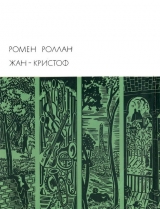
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 57 страниц)
Он заметил, однако, что французская публика иного мнения и рукоплещет весьма громко. Но вряд ли это могло рассеять недоразумение: Кристоф смотрел теперь на трагедии Корнеля и Расина сквозь призму публики и узнавал в современных французах иные черты классиков, только в искаженном виде. Так проницательный взгляд улавливает в увядшем лице старой кокетки прелестные черты ее дочери, зрелище, мало способствующее возникновению любовной иллюзии!.. Подобно членам одной семьи, привыкшим часто видеть друг друга, французы не замечали сходства. Но Кристоф был им поражен и даже преувеличивал его: только это сходство он и видел. Современное искусство представлялось ему карикатурой на великих предков, и великие предки, в свою очередь, представлялись в карикатурном виде. Он не отличал уже Корнеля от множества его потомков – поэтов-риторов, помешанных на том, чтобы создавать повсюду возвышенные и нелепые конфликты чувства и долга. А Расин сливался со своими правнуками – мелкотравчатыми парижскими психологами, многозначительно копающимися в собственных сердцах.
Все эти великовозрастные школьники не видели ничего за пределами своих классиков. Критики продолжали без конца спорить о «Тартюфе» и «Федре». И никогда не уставали. Уже стариками они продолжали упиваться все теми же шутками, от которых приходили в восторг еще детьми. И так будет, пока существует эта нация. Ни в одной стране мира культ прадедов и прапрадедов не пустил таких глубоких корней, как во Франции. Остальной мир их не интересовал. Сколько французов ничего не читало и ничего не желало читать, кроме того, что было написано во Франции при Великом короле! В театрах не ставили ни Гете, ни Шиллера, ни Клейста, ни Грильпарцера, ни Геббеля, ни Стриндберга, ни Лопе де Вега, ни Кальдерона, ни вообще кого-либо из великих писателей других стран, за исключением античной Греции, наследниками коей они себя величали (как и прочие народы Европы). Время от времени их начинало тянуть к Шекспиру. Для проверки у них было две школы толкователей: одни играли «Короля Лира» в духе буржуазного реализма, как комедию Эмиля Ожье; другие обращали «Гамлета» в оперу с бравурными ариями и фиоритурами в манере Виктора Гюго. Им и в голову не приходило, что действительность может быть поэтической, а поэзия – естественным языком сердца, до краев переполненного жизнью. Но Шекспир казался им фальшивым. И тогда они быстро возвращались к Ростану.
Однако за последние двадцать лет были сделаны попытки обновить театр; тесный круг парижской литературы расширился; с притворной смелостью она стала касаться любых вопросов. И даже раза два-три бурные схватки на площади одним ударом разрывали завесу условностей. Но кое-кто тут же спешил залатать прорехи. Существуют же на свете слабонервные отцы, предпочитающие не видеть вещи такими, каковы они есть. Дух светскости, классическая традиция, рутина мысли и формы, отсутствие глубины и серьезности удерживали их в смелых порывах на полдороге. Самые острые проблемы превращались в затейливую игру ума; и все в конце концов сводилось к вопросу о женщинах – наших милых женщинах. Ах, какой печальный вид приобретали на французских подмостках призраки великих творений – героической анархии Ибсена, евангелия Толстого, сверхчеловека Ницше!..
Парижские писатели из кожи лезли вон, лишь бы походить на людей, произносящих новое слово. В сущности же все они были консерваторами. Не было в Европе другой литературы, где бы так безраздельно царило прошлое, «вечное вчера», в толстых журналах, в больших газетах, в субсидируемых театрах, в академиях. Париж играл в литературе ту же роль, что Лондон в политике: роль сдерживающей узды для европейской мысли.
Французская Академия стала некоей палатой лордов. Дух учреждений, созданных еще при старом режиме, продолжал навязывать свои устарелые нормы новому обществу. Революционные элементы отбрасывались или быстро приручались, к великому своему удовольствию. Даже когда правительство делало в политике социалистические жесты, в искусстве оно шло на поводу у академических школ. Против академий боролись только кружки, и боролись плохо. Ибо каждый из членов кружка ждал лишь случая пробраться в Академию – и тогда уж старался перещеголять любого академика. Впрочем, шел ли писатель в авангарде или плелся в обозе, он всегда был пленником своей группы и идей своей группы. Одни замыкались в своем академическом credo, другие – в credo революционном; а в конечном итоге и то и другое – шоры.
Чтобы отвлечь Кристофа, Сильвен Кон предложил свести его в театры особого жанра – последнее слово парижской утонченности. Там показывались убийства, изнасилование, разные виды безумия, пытки, выколотые глаза, вспоротые животы, – короче, все то, что могло дать встряску нервам и удовлетворить скрытые варварские инстинкты ультрацивилизованной верхушки общества. Такие спектакли являлись приманкой для хорошеньких женщин и светских хлыщей, тех самых, что стойко высиживали часами в душных залах Дворца правосудия и слушали скандальные процессы, болтая, смеясь и поедая конфеты. Но Кристоф с негодованием отказался. Чем больше он знакомился с французским искусством, тем отчетливее ощущал запах, поразивший его с первых же шагов, сначала вкрадчивый, потом упорный, удушливый: запах смерти.
Смерть – она таилась повсюду, под всей этой роскошью, за всей этой шумихой. Кристофу стало теперь понятно, почему он сразу же проникся таким отвращением к некоторым из здешних шедевров. Не безнравственность отталкивала его. Нравственность, безнравственность, аморальность – что это значит? Кристоф никогда не изобретал себе нравственных теорий; он любил великих поэтов и великих музыкантов прошлого, которые отнюдь не были святошами; встречаясь с большим художником, он не спрашивал у него свидетельства об исповеди; скорее он мысленно вопрошал:
«Здоров ли ты?»
Здоровье – в этом все дело. «Если поэт болен, пусть подлечится, – говорит Гете. – А когда вылечится, будет писать».
Парижские писатели были больны; если же среди них попадался здоровый, он стыдился своего здоровья, скрывал его и старался приобрести какую-нибудь болезнь посерьезней. Болезнь их выражалась не в той или иной черте их искусства – в любви к наслаждению, в крайней вольности мысли, в склонности к разрушительной критике. Все эти черты могут быть – и бывали, смотря по обстоятельствам, – и здоровыми и нездоровыми; в них не заключалось зародыша смерти. Если во французском искусстве присутствовала смерть, то таилась она не в этих склонностях, а в самих людях, в том, как они любили, разрушали, критиковали. И Кристоф тоже любил наслаждение, любил свободу. Он восстановил против себя общественное мнение родного городка, открыто защищая те самые идеи, которые он слышал теперь из уст многих парижан, но в их устах эти идеи возмущали его. А ведь идеи были те же. Но только звучали они иначе. Когда Кристоф нетерпеливо сбрасывал иго великих мастеров прошлого, когда он шел войной на ханжескую эстетику и мораль, для него это не было игрой, как для здешних вольнодумцев, а серьезным, по-настоящему серьезным делом; и бунт свой он поднял во имя жизни, жизни плодотворной, чреватой грядущими веками. А тут все сводилось к бесплодному наслаждению. Бесплодному. Бесплодие. В этом и заключалась разгадка. Бесплодный разврат ума и чувств. Великолепное, блиставшее остроумием и талантом искусство и, конечно, красивая форма, традиция красоты, сохранявшаяся нерушимой, несмотря на все чужеземные наслоения, – театр здесь был настоящим театром, стиль – стилем, драматурги знали свое ремесло, писатели умели писать, – словом, довольно красивый скелет искусства и мыслей, в прошлом доказавших свою мощь. Но только скелет. Звонкие слова, бряцание фраз, металлическое позвякивание идей, сталкивающихся в пустоте, игра ума, чувственный рассудок и рассудочные чувства. Все это служило лишь для эгоистического наслаждения. Все клонилось к смерти. Явление, подобное грозному уменьшению населения Франции, которое Европа безмолвно наблюдала и принимала к сведению. Столько ума и тонкости, столько чувств растрачивалось в постыдном духовном онанизме! А сами они этого не замечали. Они смеялись. И только их смех успокаивал Кристофа: раз эти люди еще умеют смеяться, значит, не все потеряно. Они нравились ему гораздо меньше, когда напускали на себя серьезность; и ничто его так не оскорбляло, как попытки писателей, видевших в искусстве только орудие наслаждения, выдавать себя за жрецов какой-то бескорыстной религии.
– Мы художники, – самодовольно повторял Сильвен Кон. – Мы творим искусство для искусства. Искусство всегда чисто; в нем все целомудренно. Мы исследуем жизнь как туристы, которым все служит развлечением. Мы гурманы редкостных наслаждений, вечные донжуаны, влюбленные в красоту.
– Вы лицемеры, – резко обрывал его Кристоф. – Простите, что я вам так говорю. Я считал до сих пор, что лицемерна только моя страна. В Германии мы лицемерно твердим об идеализме, преследуя лишь собственные выгоды: мы воображаем себя идеалистами, а думаем только о себе. Но вы гораздо хуже: вы прикрываете словами «Искусство» и «Красота» (с большой буквы) свое французское сластолюбие или же говорите об Истине, Науке, умственном Долге, а сами, как Пилат, умываете руки и не желаете знать, к каким последствиям приведут ваши возвышенные искания. Искусство для искусства?.. Великолепная вера! Но вера только для сильных. Искусство? Схватить жизнь, как орел хватает свою добычу, и, унесши ее ввысь, воспарить с нею в прозрачно-ясных просторах… Для этого требуются когти, широкие крылья и могучее сердце. Но вы – вы только воробьи, которые, найдя кусочек падали, тут же его кромсают и с писком вырывают друг у друга. Искусство для искусства?.. Несчастные! Разве искусство – негодная пажить, предоставленная нищим бродягам? Конечно, оно наслаждение, и самое упоительное. Но покупается оно ценой ожесточенной борьбы, и лавры его венчают победу силы. Искусство есть укрощенная жизнь. Властитель жизни. Кто хочет быть Цезарем, должен иметь душу Цезаря. Вы же только театральные короли: для вас это роль, которую вы играете, сами в нее не веря. Есть такие актеры, которые прославляются благодаря своему уродству, а вы пытаетесь превратить ваши уродства в литературу. Вы любовно лелеете недуги своего народа, его страх перед любым усилием, его любовь к наслаждению, чувственную философию, иллюзорный гуманизм – все, что изнеживает и расслабляет волю и отнимает у нее все стимулы для действия. Вы ведете его прямо в курильни опиума. И вы сами хорошо это знаете, но вы остерегаетесь сказать: там тебя ждет смерть. Ну, а я утверждаю: где смерть, там нет искусства. Искусство – живительная сила. Самые честные из ваших писателей настолько малодушны, что даже когда повязка спадает с их глаз, они притворяются, будто ничего не видят. У них хватает бесстыдства говорить: «Это опасно, согласен, тут есть яд, но это так талантливо». Все равно, как если бы в уголовном суде судья сказал о бандите: «Да, конечно, он негодяй, но он так талантлив!..»
Кристоф недоумевал: чем-то все-таки занята французская критика. Не то чтобы критиков было мало, искусство кишело ими. Но сквозь это кишение уже не видно было самих произведений.
Кристоф вообще не питал особенно нежных чувств к критике. Он даже не склонен был признавать полезным такое обилие художников, составляющих как бы четвертое или пятое сословие в современном обществе: он видел в этом примету эпохи, которая, устав, поручает другим заботу наблюдать жизнь, уполномочивает других чувствовать за себя. Тем более постыдной считал он неспособность смотреть собственными глазами даже на отражение жизни, потребность обзаводиться еще и посредниками, создавать отражения отражений, – словом, иметь критиков. Если бы еще эти отражения были верными! Но они отражали лишь переменчивые настроения окружающей толпы. Совсем как те зеркальные стекла в музеях, где отражаются вместе с расписным потолком лица любопытных, пытающихся его рассмотреть.

Было время, когда эти критики пользовались во Франции неограниченным авторитетом. Публика преклонялась перед их приговорами; она почти готова была ставить их выше самих художников, как художников умных (два эти слова в ее глазах, по-видимому, не сочетались). Потом критики невероятно расплодились, авгуров {120} стало слишком много – в ущерб ремеслу. Когда из такого множества людей каждый утверждает, что он единственный обладатель единой истины, никому из них нельзя верить; в конце концов они сами перестают себе верить. Пришло разочарование, и, по свойственной французам привычке, они сразу ударились в противоположную крайность. Только что они уверяли, что знают все, а теперь стали уверять, что ничего не знают. И они гордились этим, даже щеголяли. Ренан {121} внушил этому мягкотелому поколению, что всего изящнее, утверждая что-то, сейчас же опровергнуть это или, по крайней мере, подвергнуть сомнению. Он был из тех, о ком апостол Павел говорил: «У них всегда «да, да», потом же «нет, нет». Вся французская аристократия духа восторгалась этим символом двоедушной веры. В нем проявились ленивый ум и слабый характер. О художественном произведении больше не говорили, что оно хорошее или плохое, правдивое или лживое, умное или глупое. Говорили:
– Может быть… Нет ничего невозможного… Не знаю… Умываю руки…
Если в театре ставилась какая-нибудь гадость, они не говорили:
– Это гадость.
А говорили:
– Синьор Сганарель, оставьте, пожалуйста, эту манеру выражаться. Наша философия предписывает обо всем говорить с неуверенностью; посему вы не должны говорить: «Это гадость», – а говорить: «Мне кажется… Мне представляется, что это гадость… Но я не уверен в этом. Возможно, что это шедевр. И почем знать, может быть, и на самом деле это шедевр».
Уж этих-то критиков никак нельзя было обвинить в тираническом отношении к искусствам. Когда-то Шиллер преподал им урок, напомнив маленьким тиранам прессы своего времени, в чем состоит, как он грубовато выразился «обязанность слуг»:
«Дом, куда явится королева, прежде всего должен быть чист. Живее! Подметайте комнаты. Для этого вас и позвали сюда, господа.
Но едва Она явилась, прочь за дверь, лакеи! Не подобает служанке разваливаться в кресле госпожи!»
Надо отдать справедливость современным критикам. Они больше не садились в господское кресло. Было выражено желание, чтобы они стали слугами, и они стали слугами. Но нерадивыми слугами: они не подметали совсем, и комната приобрела запущенный вид. Они и не думали наводить порядок и чистоту, а сидели сложа руки, возложив всю работу на хозяина, на очередного тогда кумира – Всеобщее голосование.
Правда, с некоторых пор началась реакция против анархической дряблости. Несколько более энергичных умов предприняли кампанию – еще очень робкую – за оздоровление общества; но Кристоф не видел, чтобы в их собственной среде что-нибудь изменилось. К тому же этих людей не слушали или же над ними насмехались. Если по временам случалось, что какой-нибудь сильный художник поднимал бунт против искусства, авторы высокомерно отвечали, что правы они, ибо публика довольна. И этого бывало достаточно, чтобы заткнуть рот всякому, кто возражал. Публика высказала свое мнение, а мнение публики – высший закон в искусстве! Однако следовало подумать о том, что мнение развращенной публики, высказывающейся в пользу своих развратителей, может быть отвергнуто и что не публике подобает руководить художником, а художнику публикой. Религия Числа – числа зрителей и цифры сборов – властвовала над художественной мыслью этой торгашеской демократии. Вслед за авторами и критики послушно провозглашали, что главное назначение художественного произведения – нравиться. Успех – закон; и когда успех длителен, остается только преклониться перед ним. И они старались предугадать колебания на бирже наслаждения, прочесть в глазах публики, что она думает о том или ином произведении. Забавно, что и публика, со своей стороны, старалась прочесть в глазах критиков, что следует думать о том или ином произведении. Так обе стороны переглядывались и читали в глазах друг друга только собственную неспособность решить что-либо.
Однако именно сейчас назрела потребность в бесстрашной критике. В анархической республике всемогущая мода редко обращается вспять, как то бывает в консервативных странах: она неизменно движется; в результате постоянно создается видимость лжесвободы духа, против которой почти никто не решается выступить. Толпа не способна высказаться; в глубине души она неспокойна, но никто не осмеливается сказать то, что втайне чувствует. Будь критики людьми мужественными, найди они в себе смелость быть сильными, какой бы они обладали властью! Здоровый и сильный критик (думал Кристоф, наш юный деспот) мог бы в несколько лет сделаться Наполеоном общественного вкуса и загнать в сумасшедший дом все психозы искусства. Но у вас нет больше Наполеона… Все ваши критики, во-первых, живут в отравленном воздухе и перестали это замечать. Во-вторых, ни у кого из них не хватает смелости говорить. Все они знакомы между собой: составляют одну компанию и обязаны ладить друг с другом; среди них нет ни одного независимого. Чтобы стать таковым, пришлось бы пожертвовать светским обществом и даже дружескими связями. У кого же хватит на это мужества в эпоху безволия, когда даже лучшие не уверены, окупает ли правильность откровенной критики те неприятности, которые она может причинить? Кто согласится, из чувства долга, превратить свою жизнь в ад? Кто решится пренебречь общественным мнением, бороться с людским тупоумием, разоблачать посредственность очередных героев дня, защищать безвестных и одиноких художников, отданных на растерзание зверям, кто решится внушать умам, могущим только повиноваться, уважение к властительным умам? Кристофу приходилось слышать, как критики говорили на премьере, где-нибудь в фойе театра:
– Фу, как скверно! Да это же провал!
А на другой день в своих рецензиях толковали о шедевре, о новом Шекспире, о дуновении гения, пронесшемся по зрительному залу.
– Талантами ваше искусство не обижено, – говорил Кристоф Сильвену Кону, – но ему не хватает характеров. Вам бы большого критика, какого-нибудь Лессинга, какого-нибудь…
– Буало {122} ? – насмешливо подсказал Сильвен Кон.
– Да, пожалуй. И один Буало вам нужнее, чем десять талантливых художников.
– Если бы у нас был Буало, – отвечал Сильвен Кон, – егоне стали бы слушать.
– Если бы его не стали слушать, это значило бы, что он не Буало, – возразил Кристоф. – Да что Буало! Если бы даже я, грешный, сумел когда-нибудь сказать вам в лицо всю правду, без прикрас, вам пришлось бы все выслушать и проглотить волей-неволей.
– Бедняга! – хихикнул Сильвен Кон.
У него был такой уверенный вид, и, казалось, он так был доволен всеобщей дряблостью, что Кристоф, глядя на своего собеседника, вдруг почувствовал: человек этот в сто раз более чужой во Франции, чем он, иностранец.
– Нет, не может этого быть, – снова сказал Кристоф, как в тот вечер, когда с отвращением выходил из театра на Бульварах. – Есть еще другое.
– А что вам нужно еще? – спросил Кон.
Кристоф упрямо повторил:
– Франция.
– Франция – это мы, – отвечал, прыснув, Сильвен Кон.
Кристоф с минуту пристально смотрел на него, потом тряхнул головой и повторил свое:
– Есть еще другое.
– Ну что ж, ищите, милый, – сказал Сильвен Кон и захохотал во все горло.
Искать Кристофу пришлось долго. Они основательно запрятали это другое.
Одно впечатление все сильнее овладевало Кристофом, по мере того как он пристальнее приглядывался к тем идеям, которые служили бродилом для парижского искусства: женщина властвовала над этим космополитическим обществом. Она занимала в нем несоразмерно большое место. Она уже не довольствовалась ролью подруги мужчины. Она навязывала мужчине как верховный закон свое стремление наслаждаться. И мужчина соглашался. Когда народ старится, он вручает свою волю, свою веру, самое свое существование той, что расточает наслаждение. Мужчины создают искусство, зато женщины создают мужчин (если только сами не берутся за создание произведений искусства, как это имело место в тогдашней Франции); вернее, не создают, а предают их. Разумеется, вечно женственное всегда являлось возвышающим началом для лучших из мужчин; но для обыкновенных людей и для упадочных эпох есть, как кто-то сказал, женственное начало иного порядка – оно тоже вечно, но оно тянет их вниз. Это-то женственное начало и было властителем дум, самодержавной властью Республики.
Кристоф с любопытством наблюдал парижанок в некоторых салонах, благо туда ему открыли доступ рекомендации Сильвена Кона и собственный талант виртуоза. Подобно большинству иностранцев, он безжалостно распространял на всех француженок те суждения, которые возникли у него на основании встреч с двумя или тремя типами парижанок, – обычно это были молодые женщины, невысокого роста, уже чуть-чуть потрепанные, с гибкой талией, с крашеными волосами, миловидные, в большой шляпе на немного крупной для туловища голове; резкие черты, одутловатые щеки, довольно правильный нос, часто вульгарный и обычно нехарактерный; взгляд живой, но лишенный глубины, хотя каждая француженка считала, что глаза у нее горящие и огромные; красиво очерченные губы, искусная мимика рта; пухлый подбородок; вся нижняя часть лица свидетельствовала о сугубо земных наклонностях этих изящных особ, которые даже в разгар любовной драмы помнят о светских условностях и о своем хозяйстве. Хорошенькие, но не породистые. Почти в каждой из этих светских дам чувствовалась развращенная или мечтающая быть развращенной буржуазка со всеми повадками своего класса: благоразумием, расчетливостью, холодностью, практичностью, эгоизмом. Мелкое существование. Жажда наслаждений, проистекающая гораздо чаще от чисто рассудочного любопытства, чем из потребности чувств. Воля твердая, но с большой примесью упрямства. Все были прекрасно одеты и отличались автоматическим изяществом движений. Легко и грациозно подправив волосы и гребенки ладонью или тыльной стороной руки, они всегда садились с таким расчетом, чтобы можно было любоваться собой – а также наблюдать за соседями – в каком-нибудь близко или далеко висящем зеркале, не говоря уже о ложках, ножах, серебряных кофейниках, любой полированной и блестящей поверхности, на которой они ловили за обедом или за чаем свое мимолетное отражение, интересовавшее их больше всего на свете. Они соблюдали за столом строжайшую гигиену: пили воду и отказывались от всех кушаний, которые могли бы нанести ущерб идеальной белизне их напудренной кожи.
В кругах, где вращался Кристоф, процент евреек был довольно велик, и они привлекали его, хотя он не забыл печального опыта с Юдифью Маннгейм и уже не строил себе никаких иллюзий на их счет. Сильвен Кон ввел его в несколько иудейских гостиных, где его приняли предупредительно и умно, как это вообще свойственно евреям, умеющим ценить ум. Кристоф встречался на обедах с финансистами, инженерами; газетными воротилами, международными маклерами, современными работорговцами, – словом, с деловыми людьми Республики. Они были проницательны и деятельны, равнодушны, любезны, порывисты и замкнуты. Кристоф, глядя на этих людей, собравшихся вокруг роскошного стола, уставленного яствами и цветами, каждый раз спрашивал себя, сколько уже совершенных преступлений таится за этими упрямыми лбами и сколько еще будет совершено. Почти все они были безобразны. Но женщины в массе производили довольно эффектное впечатление. Не следовало только рассматривать их слишком близко: большинство не могло похвастать изяществом линий и красок. Зато много блеска, грубоватая плотскость, роскошные плечи, гордо красовавшиеся под устремленными на них взглядами, и огромное умение пользоваться своей красотой и даже своим уродством для уловления мужчин. Художник обнаружил бы в некоторых из них древнеримский тип, тип женщин времен Нерона или Адриана. Встречались также лица с картин Пальма Веккья, с чувственным выражением, с массивным подбородком, неприметно переходящим в шею, что, впрочем, не лишено было животной красоты. У других были пышные вьющиеся волосы, пламенный, вызывающий взгляд: чувствовалось, что они хитры, колки, готовы на все, в них было больше мужского, чем в других женщинах, но зато и больше женственности. Из общей массы выделялся порой более одухотворенный профиль. Чистые его линии, минуя Рим, восходили к древнему Ливану: была в нем поэзия тишины, гармония пустыни. Но когда Кристоф подходил ближе и прислушивался к фразам, которыми Ревекка обменивалась с Фаустиной-римлянкой или святой Варварой-венецианкой, перед ним оказывалась все та же парижская еврейка, ничем не отличающаяся от всех прочих, и даже больше парижанка, чем сами парижанки, еще менее естественная и еще более фальшивая, – из тех, что умеют злословить с самым спокойным видом, глазами мадонны раздевая душу и тело человека.
Кристоф переходил от группы к группе, не решаясь примкнуть ни к одной из них. Мужчины говорили об охоте с кровожадностью, о любви с животной грубостью и только о деньгах – здраво, с холодной и насмешливой уверенностью. Дела обделывались в курительной. Кристоф слышал, как об одном красавце с розеткой в петлице, который разгуливал между дамами, картавя тяжеловесные комплименты, говорили:
– Как! Неужели он на свободе?
В уголке салона две дамы вели разговор о романе молодой актрисы с одной светской женщиной. Иногда устраивались концерты. Просили Кристофа поиграть. Задыхавшиеся поэтессы, обливаясь потом, распевали на апокалиптический лад стихи Сюлли-Прюдома и Огюста Доршена. Знаменитый комедиант приезжал торжественно декламировать «Мистическую балладу» под аккомпанемент небесных звуков органа. Музыка и стихи были так глупы, что Кристофа мутило. Но наши римлянки восторгались и от души хохотали, показывая свои великолепные зубы. Играли также Ибсена. Эпилог борьбы великого человека против столпов общества оказался прекрасным развлечением!
Далее, все эти люди, разумеется, считали своим долгом рассуждать об искусстве. Тошно было слушать. Особенно женщин, которые охотно говорили об Ибсене, о Вагнере, о Толстом, – ради флирта, из вежливости, от скуки, по глупости. Как только разговор переходил на эту почву, никто не мог их остановить. Болезнь была заразительна. Приходилось выслушивать мнение об искусстве – банкиров, маклеров, работорговцев. Тщетно старался Кристоф уклониться от ответов, переменить тему разговора: к нему упорно приставали с болтовней о музыке, о высокой поэзии. Прав был Берлиоз, сказавший, что «здесь пользуются этими словами с таким хладнокровием, точно говорят о вине, флирте и других пошлостях». Какой-то врач-психиатр узнавал в героине Ибсена одну из своих пациенток, но находил, что она гораздо глупее той. Какой-то инженер был искренне убежден, что в «Кукольном доме» самое симпатичное лицо – муж. Знаменитый актер – великолепный комик, – запинаясь, изрекал вибрирующим голосом непререкаемые истины насчет Ницше и Карлейля {123} ; он же клялся Кристофу, будто не может видеть картины Веласкеса – Веласкес был кумиром дня – «без того, чтобы крупные слезы не заструились у него по щекам». Но тем не менее он сознавался – Кристофу, по крайней мере, – что, сколь высоко он ни ценит искусство как таковое, еще выше ставит он искусство жить, действовать и что, если бы это от него зависело, он выбрал бы себе роль Бисмарка {124} . Порой на этих собраниях присутствовал какой-нибудь из присяжных умников. Однако разговор от этого выигрывал не намного. Кристоф сравнивал слова, которые приписывались умникам, с тем, что они действительно говорили. Чаще всего они вообще ничего не говорили, ограничиваясь загадочными улыбками; они жили на ренту своей репутации и не желали рисковать ею. Особняком стояли несколько болтунов, чаще всего южан. Эти болтали обо всем. Никаких критериев; все ставилось на одну доску. Такой-то – настоящий Шекспир. Такой-то – Мольер. Такой-то – Иисус Христос. Они сравнивали Ибсена с Дюма-сыном, Толстого – с Жорж Санд; разумеется, только для того, чтобы доказать, что все берет свое начало во Франции. Как правило, они не знали ни одного иностранного языка. Но это их не смущало. Аудитории было вовсе не важно, правда или нет то, что они говорят. Важно было, чтобы говорились вещи забавные и по возможности лестные для национального самолюбия. Иностранцам здорово доставалось – за исключением кумира дня, – будь то Григ, Вагнер, Ницше, Горький, д’Аннунцио – безразлично. Мода длилась недолго, и в одно прекрасное утро кумир неизбежно попадал в мусорный ящик.
В то время кумиром был Бетховен. Бетховен – кто бы мог подумать? – стал модным композитором. По крайней мере, среди светских людей и литераторов; ибо музыканты немедленно отшатнулись от него, следуя законам механики, управляющей художественным вкусом во Франции. Чтобы знать, каких держаться взглядов, француз прежде всего выясняет, что думает его сосед, и тогда либо присоединяется к его мнению, либо утверждает нечто прямо противоположное. Видя, что Бетховен становится популярным, наиболее изысканные музыканты начали находить его недостаточно изысканным; они желали опережать общественное мнение, а вовсе не плестись у него в хвосте; предпочитали прямой разрыв с публикой общему с ней мнению. Так, Бетховен стал у них глухим, крикливым стариком, а некоторые утверждали даже, что хоть моралист он, пожалуй, почтенный, но слава его как музыканта сильно раздута. Эти дурные шутки были не по вкусу Кристофу. Восторги светских людей тоже не радовали его. Если бы в тот момент Бетховен прибыл в Париж, он стал бы героем дня; на свою беду, он умер сто лет назад. Успех Бетховена был обусловлен не столько его музыкой, сколько более или менее романтическими подробностями его жизни, рассказанными в чувствительных жизнеописаниях. Его свирепую львиную маску превратили в виньетку к романсу. Дамы умилялись; каждая намекала, что, если бы она была знакома с композитором, он не был бы так несчастен, – великодушие тем более непритворное, что говорившую нельзя было поймать на слове: «старик» уже ни в чем не нуждался. Вот почему виртуозы, капельмейстеры, устроители концертов открывали в себе бездну благоговения перед Бетховеном и, на правах его представителей, пожинали предназначенные ему лавры. Пышные фестивали, по очень высоким ценам, давали светским людям случай проявить свою щедрость, – а иногда также «открыть» ту или иную симфонию Бетховена. Комитеты из актеров, светских и полусветских людей и государственных мужей, уполномоченных Республикой печься о судьбах искусства, вдруг оповещали мир, что они собираются воздвигнуть памятник Бетховену; на подписных листах, наряду с именами нескольких порядочных людей, служивших ширмой для прочих, ставила свои имена вся та сволочь, которая попирала бы ногами живого Бетховена.








