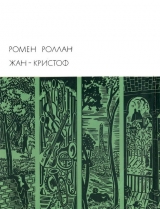
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 57 страниц)
Этими мыслями был наполнен последний час ожидания. Наконец подали состав. Кристоф первый сел в вагон и, снедаемый ребяческим нетерпением, вздохнул полной грудью лишь тогда, когда поезд загромыхал на стрелках и он увидел в окно, как постепенно стираются на фоне серого неба, иссеченного полосами унылого дождя, очертания города, на который медленно спускалась ночь. Ему казалось, что провести здесь эту ночь было бы равносильно смерти.
В этот самый час – около шести вечера – в гостиницу на имя Кристофа пришло письмо от Гаслера. Встреча с Кристофом разбередила душу композитора. Весь день он с горечью и не без сочувствия вспоминал о бедном юноше, который явился к нему с таким запасом любви и которому он оказал ледяной прием. Теперь он упрекал себя за эту холодность. В сущности, это был только один из обычных для него приступов хандры. Ему хотелось загладить свою вину, и он послал Кристофу билет в оперу с запиской, в которой назначал ему свидание после спектакля. Кристоф никогда не узнал об этом, а Гаслер, увидев, что он не пришел, подумал:
«Обиделся. Тем хуже для него!»
Он пожал плечами и перестал думать об этом. На другой день он уже забыл о Кристофе.
Да и далеко был от него Кристоф на другой день – так далеко, что даже вечности не хватило бы, чтобы снова сблизить их. И оба остались одинокими навсегда.
Петеру Шульцу уже исполнилось семьдесят пять лет. Он всегда отличался слабым здоровьем, да и время не пощадило его. У этого высокого сутулого старика с бессильно склоненной на грудь головой были больные бронхи, и он страдал одышкой. Его вечно терзали катары, бронхиты, астма; тяжелая борьба с недугом – сколько ночей просидел он в постели, сгорбившись, обливаясь потом, судорожно ловя воздух больною грудью! – проложила страдальческие складки на его продолговатом, худом, бритом лице. У него был длинный, у переносицы несколько утолщенный нос. Резкие морщины, расходясь от глаз, изрыли глубоко запавшие щеки. Не только болезни и возраст вылепили эту старческую маску, – горести жизни тоже сделали свое дело. И тем не менее Шульц не казался грустным. Большой рот выражал спокойную и безмятежную доброту. Но особенно трогательную мягкость придавали его лицу светлосерые, прозрачные и ясные глаза; они смотрели прямо в лицо людям, спокойно, открыто; они ничего не скрывали: вся душа читалась в них.
Жизнь Шульца была бедна событиями. Он остался в одиночестве много лет назад. Жена его умерла. Она была не очень добра, не очень умна и даже не хороша собой, но он вспоминал о ней с нежностью. Шульц потерял ее уже двадцать пять лет назад, и с тех пор не проходило вечера, чтобы он мысленно не вел с ней перед сном грустной и нежной беседы: он приобщал ее к прожитому дню. Детей у него не было, о чем он горевал всю жизнь. Свою жажду привязанности Шульц перенес на учеников, которых любил, как родной отец. Но они не всегда платили ему тем же. Старое сердце тянется к юному, чувствуя себя почти ровесником его: оно знает, как быстротечны годы, которые легли между ними. Но юноша об этом не подозревает: старик для него человек другой эпохи; к тому же он слишком поглощен треволнениями сегодняшнего дня и бессознательно отвращает взор от грустного итога всех своих усилий. Случалось, что ученики Шульца, тронутые его живым, искренним интересом ко всем их удачам и неудачам, выражали ему свою признательность; время от времени они навещали старого профессора; кончив университет, писали ему, благодарили за его заботы; некоторые два-три раза присылали весточку о себе и в последующие годы. А затем старый Шульц терял их из виду и разве только из газет узнавал об успехах того или другого – и радовался этим успехам, как своим собственным. Он не обижался на учеников за их молчание, находя ему тысячи оправданий. В их преданности старик ничуть не сомневался и даже наиболее эгоистичных наделял чувствами, которые испытывал сам.
Но надежнейшим прибежищем были для него книги: они-то не забудут, не изменят. Души, которые делали дорогими для него эти страницы, были уже вне потока времени – они не менялись, запечатленные в веках силою любви, которую они внушали и, казалось, сами чувствовали, изливая ее на всех, кто полюбил их. Профессор эстетики и истории музыки Шульц был подобен старому бору, звенящему песнями. Некоторые из этих песен доносились издалека, из глубокой старины, не потеряв ни своей прелести, ни своей таинственности. Существовали и другие, более близкие и милые сердцу; они стали его дорогими спутниками: каждое слово в них напоминало ему счастье и скорби прожитой жизни, сознательной или прошедшей за пределами сознания (ибо за простой завесой дня, озаренного лучами солнца, текут другие дни, сияющие неведомым нам светом). Были, наконец, песни, никогда еще им не слышанные; он находил в них то, чего давно уже ждал, в чем давно нуждался, – всем сердцем он впитывал их, как земля впитывает влагу. Так старый Шульц слушал в безмолвии своей одинокой жизни шумы наполненного песнями леса; и, подобно тому легендарному монаху, что уснул, завороженный песней волшебной птицы, он не заметил, как прошли годы, как наступил вечер жизни; душе его все еще было двадцать лет.
Не только музыка составляла богатство Шульца. Он любил поэтов – старинных и новых. Он предпочитал поэтов своей родины, в особенности Гете, но любил и иностранных. Шульц был разносторонне образован и знал несколько языков. По своим воззрениям он принадлежал к современникам Гердера и великим Weltbürger {65} – «гражданам мира» конца XVIII века. Как свидетель ожесточенной борьбы, происходившей до и после семидесятого года, он привык мыслить широко. Но, обожая Германию, Шульц не кичился ею. Вместе с Гердером он полагал, что «из всех бахвалов самый глупый тот, кто кичится своей национальностью», и вместе с Шиллером находил, что «писать для одной лишь нации – слишком убогий идеал». Если он порой и проявлял робость мысли, то сердце у него было открытое, оно с любовью обнимало все, что есть прекрасного в мире. Шульц, пожалуй, был слишком терпим к посредственности, но его инстинкт безошибочно подсказывал ему, что лучше и что хуже; и если у него не хватало силы осудить лжеталанты, которыми восторгался свет, он всегда находил в себе силу отстаивать своеобразных и сильных художников, гонимых светом. Доброта часто подводила его: он боялся совершить несправедливость; а если ему не нравилось то, что нравилось другим, он, не колеблясь, признавал себя неправым и начинал любить отвергнутое. Любовь и восхищение были еще более необходимы ему для его духовной жизни, чем воздух для его чахлой груди, и он испытывал признательность к тем, кто пробуждал в нем эти чувства. Кристоф даже не подозревал, что значили для Шульца его Lieder. Он сам, создавший их, не чувствовал того, что порождали они в сердце старого Шульца. Ведь для Кристофа это были всего лишь несколько искорок того огня, которым он горел: немало других еще взовьется из горна его души. А для Шульца это был целый мир, внезапно распахнувшийся перед ним, – мир, на который он мог обратить свою любовь. Мир, осветивший всю его жизнь.
Год назад Шульцу пришлось распроститься с университетом и выйти в отставку: здоровье его ухудшилось, стало трудно преподавать. Он был болен и лежал в постели, когда книготорговец Вольф, по заведенному обыкновению, прислал ему пачку последних музыкальных новинок и среди них Lieder Кристофа. Шульц жил в полном одиночестве. Возле него не было ни одной близкой души; немногие его родственники давно уже умерли. Он находился на попечении старой служанки, которая злоупотребляла его немощью и вела дом по своему усмотрению. Время от времени его навещали два-три приятеля столь же преклонных лет; они тоже не отличались здоровьем; в плохую погоду они сидели в четырех стенах и редко навещали друг друга. Была зима, на улицах таял только что выпавший снег; Шульц никого не видел весь день. Комната тонула во мраке, желтый туман прильнул к окнам, и взгляд упирался в его непроницаемую стену; от печки шел тяжелый, томительный жар. На соседней церкви старые куранты XVII века через каждые четверть часа выпевали ужасающе фальшивым и разбитым голосом фразу монотонного хорала – их бодрящий напев казался неестественным тому, кто сам был не очень весел. Старик, обложенный подушками, кашлял. Он старался углубиться в чтение Монтеня, которого любил, но сегодня чтение не радовало его, как обычно; он выпустил из рук книгу, ему дышалось трудно, он ушел в мечты. Пачка нот лежала тут же на постели, но у него не было мужества распечатать ее, сердце томила печаль. Наконец старик Шульц вздохнул, аккуратно развязал шнурок, надел очки и принялся разбирать ноты. Мыслями он был не здесь, а в прошлом, которое хотелось и не удавалось забыть.
Взгляд его упал на гимн в старинном стиле, написанный на слова простодушного и благочестивого поэта XVII века, которым Кристоф придал новое звучание. То была «Песнь странника-христианина» Пауля Гергардта.
Hoff, о du arme Seele,
Hoff und sei unverzagt!
……………………………..
Erwarte nur der Zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn der schönsten Freud…
Надейся, бедная душа,
Надейся, будь бесстрашна!
………………………………….
Жди, твой придет черед,
И солнце Радости
Перед тобой блеснет…
Старому Шульцу были хорошо знакомы эти простые слова, но никогда они не трогали его так, как сейчас. Куда-то исчезла бездумная набожность, которая смиряет и убаюкивает душу своей однообразностью. Теперь в них трепетала душа, его собственная душа, но более юная и могучая; она страдала, жаждала надеяться, жаждала видеть Радость и видела ее. Его руки дрожали, по щекам текли крупные слезы. Он продолжал читать:
Auf! Auf! gib deinem Schmerze
Und Sorgen gute Nacht!
Lass fahren, was das Herze
Betrübt und traurig macht!
Вставай, простись с заботой,
Гони печали прочь!
Пусть все уйдет, что в сердце
Твое вселила ночь!
Кристоф сообщил этим мыслям отвагу и задор молодости; молодой героический смех громко звучал в нижеследующих, проникнутых наивным доверием словах:
Bist du doch nicht Regente,
Der alles führen soll, —
Gott sitzt im Regimente
Und führet alles wohl.
He ты ведь вседержитель,
Мир не тебе вести, —
Господь жизнь направляет
По верному пути.
И, наконец, шла строфа, дышавшая пламенным вызовом, – Кристоф с дерзостью юного варвара беспечно вырвал ее из середины стихотворения и превратил в финал своей Lied:
Und ob gleich alle Teufel
Hier wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn.
Was er ihm vorgenommen,
Und was er haben will,
Das muß doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.
Пусть корчатся все черти
И разъярится ад,
Того, что раз замыслил,
Бог не возьмет назад.
От цели не отступит
Господь наш ни на пядь,
Он выполнит решенье
И не вернется вспять…
Здесь музыка разражалась неистовым взрывом веселья, в ней слышалось упоение боем, триумф римского императора.
Старик дрожал всем телом. Трудно дыша, он следил за буйным течением музыки, как ребенок, которого схватил за руку и увлекает вперед бегущий товарищ. Сердце его стучало, слезы струились по щекам. Он лепетал:
– Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!..
Он всхлипывал, смеялся. Он был счастлив. У него перехватило дыхание. Начался ужасный припадок кашля. Прибежала Саломея, старая служанка, – ей показалось, что старику пришел конец. А он все плакал, кашлял и твердил:
– Ах, боже мой! Боже мой!..
В краткие минуты передышки между двумя припадками кашля он смеялся тихим, тонким смешком.
Саломея думала, что он помешался. С трудом поняв наконец, что привело его в такое волнение, она напустилась на него:
– Можно ли так с ума сходить из-за всякой чепухи!.. Дайте-ка мне эту тетрадь! Я ее заберу! И больше вы ее не увидите.
Но старик, кашляя, крепко ухватился за ноты; он крикнул Саломее, чтобы она оставила его в покое. Так как старуха не унималась, Шульц вышел из себя и стал всячески бранить ее, ловя ртом воздух. Никогда еще хозяин так не сердился, никогда он не смел ей перечить. Ее даже оторопь взяла – и она сдалась, но не поскупилась на язвительные словечки: сказала, что он на старости лет выжил из ума, что она до сих пор принимала его за приличного человека, но, видно, обманулась, – он так ругается и богохульствует, что любого извозчика за пояс заткнет, что глаза у него совсем на лоб вылезли, – одним таким взглядом убить можно… И она угомонилась лишь после того, как взбешенный Шульц приподнялся и крикнул ей:
– Убирайтесь!
И крикнул таким не допускавшим возражения тоном, что Саломея ушла, хлопнув дверью. Пусть теперь зовет ее, заявила она на прощание, она и не подумает прийти, пусть себе помирает один-одинешенек.
В комнате, уже погруженной в полумрак, снова воцарилась тишина. И снова спокойное безмолвие вечера нарушал только перебор курантов, вызванивавших смешные и сентиментальные мелодии. Смущенный своей вспышкой, старик Шульц неподвижно лежал на спине и дожидался, когда уймется бурное биение сердца: он прижимал к груди драгоценные Lieder и смеялся, как дитя.
Последовавшие за тем одинокие дни проходили в состоянии, близком к экстазу. Шульц уже позабыл о своих немощах, о зиме, о ненастье, о своем одиночестве. Все вокруг было сиянием и любовью. Приближаясь к земному пределу, Шульц чувствовал, как он возрождается в юной душе неведомого друга.
Он силился нарисовать себе образ Кристофа. Композитор представлялся ему совсем не таким, каким был в действительности. В своем воображении Шульц видел светловолосого, худощавого человека с голубыми глазами, со слабым, глуховатым голосом, кроткого, застенчивого и доброго. Но каков бы он ни был на самом деле, Шульц все равно создал бы себе идеальный образ Кристофа. Он идеализировал всех окружающих; учеников, соседей, приятелей, старуху служанку. Добрый и любящий, неспособный критиковать и, быть может, умышленно уклонявшийся от критики, – так легче было отгонять горькие мысли, – он населял мир ясными и чистыми душами по своему подобию. Это была ложь от избытка доброты, и эта ложь помогала ему жить. Шульц и сам знал в глубине души, что обманывает себя – и по ночам, в постели, часто вздыхал, вспоминая прожитый день – десятки мелочей, противоречивших его идеализированным представлениям. Он отлично знал, что старая Саломея за его спиной насмехается над ним, судачит о нем с кумушками всего квартала и потихоньку приписывает к очередному счету по субботам. Он отлично знал, что ученики заискивают перед ним, пока он им нужен, а получив желаемое, исчезают. Он знал, что старые товарищи по университету забыли о его существовании с тех пор, как он вышел в отставку, а новый профессор эстетики обкрадывает его в своих статьях без указания источника или же вероломно ссылается на него как раз тогда, когда приводит какую-нибудь малозначащую фразу из его сочинений или подчеркивает его промахи (прием, весьма распространенный среди критиков). Он знал, что его приятель Кунц не далее как сегодня налгал ему и что не видать ему, как своих ушей, книг, которые он дал на несколько дней другому своему приятелю, Поттпетшмидту; а это очень огорчало Шульца – книги свои он любил, как живых людей. И много еще припоминалось ему горького из недавнего и далекого прошлого. Не хотелось ему об этом думать, но назойливые мысли все время были с ним. Воспоминания пронзали его жгучей болью.
– Ах! Боже мой, боже мой! – вздыхал он в ночной тишине.
Но Шульц отмахивался от этих докучливых мыслей: он их просто отстранял. Ему хотелось быть доверчивым, верить во все доброе, верить в людей. И он верил. Сколько раз жизнь грубо разбивала его иллюзии! А на их месте снова и снова возникали другие. Он не мог обходиться без них.
Незнакомец, по имени Кристоф, стал для старика источником света. Первое письмо, полученное от Кристофа, холодное и угрюмое, не могло не огорчить его, но он не хотел признавать этого, он радовался, как дитя. Старик был так невзыскателен, так мало требовал от людей, что и немногое способно было утолить его жажду любви и благодарности. Свиданье с Кристофом было бы для него радостью, на которую он не смел рассчитывать: куда ему, старому, пускаться в далекий путь к берегам Рейна! А попросить Кристофа навестить его он даже и помыслить не мог.
Телеграмма от Кристофа была получена вечером – Шульц как раз садился за стол. Сначала он пришел в недоумение: подпись ему ничего не говорила, и он решил, что телеграмма подана ему по ошибке. Он перечел ее три раза; от волнения очки не сидели на месте, лампа горела слишком тускло, буквы плясали перед глазами. Когда же он наконец понял, новость так ошеломила его, что он забыл об обеде. Напрасно кричала на него Саломея, – кусок не шел ему в горло. Старик небрежно бросил салфетку на стол, хотя обычно аккуратно складывал ее; он с трудом поднялся, взял шляпу, трость – и вышел. Первой мыслью старого Шульца, когда он получил счастливую весть, было разделить это счастье с другими, известить своих друзей о приезде Кристофа.
У него было двое приятелей, тоже страстных любителей музыки, которым он сумел передать свое восторженное отношение к Кристофу: судья Самюэль Кунц и зубной врач Оскар Поттпетшмидт, славившийся своим замечательным голосом. Старые приятели, собравшись втроем, часто говорили о Кристофе; они переиграли все его вещи – все, что им удалось найти. Поттпетшмидт пел, Шульц аккомпанировал, Кунц слушал. А затем они целыми часами делились друг с другом своими восторгами. Исполняя пьесы Кристофа, они нередко повторяли:
– Ах! Если бы с нами был Крафт!
Шульц шел и тихонько смеялся от радости и оттого, что сможет порадовать своих друзей. Спускалась ночь; деревушка, где жил Кунц, находилась в получасе ходьбы от города. Но небо было чистое, апрельский вечер ласкал теплом, пели соловьи. Сердце старого Шульца ликовало; он не чувствовал одышки, он шел легко, как в двадцать лет, не смущаясь тем, что часто спотыкался в темноте о камни. Проезжали экипажи, и тогда он молодцевато сторонился и посылал веселый привет вознице, а тот с удивлением всматривался в освещенную на мгновение фонарем фигуру старика, взгромоздившегося на придорожную насыпь.
Наконец Шульц добрался до домика Кунца, стоявшего в саду на окраине деревни; уже наступила ночь. Он принялся барабанить в дверь и громко звать хозяина. Окно распахнулось, и из него высунулся растерянный Кунц. Вперив глаза в темноту, он спросил:
– Кто там? Что вам угодно?
Запыхавшийся Шульц радостно вскрикнул:
– Крафт… Крафт завтра приезжает…
Кунц ничего не понял, но он узнал старика по голосу.
– Шульц! В чем дело? Так поздно? Что случилось?
Шульц повторил:
– Он приезжает завтра, завтра утром!..
– Что-о? – переспросил озадаченный Кунц.
– Крафт! – крикнул Шульц.
Кунц помолчал, стараясь разгадать смысл сказанного, и вдруг громко ахнул: он наконец понял.
– Иду! – крикнул он.
Окно захлопнулось. Кунц, с лампой в руке, показался на лестнице и спустился в сад. Это был низенький толстенький старичок, большеголовый, седой, с рыжей бородкой, с веснушками на лице и на руках. Он шел мелкими шажками, попыхивая фарфоровой трубкой. Благодушный, сонливый Кунц редко что принимал близко к сердцу. Но новость, преподнесенная Шульцем, взбудоражила даже его; он уже издали сыпал вопросами и, забыв, что держит лампу, размахивал короткими ручками:
– Что? Неужели правда? Он приезжает?
– Завтра утром! – с торжеством повторил Шульц, размахивая телеграммой.
Два старых друга уселись на скамье в беседке. Шульц поднял лампу. Кунц бережно развернул телеграмму и медленно вполголоса прочитал; Шульц, глядя из-за его плеча, перечел ее вслух. Кунц стал разбирать окаймлявшие телеграмму служебные отметки: время подачи, время получения, число слов, после чего вернул драгоценный документ Шульцу, так и сиявшему от удовольствия, посмотрел на него, покачал головой и сказал:
– Ах! Хорошо!.. Ах! Хорошо!..
Затем подумал, затянулся, выдохнул густое облако дыма и, положив руку на колени Шульцу, произнес:
– Надо сообщить Поттпетшмидту.
– Я как раз собирался идти к нему, – сказал Шульц.
– Пойдем вместе, – подхватил Кунц.
Он отнес лампу в дом и тотчас же появился снова. Старики пошли под руку. Дом Поттпетшмидта находился на противоположном краю деревни. Шульц и Кунц рассеянно обменивались отрывистыми замечаниями, размышляя о полученном известии. Вдруг Кунц остановился и стукнул палкой о землю.
– Ах, черт! – сказал он. – Ведь его нет дома!
Он только сейчас вспомнил, что Поттпетшмидт собирался с вечера к пациенту в соседний город, где предполагал остаться на день-два. Шульц расстроился, Кунц – не меньше его. Они гордились Поттпетшмидтом, им хотелось похвастаться этим замечательным певцом перед Кристофом. Оба стали как вкопанные посреди дороги, не зная, что предпринять.
– Что же делать? Что же делать? – спросил Кунц.
– Крафт должен во что бы то ни стало послушать Поттпетшмидта, – сказал Шульц. Подумав, он прибавил: – Пошлем ему телеграмму.
Отправились на телеграф и общими усилиями составили пространную и путаную телеграмму, из которой ничего нельзя было понять. Пошли обратно. Шульц что-то высчитывал и наконец сказал:
– Если он сядет на первый поезд, то может приехать завтра утром.
Но Кунц заметил, что уже поздно и телеграмму Поттпетшмидту вручат только завтра. Шульц покачал головой; оба то и дело повторяли:
– Вот беда!
Дойдя до дома Кунца, они расстались. При всей своей любви к Шульцу Кунц даже не подумал проводить приятеля за окраину деревни: он не рискнул бы проделать этот путь и потом возвратиться один в темноте. Уговорились, что завтра Кунц будет обедать у Шульца. Шульц тревожно посматривал на небо:
– Только бы завтра не испортилась погода!
Он вздохнул с облегчением, когда Кунц, слывший знатоком по части метеорологии, с важным видом заявил, поглядывая на небо (ему не меньше, чем Шульцу, хотелось, чтобы Кристоф увидел их местность во всем блеске):
– Погода будет хорошая.
Шульц направился к дому; он спотыкался о колеи, о камни, кучами лежавшие вдоль обочины, и наконец добрался до города. Прежде чем повернуть к себе, он зашел в кондитерскую и заказал особый торт, которым она славилась на весь город. Уже у порога своего дома он остановился и пошел обратно, решив осведомиться на вокзале о точном времени прибытия поезда. Наконец он добрался до дома и позвал Саломею; началось продолжительное совещание о завтрашнем обеде. Затем старик улегся уже в полном изнеможении, но он был взбудоражен, как ребенок в ожидании рождественских подарков, и всю ночь проворочался в постели, не смыкая глаз. Уже за полночь он вдруг поднялся и направился было будить Саломею, чтобы заказать к обеду тушеного карпа, – это блюдо особенно ей удавалось, – но воздержался и хорошо сделал. Все же он встал и принялся приводить в порядок комнату, предназначенную для Кристофа, всячески стараясь не шуметь, чтобы не потревожить Саломеи: он боялся, что ему достанется. Хотя по расписанию поезд не мог прийти раньше восьми, Шульц был в страхе, как бы не опоздать. Он встал ни свет ни заря и прежде всего взглянул на небо. Кунц не ошибся: погода стояла великолепная. Шульц на цыпочках сошел в погреб, куда не заглядывал уже много лет, опасаясь холода и крутой лестницы. Он отобрал лучшие вина; на обратном пути он сильно ударился головой о притолоку и чуть не задохся, пока добирался до выхода со своей тяжелой ношей. Затем он вышел, вооружившись ножницами, в сад и безжалостно срезал самые прекрасные розы и первые ветки распустившейся сирени. После этого он снова поднялся в свою комнату, стал с судорожной поспешностью бриться, раза два порезался, оделся особенно тщательно и отправился на вокзал. Было семь часов. Саломее не удалось заставить его выпить хотя бы чашку молока: он твердил, что ведь и Кристоф не успеет поесть, – они позавтракают вместе по возвращении с вокзала.
За три четверти часа до прибытия поезда Шульц был уже на вокзале. Он так истерзался в ожидании Кристофа, что в конце концов разминулся с ним. Ему бы терпеливо дожидаться у входа, а он вышел на перрон и, очутившись в водовороте отбывавших и приезжавших пассажиров, окончательно потерял голову. И хотя в телеграмме было точно указано время прибытия Кристофа, Шульц вдруг почему-то вообразил, что он приедет следующим поездом; кроме того, он никак не думал, что композитора надо искать среди пассажиров четвертого класса. Он прождал его на вокзале больше получаса, а тем временем Кристоф, давно уже приехавший, отправился прямо к нему домой. Как на грех, Саломея только что ушла на рынок, – Кристоф очутился перед запертой дверью. Соседка, которой Саломея наказала передать, если кто-нибудь позвонит, что она скоро будет дома, в точности выполнила поручение, ничего не прибавив от себя. И Кристоф, который приехал отнюдь не ради Саломеи и даже не имел представления об этой почтенной особе, не мог понять, что это за шутки с ним шутят; он спросил, в чем же дело, разве Herr Universitätsmusikdirector Шульц уехал из города? Ему ответили, что он в городе, но где – неизвестно. Кристоф, рассердившись, ушел.
Вернувшись домой с вытянутой физиономией и услышав обо всем происшедшем от Саломеи, старик пришел в отчаяние и чуть не заплакал. Тупоумие служанки, которая посмела уйти в его отсутствие и даже не догадалась попросить соседку задержать Кристофа, вывело его из себя. Саломея ответила не менее резко, что хорош и он: надо же быть таким ротозеем и разминуться с человеком, которого ждешь. Но старик недолго пререкался с Саломеей: не теряя ни минуты, он сбежал с лестницы и пустился разыскивать Кристофа по тому весьма неопределенному следу, который ему указали соседи.
Кристофа обидело, что хозяин не только отсутствовал, но даже не потрудился оставить записки с извинением. Не зная, как скоротать время до поезда, он решил прогуляться по окрестностям, которые показались ему красивыми. Маленький, тихий, спокойный городок приютился среди мягко очерченных холмов; дома, тонувшие в зелени, вишни в цвету, изумрудные лужайки, уютные тенистые уголки, развалины, которые здесь считались древностью, бюсты давно почивших принцесс на мраморных постаментах среди деревьев; спокойные и приветливые лица прохожих. Вокруг города лежали луга, холмы. В расцветшем кустарнике наперебой свистели дрозды – целый концерт смеющихся, звонких флейт. Кристоф сразу повеселел. О Петере Шульце он и думать забыл.
Старик бегал по улицам, тщетно расспрашивая встречных. Он даже взобрался на холм, где высился старый замок, и уже возвращался в полном отчаянии, когда вдруг разглядел своими дальнозоркими глазами лежавшего на лужайке, в тени кустов, человека. Не зная в лицо Кристофа, Шульц не мог решить, он ли это. Незнакомец лежал к нему спиной, зарывшись головой в траву. Шульц, у которого вдруг сильно забилось сердце, стал бродить вокруг лужайки.
«Он… Нет, как будто не он…»
Окликнуть незнакомца он не решался. Вдруг его осенило – он стал напевать первую фразу Lied Кристофа: «Auf! Auf!» (Вставай! Вставай!)
Кристоф вынырнул из травы, как рыба из волн, и громоподобным голосом подхватил куплет. Он повернулся к Шульцу, веселый, раскрасневшийся, с травинками в волосах. Они оба вскрикнули и бегом бросились навстречу друг другу. Шульц перемахнул через канаву, Кристоф – через изгородь. Они обменялись горячим рукопожатием и пошли к дому Шульца, громко смеясь и разговаривая. Старик поведал гостю о своих злоключениях. Кристоф, который за минуту до того решил, что он уедет немедленно, махнув рукой на Шульца, почувствовал, какая перед ним добрая и чистая душа, и полюбил старика. Еще не дойдя до дому, они успели многое поведать друг другу.
Дома они застали Кунца; узнав, что Шульц отправился разыскивать Кристофа, он спокойно уселся и стал поджидать их. Подали кофе, но Кристоф заявил, что уже позавтракал. Старик расстроился: для него было чуть ли не горем, что Кристофа первым в их городе угостил не он, Шульц, – для его любящего сердца всякая мелочь имела значение. Кристоф все понял и втайне посмеялся. Старик ему нравился все больше; желая утешить его, Кристоф признался, что он вполне может позавтракать дважды, и доказал это с честью.
Все его печали как ветром сдуло: Кристоф почувствовал себя среди искренних друзей, он воскрес. О своей поездке, о своих разочарованиях юноша рассказал в юмористических тонах; он напоминал школьника, которого отпустили на каникулы. Шульц не сводил с Кристофа лучившихся радостью глаз и смеялся от всего сердца.
Вскоре, естественно, заговорили о том, что связывало всех троих невидимой нитью: о музыке Кристофа. Шульц горел желанием послушать пьесы Крафта в исполнении автора, но не смел и заикнуться об этом. Кристоф, беседуя со стариками, ходил взад и вперед по комнате. Шульц провожал его глазами и всякий раз, когда гость приближался к раскрытому роялю, старик молил бога, чтобы Кристоф остановился. То же было на уме и у Кунца. У обоих застучало сердце, когда Кристоф, разговаривая, машинально присел на табурет у рояля и, не глядя на инструмент, прошелся по клавишам. Шульц не ошибся: при первых же случайных аккордах музыка завладела Кристофом. Он еще продолжал болтать, нанизывая звуки, затем сливая их в целые фразы, и вдруг замолчал и весь отдался игре. Обрадованные старики лукаво переглянулись.
– Это вам знакомо? – спросил Кристоф, игравший одну из своих Lieder.
– Еще бы! – восторженно отозвался Шульц.
Кристоф, не прерывая игры, слегка повернул голову:
– Э! Не очень-то он хорош, ваш рояль!
Старик смутился и стал оправдываться.
– Стар, – робко сказал он, – совсем как я.
Кристоф повернулся на табурете, посмотрел на старика, который словно просил прощения за свою старость, и, смеясь, взял его за обе руки. Он заглянул в его детски честные глаза.
– О, вы, – сказал он, – вы моложе меня.
Шульц рассмеялся счастливым смехом и стал рассказывать о своих старческих недугах.
– Ладно, ладно, – прервал его Кристоф, – не об этом речь; я знаю, что говорю. Разве не правда, Кунц?
(Он уже отбросил официальное «Herr» [43]43
Господин (нем.).
[Закрыть].)
Кунц энергично подтвердил.
Шульц заодно попытался замолвить словечко и в защиту своего старого рояля.
– Некоторые ноты звучат прекрасно, – сказал он не совсем уверенно.
Старик притронулся к клавишам: четыре или пять нот в пределах октавы в среднем регистре прозвучали довольно чисто. Кристоф понял, что рояль для Шульца – старый товарищ, и мягко сказал, думая о глазах старика:
– Да, глаза у него прекрасные.
Лицо Шульца просветлело. Он было пустился в славословие в честь дряхлого рояля, но запутался и умолк; Кристоф снова заиграл. Lieder полились одна за другой. Кристоф тихо подпевал себе. Шульц следил повлажневшими глазами за каждым его движением. Кунц, скрестив руки на животе, закрыл глаза, чтобы полнее насладиться игрой. Сияющий Кристоф часто оборачивался к двум старикам, слушавшим его в полном упоении; он говорил с наивным восторгом, который ничуть не казался им смешным:








