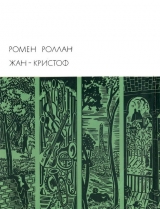
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 57 страниц)
Как бы ни ссорились мальчики, как бы ни осуждали один другого, они не могли обходиться друг без друга. У каждого имелось немало грехов, оба они были эгоисты. Но эгоизм их был так наивен, так далек от расчетливого эгоизма взрослых, так не сознавал себя как эгоизм, что казался почти приятным и не мешал нашим друзьям искренне любить друг друга. Слишком уж глубоко жила в них потребность любви и жертв! Отто, лежа в постели, сочинял романтические истории, где он, герой, проявлял чудеса дружеской верности, и плакал от умиления, уткнувшись в подушку; он измышлял самые трогательные приключения, из которых он, сильный, доблестный, отважный, неизменно выходил победителем и защищал Кристофа – обожаемого, как ему казалось, Кристофа. А Кристоф, увидев или услышав что-нибудь прекрасное или забавное, всякий раз думал: эх, жаль, Отто нет! Ни на один час образ друга не покидал его, и образ этот становился таким милым, что Кристоф забывал все хорошо известные ему слабости и недостатки Отто и впадал в состояние блаженного опьянения. Он припоминал ту или иную фразу Отто, приукрашивал ее в уме и приходил в запоздалое волнение. Мальчики во всем подражали друг другу. Так, Отто перенял манеры, жесты, даже почерк Кристофа, и Кристофа подчас раздражало, что его друг, с покорностью тени, повторяет каждое его слово, преподносит его мысли как свое собственное открытие. Но Кристоф не замечал, что тоже копирует Отто, подражает его манере одеваться, ходить, произносить отдельные слова. Это был своего рода гипноз. Они прониклись чувствами и мыслями друг друга. Сердца обоих затопляла нежность и щедро изливалась, как неиссякаемый родник. Каждый воображал, что причиной тому – его друг. Они не знали, что это пробуждается юность.
Кристоф, который верил всем и каждому, вечно разбрасывал по дому свои бумаги. Однако из какой-то стыдливости он прятал черновики своих писем к Отто и его ответные послания, но стола не запирал – просто закладывал письма между страницами нотной тетради: кому придет в голову тут рыться! Он не учел пронырливости своих братьев.
Но вот Кристоф стал замечать, что братья при виде его вдруг начинают хихикать и шушукаться, они шепотом произносили длинную фразу, очевидно кого-то цитируя, и оба помирали со смеху. Кристоф не улавливал их слов; да, впрочем, по принятой в отношении мальчиков тактике, он с подчеркнутым равнодушием пропускал мимо ушей их речи и не замечал их суетни. Но раза два он все же насторожился: их слова смутно напомнили ему что-то. В скором времени он уже не сомневался, что братцы прочитали его письма. Когда Кристоф в упор спросил об этом Эрнста и Рудольфа, которые с недавних пор стали называть друг друга с шутовской серьезностью «душа моя», ему ничего не удалось от них добиться. Мальчики притворились, что не понимают, о чем идет речь, и объявили, что имеют полное право называть друг друга, как им угодно. А Кристоф, убедившись, что писем никто не трогал, не настаивал больше.
Через неделю он застал Эрнста на месте преступления. Дрянной мальчишка рылся в ящике комода, где Луиза хранила деньги. Кристоф довольно свирепо тряхнул брата и, воспользовавшись случаем, выложил все, что накипело у него на душе; не стесняясь в выражениях, он перечислил все проступки Эрнста, каковых набралось достаточно. Эрнст, возмутившись полученной нахлобучкой, дерзко ответил, что не Кристофу его учить, и прошелся насчет его дружбы с Отто. Сначала Кристоф растерялся, но, услышав, что к их ссоре приплетают имя Отто, он потребовал объяснения. Мальчишка сначала только хихикал, но, увидев, что Кристоф побледнел от гнева, струсил и замолчал. Кристоф понял, что таким путем ему ничего не добиться, поэтому он с убийственным презрением пожал плечами и молча присел к столу. Уязвленный Эрнст снова разошелся: стараясь как можно больнее оскорбить Кристофа, он наговорил целую кучу дерзостей – одна другой гаже. Кристоф сдерживался изо всех сил, чтобы не дать волю ярости, но вдруг он понял, к чему клонит Эрнст. Вся кровь бросилась ему в голову, он вскочил со стула. Эрнст даже крикнуть не успел. Кристоф сбил брата с ног, подмял его под себя и старался побольнее стукнуть его затылком об пол. На испуганные крики жертвы сбежался весь дом во главе с Мельхиором и Луизой. Когда их розняли, Эрнст был в довольно плачевном состоянии. Кристоф не желал выпустить свою добычу: пришлось отколотить его самого. «Прямо зверь!» – воскликнула Луиза, и действительно Кристоф озверел. Глаза его выкатились из орбит, он скрежетал зубами и упорно рвался к Эрнсту; когда у Кристофа стали допытываться, что произошло, он разъярился еще пуще и закричал, что все равно убьет брата. Эрнст тоже отказался объяснить причину ссоры.
Кристоф перестал есть и спать. Он дрожал, как в лихорадке, и ночами плакал в постели. Он страдал не только за Отто. Во всем его существе происходил перелом. Эрнст и не подозревал, какое зло причинил он старшему брату. Душа Кристофа была пуритански прямолинейна, она не принимала житейской грязи и, по необходимости обнаруживая грязь, сжималась от ужаса. В пятнадцать лет он оставался до смешного наивным, хотя вел свободную жизнь взрослого человека и наделен был от природы сильными страстями. Прирожденная чистота и изнурительный труд были ему надежной броней. И вдруг после ссоры с братом перед ним открылась бездна. Никогда бы он сам не додумался до таких мерзостей, и теперь, когда мысль о них проникла в его сознание, радость любить и быть любимым померкла. Не только его дружба с Отто была отравлена, но вообще всякая дружба.
Стало еще хуже, когда, услышав несколько язвительных намеков, он вообразил – и, быть может, вообразил зря, – что сделался объектом нездорового любопытства соседей; особенно же после замечания Мельхиора относительно их совместных прогулок с Отто. Мельхиор, вероятнее всего, не видел в дружбе мальчиков ничего худого, но предубежденному Кристофу всюду чудились намеки, и он счел себя виноватым. Нечто подобное переживал как раз в это время и Отто.
Мальчики попытались еще несколько раз увидеться тайком. Но прежняя непринужденность уже исчезла. Искренность отношений была испорчена. Оба подростка, которые до тех пор любили друг друга с какой-то боязливой нежностью, которые ни разу не осмелились даже обменяться братским поцелуем и для которых не было выше счастья, как видеть друг друга, делиться мечтами и мыслями, почувствовали, что их дружбу бессовестно осквернили нечистыми подозрениями. Вскоре самый невинный жест, взгляд, пожатие руки начали казаться им чем-то дурным; они краснели, таили друг от друга нехорошие мысли. Встречи стали невыносимо тяжелыми.
Не сговариваясь, они начали видеться реже. Пытались было возобновить переписку, но теперь любое выражение чувств настораживало их. Они обменивались холодными и весьма глупыми посланиями. Наконец, они сдались. Переписка прекратилась сама собой. Кристоф ссылался на свою работу, Отто – на школьные занятия. В скором времени Отто уехал учиться в университет, и дружба, озарившая несколько недолгих месяцев их жизни, умерла.
Тогда-то новая любовь, простою провозвестницею которой была дружба с Отто, завладела Кристофом, и в сердце его поблекли все иные источники света.
Минна
Месяцев за пять до описанных событий г-жа Иозефина фон Керих, недавно похоронившая своего мужа, государственного советника Стефана фон Кериха, оставила Берлин, где ее удерживали дела покойного супруга, и переехала на житье с дочкой на свою родину, в прирейнский городок. Здесь ей принадлежал старый дом, доставшийся от родных; дом стоял среди сада, – вернее, среди парка, полого спускавшегося к реке неподалеку от дома Крафтов. Из своей мансарды Кристоф видел свисающие над оградой тяжелые ветви старых деревьев, видел конек черепичной красной, замшелой, крыши. Справа, вдоль ограды парка, шла горбатая пустынная улочка, тоже сбегавшая к реке; если взобраться на тумбу, можно было поверх ограды увидеть весь сад. Кристоф никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Он видел поросшие травой аллеи, полянки, похожие на некошеные луга, разросшиеся на свободе деревья, которые, теснясь в беспорядке, тянулись к солнцу, и белый фасад с вечно закрытыми ставнями. Раз или два в году приходил садовник, осматривал сад и проветривал дом. Но природа брала свое, парк продолжал разрастаться и дичать, и снова в парке воцарялись покой и тишина.
Эта тишина и привлекала Кристофа. Тайком от всех он устраивался на своем наблюдательном посту; он рос и постепенно перерастал стену; сначала из-за нее выглядывали одни только глазенки, потом появился нос и, наконец, вся мальчишеская физиономия. Вскоре пришел день, когда, приподнявшись на цыпочки, Кристоф мог уже положить локти на гребень ограды, и хотя стоять в этой позе было не очень удобно, он простаивал на тумбе, опершись подбородком на сплетенные пальцы, и все глядел, слушал, – а вечер наплывал на лужайку нежно-золотистыми волнами, которые отливали синим отблеском на фоне темневших елей. Кристоф стоял так, забыв все на свете, пока на улочке не раздавались шаги прохожего. Ночью сад далеко слал свои ароматы: весной оттуда доносилось благоухание сирени, летом – акации, осенью пахло прелой сыростью опавшей листвы. Когда Кристоф возвращался из герцогского замка, как бы он ни уставал за день, он всякий раз останавливался у ворот, впивая сладостное дыхание сада; и как же не хотелось ему возвращаться в свою промозглую комнатушку… Сколько раз он играл – в ту далекую пору, когда его еще увлекали игры, – у входа в дом Керихов на небольшой площади, где между плитами пробивалась травка. По обе стороны ворот росли два огромных каштана; сам дедушка нередко приходил посидеть под ними, покурить трубочку, а дети швыряли друг в друга опавшими каштанами или раскладывали их аккуратными кучками.
Как-то утром, проходя по улице, Кристоф, по обыкновению, вскарабкался на тумбу. Мысли его были заняты чем-то посторонним. Он собрался было уже уходить, как вдруг ему почудилось что-то необычное. Кристоф взглянул на дом: окна были открыты, солнечный свет свободно врывался в комнаты, и хотя никого не было видно, старый дом, казалось, пробудился от долгой пятнадцатилетней спячки и теперь радуется своему пробуждению. И Кристоф, подавляя странное волнение, остался.
За обедом Мельхиор завел разговор о приезде г-жи Керих с дочерью, которые, по его словам, навезли с собой целую груду багажа, – эта тема занимала все умы квартала. Площадь перед домом заполонили зеваки, которым непременно хотелось присутствовать при выгрузке вещей из экипажа. Кристоф, крайне заинтересованный этой новостью, которая в его тусклом существовании была немаловажным событием, вспомнил, идя на урок, рассказы отца, по обыкновению все преувеличивавшего, и постарался представить себе хозяек сказочного дома. Днем Кристоф, занятый по горло, забыл и думать о доме; но вечером, возвращаясь обратно, он вдруг припомнил утренний разговор и, повинуясь острому любопытству, взобрался, по обыкновению, на тумбу, чтобы хоть одним глазом заглянуть в сад. Кроме мирных аллей, кроме деревьев, недвижно дремавших в закатных лучах, он ничего не обнаружил. Через несколько минут мальчик уже не помнил, что именно привлекло его сюда, и, по обыкновению, замечтался, наслаждаясь тишиной. Нигде так не мечталось ему, как здесь, когда он, с трудом сохраняя равновесие, стоял на тумбе у ограды. Рядом с уродливой, тесной, душной улочкой этот позлащенный солнцем сад был полон волшебных чар. Мысль Кристофа вольно уносилась в эти ясные, как гармония, просторы, и сами собой возникали мелодии; Кристоф погружался в сладкий полусон, забывал время, самую жизнь, стараясь уловить все шепоты своего сердца.
Так, открыв глаза и рот, мечтал он и сейчас, не зная сам, о чем мечтает, ибо ничего не видел. Вдруг его что-то словно кольнуло. Прямо против него на повороте аллеи появились две женские фигуры, и он почувствовал устремленный на себя взгляд. Чуть впереди шла молодая женщина в трауре, с тонкими, неправильными чертами лица, с пепельно-белокурыми волосами, высокая, элегантная, с небрежно-красивой посадкой головы; она смотрела на Кристофа ласково и насмешливо, а чуть позади виднелась фигурка девочки лет пятнадцати, тоже в глубоком трауре; ее личико выражало единственное желание – сдержать внезапный приступ смеха; зажимая обеими ладошками рот, она пряталась за спину матери, а та, не оборачиваясь, досадливо махала ей рукой, и чувствовалось, что девочке стоит больших усилий не расхохотаться во весь голос. Лицо у нее было свежее, бело-розовое и круглое, носик чуть-чуть толстоват, ротик тоже, подбородок пухленький, тонкие брови, светлые глаза и роскошные белокурые волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы, круглая и крепкая шейка; гладкий и белый лоб – настоящая кранаховская девушка {14} .
При появлении дам Кристоф остолбенел. Ему бы бежать, а он стоял, как пригвожденный, на своей тумбе, широко открыв рот, и только когда дама направилась в его сторону, все так же мило и насмешливо улыбаясь, он вышел из оцепенения и спрыгнул, вернее, рухнул на тротуар, а со стены посыпались увлеченные его падением куски известки. Он услыхал, как ласковый голос окликнул его: «Мальчик», – и вслед за этим взрыв ребячьего смеха, такого ясного и мелодичного, будто пение птички. Прыгая с тумбы, Кристоф упал на четвереньки и, оглушенный падением, постоял так с секунду, потом вскочил и пустился со всех ног, как будто за ним гнались. Его мучил стыд; даже когда он остался один в своей комнатушке, приступы острого стыда еще долго находили на него. С этого дня он стал избегать любимой улочки из какого-то нелепого страха, словно там за стеной кто-то выслеживает его. И когда случайно ему приходилось сворачивать на знакомую улочку, он шел, держась как можно ближе к ограде, не подымал головы, чуть не бежал бегом, не смея оглянуться. И, однако, он не переставал думать о двух незнакомках, которых он видел тогда; не раз забирался он на чердаки, сняв башмаки, чтобы случайно не затопать, часами глядел в слуховое окошко на дом и сад Керихов, хотя прекрасно знал, что отсюда видны лишь пышные кроны деревьев да труба на крыше.
Примерно месяц спустя он выступал на вечере в Hof Musik Verein’e – вечера эти устраивались еженедельно – с концертом собственного сочинения для фортепиано и оркестра. Он уже доигрывал последнюю часть, как вдруг увидел прямо перед собой в ложе г-жу Керих с дочерью; обе пристально смотрели на него. Меньше всего на свете Кристоф ждал их появления здесь, в концертном зале, и смешался так, что чуть было не пропустил очередное вступление. Конец вещи он играл, как автомат. После концерта он заметил (хоть и старался не смотреть в сторону ложи), что дамы Керих аплодируют, и аплодируют, явно желая привлечь его внимание. Кристоф поспешил скрыться за кулисы. Выходя из театра, он чуть не наткнулся в коридоре на г-жу Керих; она, видимо, поджидала юного музыканта, но их разделила толпа. Невозможно было не увидеть ее, и, однако же, Кристоф притворился, что не видит, круто повернулся и ускользнул из театра через служебный выход. Потом он горько корил себя за глупое бегство: ведь совершенно очевидно, что г-жа Керих ему не враг, и все-таки он знал, что, повторись эта сцена, повторилось бы и бегство. А как он боялся встретиться с ней случайно на улице! Заметив издали женскую фигуру, напоминавшую г-жу Керих, он быстро сворачивал в переулок.
Она сама первая напомнила о себе Кристофу.
Однажды утром Луиза, сияя от гордости, сообщила за столом, что к ним приходил лакей в ливрее с письмом, адресованным Кристофу, и вручила сыну длинный конверт с черной траурной каймой, в углу которого был вытеснен герб Керихов. Кристоф вскрыл письмо и, дрожа от волнения, прочел следующие строки:
«Госпожа Иозефина фон Керих просит господина придворного музыканта Кристофа Крафта пожаловать к ней на чашку чая сегодня в пять тридцать».
– Не пойду, – заявил Кристоф.
– Как не пойдешь! – воскликнула Луиза. – А я сказала, что ты будешь.
Кристоф устроил матери бурную сцену: он упрекал ее за то, что она вмешивается в дела, которые ее не касаются.
– Лакей ждал ответа. Я ему уже сказала, что сегодня ты свободен. Ведь в пять часов у тебя уроков нет.
И как ни кипятился Кристоф, как ни клялся, что никуда не пойдет, все пути отступления были отрезаны. Когда подоспело время визита, он, ворча, стал одеваться; в глубине души он не так уж сетовал на то, что его нежеланию пришлось отступить перед всемогуществом случая.
Тогда, в театре, г-жа Керих без особого труда узнала в музыканте, исполнявшем концерт собственного сочинения, того всклокоченного мальчугана, который с дикарским любопытством заглядывал к ним через ограду в день ее приезда. Она расспросила соседей, и то, что она узнала о семье Крафтов, о трудной и достойной жизни Кристофа, пробудило в ней интерес к мальчику и желание побеседовать с ним.
Кристоф, нелепо напыщенный, в новом длиннополом сюртуке, чем-то похожий на деревенского пастора, позвонил у дверей Керихов, жестоко страдая от застенчивости. Он старался уверить себя, что мать и дочь не успели его хорошенько разглядеть в тот злополучный день. Он шел за лакеем по длинному коридору; толстый ковер заглушал шум его шагов. Его ввели в гостиную, стеклянная дверь которой выходила в сад. С утра накрапывал мелкий холодный дождик, и в камине весело пылал огонь. Возле окна, за которым мокли деревья, окутанные туманом, сидели обе хозяйки; г-жа Керих при появлении Кристофа положила на колени вязание, а ее дочь – книгу. Кристоф заметил, что обе обменялись лукавым взглядом. «Узнали», – подумал он, смутившись, и сделал неуклюжий поклон, вложив в него все свое умение.

Госпожа Керих весело улыбнулась и протянула Кристофу руку.
– Здравствуйте, дорогой сосед, – произнесла она. – Очень рада вас видеть. Мне так хотелось сказать вам, какое вы тогда, на концерте, доставили нам удовольствие. А так как иного средства сказать вам об этом у меня не было, я и пригласила вас к себе. Надеюсь, вы на меня за это не посетуете.
В банально любезных словах было, однако, столько сердечного чувства, чуть приправленного иронией, что Кристоф воспрянул духом.
«Не узнали», – подумал он, облегченно вздохнув.
Госпожа Керих указала на дочь, которая, захлопнув книгу, с любопытством глядела на гостя.
– Моя дочка, Минна, тоже очень хотела вас видеть, сказала она.
– Но, мама, – возразила девочка, – мы ведь видимся не в первый раз.
И она расхохоталась.
«Узнали», – подумал в отчаянии Кристоф.
– Правда, не впервые, – подтвердила г-жа Керих со смехом, – в день нашего приезда вы уже нанесли нам визит.
При этих словах девочка засмеялась еще громче. Но у Кристофа сразу стал такой несчастный вид, что, вскинув на него глаза, Минна просто зашлась от смеха. Хохотала она, как безумная, – до слез. Мать хотела было ее остановить, но сама не могла удержаться от смеха, и Кристоф, как ни был он смущен, невольно начал вторить им. Смеялись дамы Керих так искренне, так безудержно, что нельзя было на них обидеться. Однако Кристоф окончательно растерялся, когда Минна между двумя взрывами хохота спросила его, что он делал на их заборе. Девочка, видимо, забавлялась его смущением, а он растерянно бормотал что-то невнятное. Наконец г-жа Керих пришла к нему на помощь и переменила разговор, приказав подать чай.
Она дружески расспрашивала Кристофа о его жизни. Но он никак не мог прийти в себя. Он не знал, как сесть, как держать чашку, которая грозила опрокинуться; всякий раз, когда ему предлагали чаю, молока, сахару или печенья, он считал необходимым вскакивать со стула и с поклоном благодарить хозяйку; и стоял – прямой, затянутый в свой новый сюртук, не смея повернуть шею, скованную, словно броней, галстуком и воротничком, не рискуя оглянуться ни вправо, ни влево, ошеломленный градом настойчивых вопросов г-жи Керих и непринужденностью ее манер, леденея под взглядами Минны, которые подмечали все – и его лицо, и его руки, и каждое его движение, и костюм, и каждый жест. И чем больше хозяйки старались приручить Кристофа, тем больше смущали его, – г-жа Керих неудержимым потоком слов, а Минна кокетливыми взглядами, которые она бросала на гостя просто так, для развлечения.
Наконец хозяйки отказались от попытки заставить Кристофа разговориться: он только кланялся и произносил «да» и «нет»; г-жа Керих, на долю которой выпала вся тяжесть светской беседы, утомилась и попросила Кристофа сыграть. Кристоф, куда более смущенный, чем на концерте, при многочисленной публике, сыграл адажио Моцарта. Но смущение, даже смятение, которое он испытывал в присутствии двух этих женщин, молодой, наивный трепет, наполнявший его грудь волной тревоги и счастья, так полно сочетались с нежной, юношеской чистотой моцартовского адажио, что под его пальцами оно зазвучало с особой прелестью – прелестью весны. Г-жа Керих была растрогана и высказала это Кристофу в несколько преувеличенно лестных выражениях, столь обычных в устах светских людей; и тем не менее она была искренна, к тому же из любезных уст приятно слушать похвалу, пусть даже неумеренную. Лукавая Минна молчала и удивленно поглядывала на мальчика, такого ненаходчивого во время разговора и такого красноречивого за роялем. Кристоф почувствовал симпатию хозяек и расхрабрился. Он снова начал играть, потом, полуобернувшись к Минне, робко сказал, смущенно улыбаясь и не подымая глаз:
– Вот что я тогда делал на вашей ограде.
Кристоф сыграл небольшую вещицу, навеянную – тут он не солгал – любимым садом, на который он не мог наглядеться со своей тумбы, но написанную, по правде говоря, много раньше, а вовсе не в тот вечер, когда он увидел дам Керих; однако он сам старался убедить себя в обратном, – зачем, из каких неясных побуждений – это было известно лишь его сердцу. В спокойном, убаюкивающем ритме andante con moto звучало безмятежное пение птиц, шорохи летних полей, величественный шелест деревьев-великанов в мирных лучах заката.
Обе слушательницы пришли в восхищение. Когда Кристоф кончил играть, г-жа Керих поднялась с места, с обычной своей живостью подошла к музыканту, схватила обе его руки и горячо поблагодарила. Минна весело захлопала в ладоши и заявила, что это «просто восхитительно»; а так как ей очень хочется, чтобы он написал еще такие же «изумительные» произведения, она велит приставить к ограде лестницу, – пусть Кристоф работает, когда ему угодно. Г-жа Керих сказала Кристофу, чтобы он не слушал эту безумицу Минну: но, в свою очередь, пригласила его в любое время дня приходить к ним, раз ему так нравится в саду, и добавила, что вовсе не обязательно заглядывать в дом, если ему этого не хочется.
– Конечно, можете не заходить к нам, – сочла необходимым добавить Минна. – Только если вы не придете, смотрите, берегитесь!
И сердито погрозила пальчиком.
Вовсе Минне не так уж сильно хотелось, чтобы Кристоф ходил к ним в гости, даже не хотелось заставить его подчиняться приличиям, но приятно было сознавать, что она производит на гостя впечатление, и впечатление, как подсказывал ей инстинкт, самое хорошее.
Кристоф покраснел от удовольствия. Г-жа Керих окончательно приручила его – с таким тактом расспрашивала она мальчика о Луизе и дедушке, которых знала еще по прежним своим приездам в их город. Милая сердечность обеих дам Керих возымела желанное действие: Кристоф был даже склонен преувеличивать эту их привычную благожелательность, так хотелось ему верить в глубину этих чувств. С наивным доверием рассказывал он теперь о своих планах, о своих горестях. Он не заметил, как прошло время, и в изумлении вскочил с места, когда лакей доложил, что кушать подано. Но смущение его тотчас сменилось восторгом: г-жа Керих попросила его отобедать вместе с ними, – они ведь, сказала она, уже добрые друзья. Кристофа усадили между матерью и Минной; за столом он проявил куда меньше блеска, чем за роялем. Надо сказать, что этой стороной воспитания в семье Крафтов пренебрегали; Кристоф искренне считал, что главное за столом есть и пить, а как – это уж второстепенное дело, но чистюля Минна возмущенно поглядывала на гостя.
Хозяйки, очевидно, надеялись, что после обеда Кристоф откланяется, но он поплелся за дамами в гостиную, удобно уселся в кресло и, как видно, отнюдь не собирался уходить. Минна зевала в ладошку и умоляюще поглядывала на мать. Но Кристоф ничего не видел – он был опьянен счастьем и полагал, что и остальные испытывают то же самое. Отчасти виновна была в этом и сама Минна, которая, посматривая на Кристофа, по привычке строила глазки, а кроме того, заняв сидячее положение, Кристоф уже не знал, как встать с места, под каким предлогом уйти. Так бы он и просидел всю ночь, если бы г-жа Керих с милой бесцеремонностью не выпроводила его сама.
Кристоф шел домой, чувствуя на себе ласкающий взгляд карих глаз г-жи Керих и голубеньких глазок Минны; он ощущал прикосновение тонких и нежных, как лепестки цветка, пальцев и уносил с собой еле уловимый, неведомый ему аромат, который обволакивал его, кружил голову, доводил чуть не до обморока.
Через два дня, как и было условлено, Кристоф снова явился к Керихам – дать Минне первый урок на фортепиано. С этого дня он приходил к Керихам дважды в неделю, по утрам, на урок, а нередко заглядывал к ним и вечерами – поиграть и поговорить.
Госпожа Керих, женщина добрая и умная, охотно принимала Кристофа. В тридцать пять лет она потеряла мужа и, сохранив молодость души и тела, без сожаления отдалилась от развлечений, хотя имела в свете большой успех. Быть может, ей далось это тем легче, что она уже насладилась ими: она здраво рассудила, что нельзя одновременно иметь то, что есть, и то, что было. Она почитала память покойного г-на Кериха не потому, что испытывала к нему какое-либо иное чувство, кроме настоящей дружбы, даже в первые годы их брака, – просто она была женщина спокойных чувств и любящего ума. Г-жа Керих посвятила себя воспитанию дочери, но та же самая сдержанность, которую она вносила в супружество, смягчала излишне чувствительную и болезненную восторженность материнства, столь, впрочем, естественную, когда на ребенка – и только на ребенка – мать переносит ревнивую потребность любить и быть любимой. Она очень любила Минну, но судила о ней вполне трезво, не скрывая от себя ее недостатков, точно так же, как не строила никаких иллюзий и на свой собственный счет. Умная и тонкая, она безошибочным глазом с первой встречи обнаруживала смешные или слабые стороны человека, и обнаруживала их с искренним удовольствием, без малейшего злорадства, ибо она была столь же снисходительна, сколь и насмешлива, и, подтрунивая над ближними, охотно оказывала им услуги.
Юный Кристоф дал г-же Керих богатую пищу для проявления как ее доброты, так и критического чувства. В первое время пребывания в маленьком прирейнском городке Кристоф был для нее почти единственным развлечением, так как из-за траура она не поддерживала светских знакомств. И прежде всего ее привлекал талант Кристофа. Не будучи сама музыкантшей, г-жа Керих любила музыку; когда она слушала музыку, ее душа и тело погружались в нирвану, а мысли лениво замирали в приятной меланхолии. Усадив Кристофа за рояль, она устраивалась возле камина с работой в руках и, неопределенно улыбаясь, наслаждалась бесшумным проворством своих пальцев и почти таким же машинальным движением мысли, обращенной к печальным и к светлым воспоминаниям.
Но куда больше, чем музыкой, она интересовалась самим музыкантом. Г-жа Керих была достаточно развитой, чтобы понять, как счастливо одарен Кристоф, хотя вряд ли была способна угадать неповторимость его дара. Ей любопытно было следить, как пробуждается в молодой душе таинственный пламень. Ей не потребовалось много времени, чтобы оценить нравственные достоинства Кристофа, его прямоту, мужество, даже стоицизм, столь трогательный в ребенке. И тем не менее она смотрела на Кристофа неизменно проницательным взглядом своих умных и насмешливых глаз. Ее забавляли его неловкость, смешное и некрасивое лицо, его невинные причуды; она не принимала его особенно всерьез, – впрочем, она мало что принимала всерьез. Нелепые выходки Кристофа, его необузданность, своевольный нрав – все это наводило ее на мысль, что он натура неуравновешенная; впрочем, она считала, что таким и положено быть отпрыску Крафтов, людей хоть и порядочных и хороших музыкантов, но немножко взбалмошных.
Кристоф не замечал этой легкой иронии; он видел только доброту г-жи Керих. Ведь он так не привык к доброте, особенно в отношении себя. Хотя по своему положению придворного музыканта Кристоф имел немало случаев встречаться с людьми светскими, бедняга остался тем, чем и был, – маленьким дикарем, невоспитанным и невежественным. Если во дворце снисходили до Кристофа, то лишь затем, чтобы эгоистически использовать его талант, но до самого музыканта никому не было дела. Кристоф приходил во дворец, сразу же садился за рояль, играл и, окончив играть, уходил домой; и ни разу никто не дал себе труда поговорить с ребенком, разве что иногда ему бросали на ходу банальный комплимент. Никто ни в семье, ни вне семьи со смертью дедушки ни разу не подумал, что ему нужно помочь учиться, направить в жизни, помочь стать человеком. Кристоф жестоко страдал от своего невежества и грубых своих манер. Он из кожи лез вон, стремясь воспитать себя, но тщетно. Ему не хватало книг, общения с людьми, примера – всего не хватало. Как бы хотелось ему пожаловаться на свое горе другу, но он не мог. Даже милому Отто – не мог, потому что после первых же слов Кристофа тот сразу принимал тон презрительного превосходства и словно каленым железом касался наболевшей раны Кристофа.
А вот с г-жой Керих все стало легко. Она сама, без всяких просьб с его стороны, – а что значили для Кристофа просьбы при его-то гордыне! – сама незаметно, но настойчиво указывала мальчику, чего не надо делать, учила тому, что делать полезно, давала советы насчет костюмов, манер, походки, разговора, не прощала ему ни одной погрешности в обращении, языке или во вкусах; и оскорбляться было невозможно – так нежно было прикосновение направляющей руки, так заботливо щадила она легко уязвимое детское самолюбие. Так же незаметно, словно ни во что не вмешиваясь, следила она за чтением Кристофа; делала вид, что ее ничуть не удивляет его чудовищное невежество, но при каждом удобном случае указывала на его промахи – и все это так спокойно, так просто, словно нет и не было ничего удивительного в том, что он ошибается; не отпугивая мальчика скучными наставлениями, она посвящала вечера делу, заставляя Минну или Кристофа читать вслух увлекательные книги по истории или стихи немецких и иностранных поэтов. Относилась она к Кристофу, будто к родному, а покровительственно-фамильярного тона он не замечал. Даже его туалетом она занималась: кое-что подновила, связала ему шерстяной шарф, подарила несколько необходимых пустячков и делала все так мило, что Кристоф, не стесняясь, принимал ее заботы и ее подарки. Короче говоря, г-жа Керих относилась к Кристофу с вниманием и нежностью почти материнскими, как, впрочем, относятся все незлые женщины к ребенку, которого им доверили или который доверился им, что отнюдь, однако, не предполагает глубокого чувства. Но Кристоф верил, что вся ее нежность направлена на него лично, и расцветал от благодарности; излияния его, внезапные и страстные, казались г-же Керих немножко смешными, но все же доставляли удовольствие.








