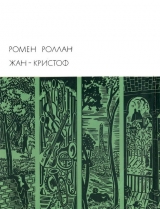
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 57 страниц)
Единственным спасением было бы найти истинного друга, хотя бы ту же Розу, но он сам оттолкнул ее дружбу. Крафты и Фогели окончательно рассорились. Они теперь не встречались. Только раз Кристоф увидел Розу. Она выходила из церкви. Он побоялся подойти к ней, но она, заметив Кристофа, сделала шаг в его сторону. Когда же он, расталкивая богомольцев, степенно спускавшихся с лестницы, стал пробираться к Розе, она вдруг отвела взор и, холодно поклонившись, прошла мимо. Кристоф понял, что в ее юном, девичьем сердце живет ледяное и неизбывное презрение. Но он не понял, что она все еще любит его и хотела бы сказать ему о своей любви, хоть и клеймит себя за это дурацкое чувство, считает его ошибкой: Роза смотрела теперь на Кристофа как на скверного, испорченного человека, совсем уж далекого от нее. Так они и потеряли друг друга навсегда. Возможно, к лучшему для обоих. При всей своей доброте Роза не обладала той искоркой жизни, которая требовалась, чтобы понять Кристофа. Как бы Кристоф ни жаждал любви и уважения, он не выдержал бы пошленькой, ограниченной четырьмя стенами жизни без радости, без горести, без свежего воздуха. Оба они мучились бы, мучились бы оттого, что мучают друг друга. И, значит, тот несчастный случай, что развел их в разные стороны, был в конце концов для них счастливым случаем, как это бывает нередко, как это происходит всегда с теми, в ком есть сила и стойкость жизни.
Но сейчас окончательный разрыв был и для Розы и для Кристофа большим горем, настоящей потерей. Особенно для Кристофа. Эта нетерпимость добродетели, эта ограниченность чувств, которая полностью лишает разума даже людей умных и доброты – даже добряков, раздражала и оскорбляла Кристофа, и он наперекор всему начал вести вольную жизнь.
В те дни, когда Кристоф с Адой бродили по окрестным харчевням, он завел знакомство с веселыми молодыми людьми, с настоящей богемой; беспечность и свобода обращения новых знакомцев даже нравились Кристофу. Один из них, некто Фридеман, тоже музыкант – органист, значительно старше Кристофа (ему шел уже тридцатый год), – был неглуп, хорошо знал и любил музыку, однако отличался такой непроходимой ленью, что умер бы с голода, если не от жажды, но пальцем не пошевелил бы, чтобы выбиться в люди. Желая оправдать свою беспечность, он ради собственного утешения поносил людей, которые неизвестно чего ради суетятся и хлопочут, и шутки его, подчас тяжеловесные, вызывали смех. Более независимый, чем его коллеги-музыканты, Фридеман не боялся – правда, робко, намеками, подмигивая – хулить особ уважаемых, даже позволял себе роскошь не повторять вслед общеобязательных мнений насчет музыки и исподтишка любил лягнуть другую знаменитость, шумно входящую в моду. Женщин он не жаловал и шутливо повторял изречение одного монаха-женоненавистника, что «женщина есть смерть души» – «femina mors animae». А Кристоф, как никогда, смаковал этот афоризм.
В том состоянии душевного смятения, в котором жил Кристоф, беседы с Фридеманом являлись даже развлечением. Он знал ему цену; вульгарное зубоскальство нового приятеля быстро приелось Кристофу; уже после двух-трех встреч его стал раздражать насмешливый тон и упорное отрицание всего и вся, скрывавшее, в сущности, духовную никчемность, однако Фридеман был отдохновением от самодовольной глупости филистеров. Презирая в глубине души своего приятеля, Кристоф не мог уже без него обходиться. Они всюду появлялись вместе – вот они сидят в кругу собутыльников, людей опустившихся и подозрительных, фридемановских дружков, только еще ступенью ниже органиста. Целыми вечерами они резались в карты, орали, пили без конца; иногда Кристоф, словно пробудившись, вдыхал мерзкий запах колбас и табака, ошалело глядел на своих друзей, не узнавал их и тоскливо думал: «Что это со мной? Что это за люди? Зачем я с ними?»
Их остроты и смех вызывали в нем тошноту. Но встать и уйти прочь не было сил: Кристофа охватывал страх при мысли, что сейчас он очутится дома, один, глаз на глаз со своими желаниями и укорами совести. Он губил себя и знал, что губит; он искал выхода и в то же время с жестокой ясностью видел в Фридемане, словно в кривом зеркале, того человека, каким ему, Кристофу, суждено стать со временем; он проходил полосу такого душевного упадка, что даже эта страшная угроза не могла отрезвить его душу, а, наоборот, пригибала еще ниже.
Так бы он и погиб, если б только мог погибнуть. К счастью, у людей его сорта есть надежный оплот и прибежище против разложения. Не у всех оно есть – и прежде всего это сила, жизненный инстинкт, который не допускает умирания, который мудрее разума, сильнее воли. Сам того не зная, Кристоф обладал также особым любопытством художника, умел отказаться от собственной личности со страстью, – этим великим даром наделены все истинные творцы. Да, он любил, он страдал, отдавался всем своим страстям, но видел их ясно. Они были в Кристофе, однако они не были Кристофом. Мириады крошечных душ неприметно парили в нем и тяготели к какой-то неведомой, но твердо намеченной и неподвижной точке, подобно тому как влекутся звездные миры к таинственной бездне мироздания. Это состояние непрерывного и неосознанного раздвоения проявлялось с особой силой в те вихревые мгновения, когда замирает повседневная жизнь и в глубинах сна возникает око сфинкса, многообразный лик бытия. Вот уже год Кристофа преследовали сны, когда он с предельной отчетливостью чувствовал себя одновременно несколькими различными существами, подчас далекими друг от друга, разделенными материками, мирами и столетиями. Проснувшись, он долго ощущал какое-то беспокойство, будто еще продолжались видения, а откуда они – он не помнил. Как будто навязчивая идея, уходя, оставляла после себя утомительный след, необъяснимую усталость. Но пока душа его мучительно билась в тенетах повседневности, другая душа, жившая в нем, внимательно и безмятежно наблюдала за этим отчаянным борением. Он не видел этой второй души, но она отбрасывала на него свой потаенный свет. Эта вторая душа жадно и радостно старалась перечувствовать все, всем перестрадать, старалась постичь этих мужчин, этих женщин, эту землю, эти желания, эти страсти, эти помыслы, даже несущие муку, даже самые посредственные, даже нечистые; но всему этому она, вторая душа, сообщала свою светоносность, спасая Кристофа от пустоты небытия, говорила ему, – непонятно как, но говорила, – что он не совсем одинок. Это стремление быть всем и все знать, эта вторая душа как бы плотиной преграждала поток разрушительных страстей.
Она, эта душа, не очень-то помогала Кристофу, она лишь поддерживала его на поверхности вод, но она не позволяла ему выплыть собственными силами. Кристофу не удавалось разобраться в себе, овладеть собой, сосредоточиться. Любая работа валилась у него из рук. Он переживал духовный кризис, самый плодотворный за всю свою жизнь, и вся будущая его жизнь уже была здесь в зародыше, но это внутреннее богатство сплошь и рядом прорывалось пока лишь в чудачествах, так что плоды этого духовного переизбытка мало чем отличали Кристофа от нищих духом. Кристофа захлестывала жизнь. Все его силы испытывали слишком грозный напор и росли слишком быстро, все разом, все вдруг. Одна лишь воля отставала в росте, и она растерялась перед обступившими ее чудовищами. Все трещало под внутренним напором. Посторонние не замечали этого непрестанного колебания почвы, этих внутренних переворотов. Да и сам Кристоф видел лишь свое бессилие хотеть, творить и быть. Желания, инстинкты, мысли вырывались вереницей, словно серные пары из трещины вулкана. И сколько раз он думал:
«А что сейчас появится на поверхности, что станется сейчас со мной? Неужели так будет всегда, или же придет этому конец? Неужели я так ничем и не стану, никогда не стану?»
На свет вырвались наследственные инстинкты, пороки тех, кто жил до него. Кристоф стал пить.
Теперь он возвращался домой улыбающийся и удрученный, и от него пахло вином.
Бедняжка Луиза молча глядела на сына, вздыхала, боясь произнести слово, и молилась за него.
Но однажды вечером, когда Кристоф вышел из какого-то кабачка у городской заставы, он заметил на шоссе в нескольких шагах впереди смешную фигурку – это брел дядя Готфрид с вечным своим коробом за плечами. Уже несколько месяцев дядя не появлялся в их краях, да и вообще отлучки его становились все продолжительнее. Кристоф радостно окликнул его. Согнувшийся под ношей Готфрид с трудом оглянулся, посмотрел на Кристофа, нелепо размахивавшего руками, и присел на придорожную тумбу, поджидая племянника. Кристоф, с восторженно-веселой физиономией, подпрыгивая на непослушных ногах, пожал дядину руку, всем своим видом изображая неумеренную радость свидания. Готфрид пристально посмотрел на племянника и произнес:
– Здравствуй, Мельхиор.
Кристоф решил, что дядя оговорился, и громко захохотал.
«Э, сдает старик, – подумалось ему, – память теряет».
И действительно, Готфрид очень постарел, весь как-то сморщился, усох, скрючился; дышал он затрудненно и прерывисто. Кристоф продолжал свои разглагольствования. Но Готфрид молча взвалил на спину короб и тихонько побрел вперед. Так они и шли – Кристоф, делая широкие жесты и болтая всякий вздор, а Готфрид, потихоньку покашливая и не произнося ни слова. Но когда Кристоф о чем-то спросил дядю, тот, отвечая, снова назвал племянника Мельхиором. На этот раз Кристоф не выдержал:
– Дядя, да почему ты меня все время зовешь Мельхиором? Ведь ты же отлично знаешь, что меня зовут Кристофом. Неужели ты забыл?
Готфрид, не останавливаясь, вскинул на юношу глаза, отрицательно покачал головой и холодно отчеканил:
– Нет, ты Мельхиор, я тебя сразу узнал.
Кристофа словно хлыстом ударили, он застыл на месте. Готфрид потихоньку семенил по шоссе, и Кристоф молча плелся за ним. Он сразу отрезвел. Проходя мимо дверей какого-то кафе, он подошел к замызганному окну, в котором отражался неяркий свет газовых рожков и пустынная улица, и внимательно посмотрел на себя: он тоже узнал Мельхиора. Домой он пришел потрясенный.
Всю ночь – ночь тоски – он пытал себя, рылся в своей душе. Теперь он понял. Да, он узнавал теперь инстинкты и пороки, пробудившиеся в нем, и они ужасали его. Он вспомнил, как без сна сидел у ложа покойного Мельхиора, вспомнил свои обеты; он придирчиво проверял пройденный путь: каждый день был изменой его тогдашним клятвам. Чем занимался он целый год? Что сделал для своего бога, для своего искусства, для своей души? Что сделал для вечности? Он не обнаружил ни одного дня, который не был бы безвозвратно потерян, испорчен, осквернен. Ни одной ноты, ни одной мысли, ни часа усидчивого труда. Хаос желаний, взаимно уничтожающих друг друга. Ветер, пыль, небытие… Да, воля была, но что из того? Он не сделал ничего из того, что хотел сделать. Он делал то, чего не хотел делать. Он стал тем, кем не хотел быть. Таков итог его жизни.
Кристоф так и не лег в постель. В шесть часов утра – на улице было еще темно – он услышал, как дядя Готфрид готовится в дорогу, ибо Готфрид не захотел больше оставаться у них. Проходя через их городок, он по привычке заглянул к Крафтам обнять сестру и племянника, но тут же объявил, что завтра чуть свет пойдет дальше.
Кристоф спустился вниз. Готфрид увидел его бледное лицо, осунувшееся после мучительной ночи. Он ласково улыбнулся племяннику и попросил проводить его. Они вышли вместе еще до зари. Им не хотелось, да и незачем было, разговаривать – они понимали друг друга без слов. Когда они поравнялись с кладбищем, Готфрид предложил:
– Хочешь, зайдем?
Каждый раз, попав в родной городок, Готфрид навещал могилы Жан-Мишеля и Мельхиора. Кристоф не был на кладбище целый год. Дядя преклонил колени у могилы Мельхиора и сказал:
– Давай помолимся, чтоб они покоились в мире и не мучили нас.
Слова Готфрида обычно являли странную смесь предрассудков и здравого смысла; иной раз Кристоф дивился дядиным словам, но сейчас он понял его так, как нужно. Они замолчали и так же молча пошли прочь.
Когда за ними скрипнули железные ворота и они зашагали вдоль кладбищенской стены по узкой тропинке, рядом с которой расстилались зябко спящие поля, а на плечи им падали с ветвей кипарисов холодные капли таявшей изморози, Кристоф вдруг заплакал.
– Дядя, – воскликнул он, – если бы ты знал, как мне тяжело!
Он не посмел признаться дяде в печальном опыте своей любви, боясь смутить или оскорбить Готфрида, но он заговорил о своем позоре, о скудости своего дарования, о малодушии, о нарушенных обетах.
– Дядя, скажи, что делать? Я ведь хотел, я ведь боролся, а прошел целый год, я не сдвинулся ни на шаг. Куда там! Даже, отступил. Я ни на что не гожусь, ни на что не способен. Я погубил свою жизнь. Я клятвопреступник.
Они взошли на холм, откуда был виден весь городок. Готфрид мягко произнес:
– И это не в последний раз, сынок. Человек не всегда делает то, что, хочет. Одно дело жить, а другое хотеть. Не надо огорчаться. Главное, видишь ли, это не уставать желать и жить. А все остальное от нас не зависит.
Кристоф повторил с отчаянием в голосе:
– Я отрекся от всего.
– Слышишь? – спросил Готфрид.
(В деревне перекликались петухи.)
– Когда-то давно петухи пели тому, кто отрекся. Они поют каждому из нас каждое утро.
– Придет день, – горько сказал Кристоф, – и они не будут петь для меня… День без завтрашнего дня. На что уйдет моя жизнь?
– Завтра всегда есть, – возразил Готфрид.
– Но что же делать, раз хотеть бессмысленно?
– Бди и молись.
– Я не верю больше.
Готфрид улыбнулся.
– Если бы ты не верил, ты бы не жил. Все верят. Молись.
– А кому молиться, о чем?
Готфрид показал на ярко-красное холодное солнце, поднимавшееся над горизонтом.
– Почитай каждый встающий день. Не думай о том, что будет через год, через десять лет. Думай о сегодняшнем дне. Брось все свои теории. Видишь ли, все теории – даже теории добра – все равно скверные и глупые, потому что причиняют зло. Не насилуй живую жизнь. Живи сегодня. Почитай каждый встающий день. Люби его, уважай, не губи его зря, а главное, не мешай ему расцвести. Люби его, если даже он сер и печален, как нынче. Не тревожься. Взгляни-ка. Сейчас зима. Все спит. Но добрая земля проснется. А значит, будь, как эта земля, добрым и терпеливым. Верь. Жди. Если ты сам добр, все пойдет хорошо. Если же ты недобр, если слаб, если тебе не повезло, ничего не поделаешь, все равно будь счастлив. Значит, большего сделать ты не можешь. Так зачем желать большего? Зачем убиваться, что не можешь большего? Надо делать то, что можешь… Als ich kann.
– Это слишком мало, – поморщился Кристоф.
Готфрид ласково рассмеялся.
– Это больше, чем под силу человеку. Ты, я вижу, гордец. Хочешь быть героем, поэтому-то и делаешь глупости… Герой!.. Я не знаю, что такое герой. Но, видишь ли, я считаю так: герой – это тот, кто делает то, что может. А другие не делают.
– Ах, – вздохнул Кристоф, – к чему же тогда жить? Не стоит жить. Ведь говорят же люди: хотеть – это мочь.
Готфрид снова тихонько засмеялся.
– Разве? Значит, сынок, это лгуны, да еще какие. Или хотят они не очень многого.
Они взошли на вершину холма и горячо обнялись. Скоро скрылась из виду фигура дяди, устало шагавшего под тяжестью короба. А Кристоф стоял неподвижно, глядя вслед Готфриду, и повторял про себя:
«Als ich kann». («Так, как я могу».)
И, улыбнувшись, подумал:
«Да, ничего не поделаешь. И это уже немало».
Он повернул в обратный путь. Слежавшийся снег хрустел под ногами. Пронзительный зимний ветер трепал обнаженные ветви корявых дубков, росших на вершине холма. От этого ветра разгорались щеки, он жег кожу, взбадривал кровь. Там, внизу, под ногами Кристофа, красные черепичные крыши весело блестели в ярком холодном солнце. Воздух был свежий и крепкий. Скованная морозом земля, казалось, ликовала суровым ликованием. Сердце Кристофа вторило ей. Он думал:
«Я тоже проснусь».
На глазах его еще стояли слезы. Он вытер их обшлагом рукава и, смеясь, посмотрел на солнце, которое пряталось в завесу тумана. Тяжелые тучи, набухшие снегом, шли над городом, подгоняемые порывами бури. Кристоф показал им нос. Ледяной ветер свистел в ушах…
– Дуй, дуй!.. Делай со мной все, что хочешь! Уноси меня!.. Я знаю, куда пойду.
Книга четвертаяБУНТ
Перевод Р. Розенталь
На пороге нового этапа «Жан-Кристофа», этапа, где звучит довольно резкая критика, способная задеть читателей любого направления, я прошу моих друзей и друзей Жан-Кристофа не считать наших суждений окончательными. Каждая из наших мыслей – это только определенный момент нашей жизни. Разве не затем мы живем, чтобы исправлять ошибки, преодолевать предрассудки, добиваться широты ума и сердца? Терпение! Окажите нам доверие, если даже мы ошибаемся. Осознав свои ошибки, мы посмотрим на них еще суровее, чем вы сами. Каждый день мы стремимся хоть немного приблизиться к истине. Когда дойдем до конца пути, тогда и судите о наших усилиях. Как гласит старинная пословица: «Конец венчает жизнь, как вечер – день».
Р. Р.
Ноябрь 1906 г.
Зыбучие пески
Свободен!.. Свободен от себя и других!.. Сеть страстей, целый год оплетавшая его, вдруг порвалась. Как это произошло? Он и сам не знал. Он вдруг вырос, и петли поддались мощному напору его «я». Это был один из тех кризисов роста, когда здоровые натуры единым могучим движением сбрасывают вчерашнюю, уже омертвевшую, оболочку, в которой они задыхались, – свою прежнюю душу.
Кристоф, еще не понимая, что же произошло, дышал полной грудью. Когда он возвращался домой, проводив Готфрида, под аркой городских ворот бушевала ледяная вьюга. Уклоняясь от ее порывов, прохожие втягивали голову в плечи. Девушки, торопившиеся на работу, ожесточенно сражались с ветром, который трепал их юбки: они останавливались, чтобы отдышаться, щеки и нос у них горели, взгляд был сердитый, они с трудом удерживались от слез. Кристоф смеялся от радости. Шквала он не замечал. Он думал о другом шквале, от которого только что спасся. Он смотрел на зимнее небо, на укутанный снегом город, на людей, сражавшихся с ветром; смотрел вокруг себя, в себя: ничто не связывало его ни с чем. Он был одинок… Одинок! Какое счастье быть одиноким, принадлежать себе! Какое счастье стряхнуть с себя свои цепи, боль воспоминаний, неотвязные, как бред, любимые или ненавистные образы! Наконец он живет, наконец он не добыча жизни, а хозяин ее!
Кристоф пришел домой весь в снегу. Он весело встряхнулся, как мокрый пес. Подойдя к матери, которая мела коридор, он обхватил ее и приподнял, что-то ласково выкрикивая, будто играл с ребенком. Старая Луиза беспомощно барахталась в объятиях сына, облепленного таявшим снегом; она обозвала его дуралеем и залилась добрым, детским смехом.
Кристоф в одно мгновение взлетел по лестнице в свою комнату. Он едва различал свое отражение в маленьком зеркале – так сумрачен был дневной свет. Но сердце его ликовало. Тесная, низкая комната, в которой негде было повернуться, показалась ему целым королевством. Кристоф заперся на ключ и даже рассмеялся от удовольствия. Наконец-то он найдет себя! Как давно он себя потерял! Ему не терпелось уйти в свои мысли. Они были – как большое озеро, сливавшееся вдали с золотистой дымкой. После ночи, проведенной без сна, в лихорадке, он стоит на берегу, ноги его лижет студеная вода, тело обдает теплым утренним ветерком. Он бросается вплавь, не зная, куда приплывет, – да и не все ли равно? Радостно отдаваться на волю волн. Он молча смеялся и слушал тысячи голосов, звучавших в его душе, – казалось, в ней роились бесчисленные живые существа. Напрасно Кристоф силился разобраться в этом хаосе, – голова кружилась, рождалось ощущение бурного счастья. Радостно было чувствовать в себе эти неведомые силы. Он испытает свое могущество позднее, решил он беспечно, а пока что, застыв, горделиво упивался своим внутренним цветением, вдруг прорвавшимся, как нежданная весна после долгих месяцев прозябания.
Мать звала его завтракать. Он спустился вниз, чувствуя себя оглушенным, словно наглотался свежего воздуха; он так сиял от радости, что Луиза спросила, что с ним. Вместо ответа он обнял мать за талию и закружился с нею вокруг стола, на котором дымилась миска с супом. Луиза, запыхавшись, крикнула, что он сошел с ума. Вдруг она всплеснула руками.
– Боже мой! – сказала она, с беспокойством глядя на сына. – Ручаюсь, что он опять влюбился.
Кристоф расхохотался. Он подбросил в воздух салфетку.
– Влюбился?! – воскликнул он. – О, боже! Нет, нет, хватит! Можешь не тревожиться. С этим кончено, кончено, на всю жизнь кончено! Уф!
Он залпом выпил стакан воды.
Луиза, успокоившись, смотрела на него, покачивала головой и посмеивалась.
– Утром пьяница клянется, а к вечеру напьется, – сказала она.
– Что же, и то дело, – ответил он добродушно.
– Конечно, – отозвалась Луиза. – Ну, так чему ж ты радуешься?
– Радуюсь – и все тут!
Кристоф уселся напротив матери, положил локти на стол и принялся рассказывать обо всем, что он собирается сделать в жизни. Луиза любовно и недоверчиво слушала; она тихонько напомнила сыну, что суп остынет. Кристоф знал, что мать не вникает в его речи, но не смущался этим. Ведь говорил он для себя.
Они с улыбкой смотрели друг на друга: он рассказывал, она не слушала. Луиза хоть и гордилась своим сыном, но не придавала большого значения планам юного музыканта. Она думала: «Он счастлив – чего же мне еще?» Кристоф, хмелея от собственных речей, смотрел на милое лицо матери, на строгую черную косынку, повязанную вокруг головы, на седые волосы, молодые глаза, с любовью устремленные на него; вся она дышала добротой и спокойствием. Кристоф читал ее мысли. Он шутливо заметил:
– Тебе не интересно то, что я рассказываю? Да?
Она неуверенно возразила:
– Что ты! Очень интересно!
Он поцеловал ее.
– Нет, не интересно! Брось, не оправдывайся, ты права. Только люби меня, а понимания мне не надо. Ни твоего, ни чьего бы то ни было. Теперь я ни в ком и ни в чем не нуждаюсь: все во мне самом…
– Ну, вот! – сказала Луиза. – Новое помешательство… Но если уж обязательно надо сходить с ума, то, по мне, лучше так.
Какое блаженство отдаться потоку своих мыслей!.. Растянувшись на дне лодки, весь облитый солнцем, подставив лицо поцелуям свежего, бегущего по воде ветра, Кристоф, точно подвешенный в воздухе, засыпает. Из глубины вод легкие толчки передаются лодке, телу Кристофа. Рука его небрежно опускается в воду. Кристоф приподымается; как бывало в детстве, он следит, прижавшись подбородком к борту, за пенящейся струей. В воде поблескивают какие-то странные существа – быстрые, как молния. Еще и еще… и каждый раз все новые, непохожие на прежних… Кристоф смеется – оказывается, это причудливое зрелище развертывается в нем самом; он смеется своим мыслям; у него нет потребности задерживать внимание на какой-нибудь из них. К чему выбирать, когда их тысячи, этих мечтаний! Время терпит… После… Стоит ему только пожелать – и он закинет сеть, он поймает эти диковинные существа, светящиеся в воде… Пусть уносятся… После…
Лодка плывет, подгоняемая теплым ветром и еле заметным течением. Покой, солнце, тишина…
Но вот Кристоф лениво закидывает сети. Он провожает их взглядом, склонясь над журчащей водой, пока они не уходят вглубь. Несколько минут он ждет в оцепенении – и неторопливо вытаскивает их. Чем ближе к поверхности, тем они тяжелее; прежде чем вытащить сети, Кристоф останавливается перевести дух. Он знает, что добыча у него в руках, но не знает какая; пусть же подольше тянется радость ожидания.
Наконец он решился: из воды появляются рыбы в радужных панцирях; они извиваются, как сплетенные в клубок змеи. Он с любопытством следит за ними взглядом, перебирает их; ему хочется одно мгновение подержать в руках самую яркую, но, едва он достает ее из воды, краски тускнеют, расплываются у него в руках. Он снова бросает ее в воду и начинает вылавливать других. Куда заманчивее рассмотреть все эти зыбящиеся в нем мечты одну за другой, чем удержать какую-нибудь из них, – разве они не прекраснее, когда вольно плавают в прозрачной воде озера?..
Он поймал их немало, и все были разные, одна другой причудливее. Мысли без пользы накоплялись месяц за месяцем, и это неистраченное богатство душило его… Все здесь было смешано в кучу, словно на чердаке или в лавке еврея-старьевщика, где свалены вместе и редкости, и дорогие ткани, и ржавое железо, и лохмотья. Он не умел отобрать самое ценное: все тешило его. Это были аккорды, тихие, как шепот, краски, звеневшие, как колокола, созвучия, напоминавшие жужжание пчел, иной раз – мелодии, улыбающиеся подобно устам влюбленных. Это были смутные, как видения, картины природы, лица, страсти, души и характеры, литературные замыслы, метафизические идеи. Это были грандиозные и неосуществимые проекты, сочинения в четырех, в десяти частях, притязающие все живописать языком музыки, объять все миры. Чаще всего это были неясные, но яркие ощущения, вдруг рожденные какой-нибудь безделицей, звуком голоса, лицом прохожего, плеском дождя, внутренним ритмом. Многие из этих замыслов выражались только в названии; некоторые были намечены двумя-тремя штрихами – этого было достаточно. Как все очень молодые люди, Кристоф верил, что задуманное уже создано.
Но Кристоф был слишком полон жизненных сил, и не ему было довольствоваться туманными видениями. Это мнимое обладание утомило его, и он решил приручить свои мечты. С чего начать? Все казались ему одинаково ценными. Он их ворошил, перебирал, отбрасывал и снова схватывал… Нет, он не мог их снова схватить: это уже были не те, что прежде, их нельзя было дважды поймать, они то и дело менялись прямо на глазах, пока он всматривался в них. Следовало действовать быстро, а это не получалось, и он стыдился своей медлительности: ему хотелось совершить все в один день, а между тем всякий пустяк давался ему с огромным трудом. И что хуже всего – ему сразу же становилось скучно. Мечты сменялись мечтами, и сам он менялся: создавая одно, он жалел, что не взялся за другое. Стоило ему остановить внимание на одном из своих замечательных замыслов, и этот замысел начинал казаться ему незначительным. Так все его сокровища оставались втуне. Его идеи жили только до тех пор, пока он не прикасался к ним. Все, к чему ему удавалось притронуться, тотчас же гибло. Это были муки Тантала: перед ним лежали плоды, но стоило протянуть к ним руку, и они превращались в камень. У самых его губ журчала студеная вода, но, как только он склонялся к ней, она убегала.
Кристоф решил для утоления жажды припасть к источникам, завоеванным уже раньше, – к своим прежним произведениям. Тошнотворный напиток! Глотнув, он с бранью сплюнул. Как, эта тепленькая водица, эта пошлая музыка создана им? Кристоф стал читать свои сочинения одно за другим. Это чтение ужаснуло его: он теперь ничего не понимал, он даже не понимал, как мог это написать. Он заливался краской. После одной особенно бессмысленной страницы, он даже оглянулся – нет ли кого поблизости? – и зарылся головой в подушку, как пристыженный ребенок. А иногда его сочинения казались ему таким карикатурно-смешным вздором, что он забывал, кто их автор.
– Вот идиот! – восклицал он и громко хохотал.
Но особенно его поразили пьесы, в которых ему хотелось выразить страстные чувства – страдания или радости любви. Он вскакивал с места, ударял кулаком об стол, бил себя по голове, гневно рычал; он осыпал себя бранью, обзывал свиньей, ничтожеством, животным, паяцем, пока не истощал весь запас ругательств. Он становился перед зеркалом, багровый от крика, и, зажав в кулаке подбородок, говорил:
– Полюбуйся, кретин, своей ослиной мордой. Я тебя проучу, ты у меня закаешься врать, негодяй! Умойтесь, сударь, свежей водой.
Кристоф совал голову в таз и держал ее в воде, пока не начинал задыхаться. Тогда он поднимался, красный, вытаращив глаза, пыхтя, как тюлень, и стремительно бросался к столу, не потрудившись даже вытереть лужу, которая растекалась по полу. Он хватал проклятые ноты и со злобой рвал их на куски, бормоча:
– Вот тебе, негодяй. Вот! Вот!
И ему становилось легче.
Кристофа особенно бесила в его музыке ложь. Ни проблеска искреннего чувства. Затверженные фразы, трескучее краснобайство школьника. О любви он говорил, как слепой о цветах. Он рассказывал о ней с чужих слов и повторял ходячие пошлости. Да и не только любовь – все человеческие страсти послужили ему лишь предлогом для декламации. А ведь он всегда силился быть искренним. Но хотеть мало, – надо еще уметь быть искренним. А где почерпнуть это умение, пока ничего не знаешь о жизни? Именно жизненные испытания, через которые он прошел за последние полгода, и обнажили всю фальшь его произведений; именно они внезапно легли рубежом между ним и его прошлым. Он перестал жить призраками; теперь у него была реальная мерка, к которой он прибегал, чтобы судить о лживости или правдивости своих мыслей.
Полный отвращения к своим старым произведениям, рожденным бесстрастной душой, Кристоф, как всегда преувеличивая, решил ничего не писать, пока его не призовет веление страсти. И, отрешившись от погони за идеями, он поклялся навеки расстаться с музыкой, пока не почувствует, что не может не творить, как не может не греметь гром.
Кристоф говорил так, потому что твердо знал: гроза близка.
Молния ударяет, когда хочет и где хочет. Но ее с особенной силой притягивают вершины. Есть местности, есть души, где сшибаются грозы: здесь они возникают, сюда их влечет, как магнитом; и, подобно некоторым месяцам в году, есть возрасты, так сильно насыщенные электричеством, что молния непременно ударяет в свой час, хочешь ты этого или не хочешь.
Все душевные силы напряжены. Буря собирается уже много дней. Белое небо застлано жарким ватным покровом. Ни дуновения. Воздух недвижен, но в нем что-то накипает, бродит. Оцепеневшая земля безмолвствует. Голова гудит, точно в горячке, и, по мере того как накопляются взрывчатые силы, природа все нетерпеливее ждет разряда, когда тяжело поднявшийся молот вдруг ударит по наковальне скрытого тучами неба. Скользят длинные тени, мрачные, горячие; подул огненный ветер; нервы трепещут, подобно листьям… И снова все стихает. Гроза медлит и медлит, как будто собираясь с силами.
Есть в этом ожидании какое-то мучительное упоение. Томит тоска, и все же слышишь, как по жилам разливается тот же огонь, что сжигает вселенную. Охмелевшая душа кипит в этом горне, точно виноград в чане. Мириады зародышей жизни и смерти взрыхляют ее. Чем они станут? Этого она не знает. У нее, как у беременной женщины, взгляд обращен внутрь; она тревожно прислушивается к содроганию жизни в лоне своем и думает: что же родится от меня?








