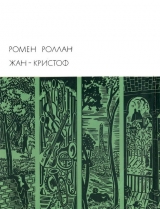
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 57 страниц)
Вдруг посреди сердитого молчания Аду охватывали приступы бурного, неестественно шумного веселья, и тогда было столь же бессмысленно возражать против этих вспышек, как и против только что прошедшей меланхолии; начинался смех, и так как причин для него не имелось, то длиться он мог целыми часами; начиналась беготня по полям, безумные выходки, детские игры; с каким-то непонятным удовольствием Ада делала всякие глупости: брала в руки землю, грязь, зверушек, пауков, муравьев, червей, дразнила их, причиняла им боль, скармливала птичку кошке, червяка курице, паука муравью, и все это беззлобно, в силу какой-то бессознательной потребности, из любопытства, от нечего делать. В такие часы ей было необходимо болтать глупости, по сто раз повторять какое-нибудь бессмысленное слово, дразнить, злить, придираться, выводить из себя собеседников. Или вдруг, заметив кого-нибудь вдалеке, Ада начинала отчаянно кокетничать. Тогда она говорила громко, с воодушевлением, шумела, гримасничала, словом, старалась привлечь к себе внимание; даже походка у нее становилась какая-то неестественная и припрыгивающая. Кристоф с ужасом ждал, что она вот-вот заговорит о серьезном. Так оно и случалось. Ада впадала в чувствительность и тут, по обыкновению, переходила все границы: начинались шумные и долгие излияния. Кристоф страдал, ему хотелось побить Аду. Но прежде всего он не прощал ей неискренности. В то время он еще не знал, что искренность столь же редкий дар, как ум или красота, и несправедлив тот, кто требует их от всех и каждого. Кристоф не выносил лжи, Ада отпускала ее щедрой мерой. Лгала она на каждом шагу, совершенно спокойно, вопреки очевидности. Она обладала удивительной способностью забывать то, что ей неприятно, и даже то, что ей нравилось, подобно всем женщинам, которые живут минутой.
И несмотря на все это, они любили друг друга, любили всем сердцем. В любви Ада была так же искренна, как и Кристоф. Хотя любовь их покоилась не на сродстве душ и ума, это была настоящая любовь, и не было в ней ничего от низких страстей. То была прекрасная юная любовь, и даже чувственность не опошляла ее, потому что все в ней было молодо, – почти целомудренная любовь, омытая наивной пылкостью их страсти. Хотя Ада ни в какой мере не отличалась неопытностью Кристофа, оба они владели божественным даром: оба были юны и душой и телом, оба обладали неподдельной свежестью чувств, светлых и прозрачно-чистых, как лесной ручей. Эгоистка, лгунья, лицемерка в повседневной жизни, Ада в любви становилась простой, искренней, даже доброй. Она начинала понимать радость, которую находишь в забвении себя ради другого. Кристоф с восторгом глядел на нее, он бы охотно умер ради Ады. Кто знает, сколько смешных и трогательных, иллюзий привносит любящая душа в свою любовь! Естественные для влюбленного иллюзии удесятерялись у Кристофа в силу способности создавать иллюзии, присущей каждому художнику. Улыбка Ады приобретала для него глубокий смысл, ласковое слово становилось доказательством ее сердечной доброты. В Аде он любил все, что было хорошего и прекрасного во вселенной. Он называл ее своим вторым «я», своей душою, жизнью. Нередко они вместе плакали от любви.
И не только наслаждения связывали их – их связывала несказанная поэзия воспоминаний и грез… Чьих? Их собственных? Или тех, кто любил до них, кто жил до них… быть может, в них самих?.. Они хранили, возможно даже не сознавая того, колдовскую память о первых минутах встречи в лесу, первых днях, первых проведенных вместе ночах, сладком сне в объятиях друг друга, когда лежишь без мысли, тонешь, не шевелясь, в потоке любви и умиротворенной радости. Внезапное воспоминание, пришедшая на память картина, неясная мысль, вдруг промелькнувшая в мозгу, заставляли их бледнеть и вздрагивать от упоения, окружали их словно жужжанием пчелиного роя. Сжигающий и нежный свет… Сердце замирает и молчит, ему не по силам эта слишком большая нежность. Молчание, лихорадочная томность, таинственная и усталая улыбка земли, трепещущей дод первым весенним лучом… Не замутненная ничем любовь двух молодых существ подобна апрельскому утру. И быстротечна она, как апрель. Юность сердца выгорает, точно линючий ситец под солнцем.
Ничто так не скрепляло любовных уз, связывавших Кристофа с Адой, как отношение к ним окружающих, их суждения и домыслы.
На следующий же день после их первой встречи весь квартал был в курсе событий. Ада не намеревалась скрывать свое новое приключение; она, наоборот, гордилась победой. Кристофа коробила нескромность посторонних, он чувствовал, что за ним жадно следят глаза горожан, и так как он вовсе не желал прятаться от этого назойливого внимания, то стал открыто появляться с Адой. По всему городку шли пересуды. Товарищи Кристофа по оркестру с явной издевкой приносили ему свои поздравления, но он не отвечал на их насмешки, так как не переносил вмешательства в свои дела. В замке порицали его неумение вести себя. Городские сплетники сурово критиковали Кристофа. В двух-трех домах ему отказали от уроков. А в прочих семьях матери вдруг сочли необходимым впредь самолично присутствовать на занятиях своих дочек и сидели с настороженным видом, словно Кристоф явился с целью похитить сие юное сокровище. Считалось, что сами девицы ни о чем не подозревают. На самом же деле они всё отлично знали и, с холодным недоумением осуждая Кристофа за его скверный вкус, умирали от желания узнать подробности. Только среди мелких торговцев и приказчиков Кристоф пользовался популярностью, и то недолго, – его в равной мере раздражали как восторженные одобрения одних, так и хула других; и, не будучи в силах прекратить злоязычные разговоры, он постарался отделаться хотя бы от своих почитателей; впрочем, особого труда это не составило. Кристоф негодовал против донимавшего его со всех сторон любопытства.
Сильнее всего порицали Кристофа старик Юстус Эйлер и семейство Фогелей. Поведение Кристофа казалось им личным оскорблением. Особенно серьезных намерений на его счет у них не имелось: они – и в первую очередь сама г-жа Фогель – не доверяли художественным натурам. Но, обладая от природы мрачным складом ума и убежденные в том, что их преследует рок, они внушили себе, что всегда мечтали о браке Кристофа с Розой, именно когда стало ясно, что брак не состоится, и в этом они тоже видели злополучный перст судьбы. По обычной логике выходило, что ежели рок ответствен за их просчет, то виновен в этом не Кристоф, но у Фогелей была своя особая логика – повсюду и во всем находить как можно больше поводов для жалоб. Они твердо верили, что если Кристоф сбился с пути, то вовсе не ради собственного удовольствия, а лишь с целью унизить именно их. Поэтому они были ужасно скандализованы. Люди крайне религиозные, нравственные, носители семейных добродетелей, они считали, что плотский грех – самый страшный из всех семи смертных грехов, самый непростительный и самый позорный, если вообще не единственно опасный (ведь не станут же, в самом деле, порядочные люди красть или убивать). Поэтому Кристоф представлялся им окончательно погибшим человеком, и они изменили к нему свое отношение. Смотрели на него холодными глазами и отворачивались, когда он проходил мимо. Кристоф, вообще не очень дороживший их обществом, только плечами пожимал, видя все эти ужимки. Он притворялся, что не замечает дерзких выходок Амалии, которая якобы презрительно сторонилась его, а сама страстно желала, чтобы Кристоф сцепился с ней, чтобы выложить все, что накипело у нее на сердце.
Кристофа огорчала лишь Роза. Девушка осуждала его еще более сурово, чем все домашние. Не то чтобы новая любовь Кристофа разрушила ее последние надежды на ответное чувство – она знала, что надежд у нее никаких нет (хотя продолжала надеяться… и надеялась!). Но она сотворила себе из Кристофа кумир, и вдруг кумир этот рухнул. Невинное ее сердце страдало… горько страдало даже не оттого, что Кристоф пренебрег ею, ее не любит. Воспитанная в строгих, пуританских правилах, в рамках беспощадно узкой морали, в которую она свято верила, Роза приняла весть о новой любви Кристофа не только с отчаянием, но с брезгливостью. Когда он любил Сабину, она немало настрадалась. Уже тогда отчасти потускнел ее идеал. То, что Кристоф может любить такую ничем не примечательную особу, казалось ей не только необъяснимым, но и просто позорным. Однако та любовь была хоть чистая, да и сама Сабина отчасти заслуживала ее. Наконец, смерть унесла все и все освятила. Но то, что Кристоф так скоро полюбил другую, – и кого же! – это уж просто низко, гнусно! Роза готова была теперь защищать от Кристофа покойную Сабину. Она не прощала Кристофу, что он так быстро забыл ее… Увы, он думал о Сабине чаще, чем полагала Роза. Но Роза не знала, что в сердцах страстных уживаются самые различные чувства; она считала, что нельзя хранить верность прошлому, если не принести ему в жертву настоящего. Чистая и холодная, она ничего не понимала ни в жизни, ни в самом Кристофе; все должны быть чистыми, прямолинейными, честно исполнять свой долг, как исполняет она. Это скромное существо со скромной душою гордилось только одним – своей чистотой и требовало ее неукоснительно и от себя и от других. Падения Кристофа она не прощала, и не простила никогда.
Кристоф не раз пытался поговорить с Розой, если уж нельзя было ей всего объяснить. (Да и что мог он сказать пуритански наивной девочке?) Ему хотелось бы убедить Розу в своей дружбе, доказать, что он дорожит ее уважением, имеет на него все права. Ему хотелось, чтобы она не отстранялась от него так глупо. Но Роза избегала Кристофа, хранила суровое молчание, и он чувствовал, как она его презирает.
Это сердило и огорчало Кристофа, Он сознавал, что не заслуживает такого презрения, и, однако, невольно страдал от него. Он начинал чувствовать себя преступником. И жестоко упрекал себя при мысли о Сабине.
«Боже мой, – терзался он, – как же это возможно? Что же я за человек?»
Но не было сил бороться против уносившего его потока. Он решил, что преступна сама жизнь; он закрывал глаза, чтобы не видеть ее, – и жил. Ему так хотелось жить, быть счастливым, любить, верить! Ведь в его любви нет ничего достойного презрения! Он признавал, что любить Аду, пожалуй, и неразумно и неумно и что он даже не очень счастлив; но что же тут может быть плохого? Предположим даже (он старался сам не верить этому предположению), что в смысле нравственности Ада оставляет желать многого, но при чем тут его любовь к ней, разве его любовь менее чиста от этого? Ведь любовь в том, кто любит, а не в том, кого любят. Ценность любви определяется достоинствами любящего. Для чистого все чисто. Все чисто для сильного и здорового духом. Любовь, которая убирает птицу многоцветным опереньем, выносит на поверхность все благородное, чем богата чистая душа. Вот почему скрываешь от другого то, что может оскорбить его взор, черпаешь удовольствие в мыслях и поступках, созвучных тому прекрасному образу, который вылепила сама любовь. И горнило юности, закаляющее душу, священное излучение силы и радости, ведь они прекрасны и благотворны, они дарят величие сердцу.
То, что окружающие не понимали Кристофа, наполняло его горечью. Но тяжелее всего было, что и мать тоже страдала.
Луизе была чужда узость нравственных правил Фогелей. Слишком много видела она подлинных страданий, чтобы еще изобретать их. Робкая, сломленная судьбой, испытавшая мало радостей в жизни, да и не просившая их у неба, она покорно принимала и благо и зло, не пытаясь понять происходящее; она и помыслить не смела осуждать или порицать ближних – она считала, что не имеет на это права. Ей ли, глупой, осуждать человека за то, что он поступает иначе, чем она; навязывать другим твердые правила своей веры, своей морали казалось ей просто смехотворным. К тому же ее мораль и ее вера шли не от разума. Благочестивая и требовательная к себе, она охотно закрывала глаза на поведение близких, снисходительно, как большинство простых людей, относясь к человеческим слабостям. За это-то и не жаловал ее покойник дедушка Жан-Мишель. Луиза не делала различия между людьми весьма почтенными и малопочтенными; она, не задумываясь, останавливалась на улице или на рынке поздороваться и поболтать с какой-нибудь девицей, славящейся своими похождениями на весь квартал, хотя всякой порядочной женщине следовало пренебрегать таким знакомством. А Луиза полагалась на господа бога – пусть он сам разбирается, где добро и где зло. И карать и миловать – это уж его забота. От людей она просила только одного: хоть немножко сердечной теплоты, которая так облегчает жизнь. А самое главное, чтобы люди поступали хорошо.
Но, поселившись у Фогелей, Луиза незаметно для себя переменилась под их влиянием. Царивший в доме дух всепорицания оказал на нее свое тлетворное воздействие с тем большей легкостью, что она была сражена горем и сопротивляться не хватало силы. Амалия постепенно подчинила себе Луизу, и, слушая с утра до ночи разглагольствования г-жи Фогель, которая говорила за двоих и во время стряпни, и во время уборки, Луиза, безропотная и согнувшаяся под бременем несчастий, незаметно для себя переняла от квартирохозяйки привычку всех судить и все критиковать. Понятно, что Амалия не постеснялась выложить жиличке все свои соображения насчет Кристофа. Спокойствие Луизы ее раздражало. Она считала непристойным, что Луиза так равнодушна к событиям, вызывавшим негодование семьи Эйлера, и успокоилась только тогда, когда внесла смятение в ее душу. Кристоф заметил перемену, происшедшую с матерью. Луиза не смела его прямо упрекать, но каждый день с утра начинались намеки, робкие, тревожные, но назойливее; когда Кристоф, выйдя из терпения, резко обрывал мать, она замолкала, но во взгляде ее он читал скрытую печаль, а иной раз, вернувшись домой, заставал ее с заплаканными глазами. Он слишком хорошо знал мать и понимал, что эта внезапная тревога за его судьбу внушена со стороны. И не сомневался, что это за сторона.
Кристоф решил, что пора положить этому конец. Как-то вечером, когда Луиза не сдержала слез при сыне, встала из-за стола, не окончив ужина, а на все расспросы хранила упорное молчание, он сбежал с лестницы и постучался к Фогелям. Он кипел от гнева. И не только недостойное науськивание г-жи Фогель возмутило его, он мечтал отомстить ей за все разом: и за то, что она восстановила против него Розу, и за травлю Сабины, – словом, за все, чего он натерпелся за долгие месяцы пребывания в их доме. Уже давно он чувствовал, как гнетет его эта копившаяся неделями злоба, и жаждал разом освободиться от груза.
Он ворвался в комнату г-жи Фогель и голосом, дрожащим от гнева, хотя и старался он говорить как можно спокойнее, спросил Амалию, что такое она наговорила его матери и чем довела до такого состояния.
Амалия приняла Кристофа в штыки – она ответила, что вольна говорить все, что ей угодно, что она никому отчетом не обязана, а уж ему, Кристофу, тем паче. И, ухватившись за счастливый случай высказать все, что ее так подмывало высказать, она добавила, что если Луиза несчастна, то зря Кристоф ищет каких-то посторонних причин, виной всему его собственное поведение, позорное для него самого и вызывающее всеобщее возмущение.
Но и Кристоф ждал удара, чтобы ответить на него ударом. Он сердито закричал, что поведение его касается только его одного, что его весьма мало заботит, по душе оно г-же Фогель или нет, что ежели она желает изливать свое недовольство, пусть обращается прямо к нему, пусть говорит ему все, что угодно, хотя ее мнение интересует его как прошлогодний снег, но что он запрещает(понятно?), запрещаетговорить о нем с Луизой и что подло с ее стороны приставать к бедной, немолодой и к тому же больной женщине.
Госпожа Фогель завопила. Впервые в жизни с ней говорили таким тоном. Она сказала, что не потерпит, чтобы в ее собственном доме ей читали нотации, и кто же? – какой-то шалопай. За словом «шалопай» последовали и другие словечки.
На шум сбежалось все семейство, за исключением самого Фогеля, который избегал бурных сцен, так как они могли повредить его здоровью. Старик Эйлер, которого негодующая Амалия призвала в свидетели, сухим тоном попросил Кристофа избавить их впредь от своих посещений и от своих замечаний. И добавил, что они не нуждаются в советах Кристофа, они сами знают, что им следует делать, они выполняют свой долг и будут выполнять его впредь.
Кристоф заявил, что он сам рад уйти и что ноги его больше у Эйлера не будет. Но, прежде чем уйти, он облегчил душу – выложил все свои соображения насчет их пресловутого Долга, который с недавних пор стал его личным врагом. Сказал, что от такого Долга можно полюбить порок. Именно такие люди, как они, отвращают других от добра, так как благодаря их стараниям оно нагоняет на людей тоску. Именно они причина того, что человек в силу контраста поддается соблазну, который исходит от людей пусть не таких идеально честных, зато приятных и веселых. А на каждом шагу поминать долг ради долга, называть выполнением долга любое, самое тупое занятие, любые пустяки – это значит извращать самое понятие «долг» и вконец омрачать и отравлять жизнь себе и другим. Долг есть нечто из ряда вон выходящее. Подождите, когда дело дойдет до истинного самопожертвования, а не прикрывайте именем долга свой собственный дурной нрав и желание портить жизнь другим. И если человек по глупости или неумению радоваться ходит надутый, это вовсе не значит, что и другие тоже должны ходить повеся нос, – нельзя заставлять здоровых людей жить, как калеки. Первая изо всех добродетелей – это радость, и добродетель должна быть свободной, счастливой, ничем не принуждаемой. Творящий добро должен сам от того испытывать удовольствие. Но эти разглагольствования о долге на каждом шагу, эта тирания школьных надзирателей, этот крикливый тон, эти бессмысленные споры, эта пустая и ядовитая болтовня, вечный шум, жизнь, лишенная какой-либо привлекательности, прелести, не знающая тишины, этот мелочный пессимизм, который жадно хватается за все, лишь бы обеднить и без того жалкое существование, это всепрезирающее невежество, с помощью коего так легко презирать ближнего, вместо того чтобы понять его, – вся эта мещанская мораль, чуждая величия, радости, красоты, все это и гнусно, и просто вредно; благодаря таким вот людям порок кажется куда более человечным, чем добродетель.
Так думал Кристоф и в своем желании оскорбить тех, кто оскорбил его, не замечал, как он несправедлив и как несправедливы его речи.
Конечно, Кристоф довольно верно нарисовал картину жизни этих несчастных людей. Но не их была в том вина – таково естественное следствие убогой жизни, которая наложила свою печать на их лица, их жесты и мысли. Страшный гнет бедности исказил их человеческий облик, – не той нищеты, что обрушивается на человека сразу и убивает или закаляет его, – но вечных неудач, мелких житейских бед, которые точат душу день за днем от начала до конца жизни… Печальный удел, ибо под неприглядной оболочкой – целая сокровищница прямодушия, доброты, молчаливого героизма… Все силы народа, все соки будущего!
Кристоф был совершенно прав, утверждая, что долг есть нечто из ряда вон выходящее. Но и любовь такое же исключение. Всё исключение. И самый худший враг того, что имеет хоть какую-нибудь цену, не просто зло (пороки тоже имеют свою цену), а привычка. Заклятый враг души – это каждодневный износ чувств.
Аде начали приедаться их отношения. Она была недостаточно умна, чтобы поддерживать непреходящую свежесть чувства, хотя судьба послала ей такую богатую натуру, как Кристоф. Ее тщеславие и чувственность почерпнули из их любви все радости, которые можно было почерпнуть, кроме одной: радости разрушения этой любви. Ада обладала тайным инстинктом, присущим многим женщинам, даже добрым, и стольким мужчинам, даже умным, которые не создают в жизни ничего – не родят детей, не знают радости творчества и деяния, – а переизбыток жизни мешает им равнодушно и смиренно примириться с собственной бесполезностью. Им хотелось бы, чтобы и другие были так же бесполезны, и они прилагают к тому немало усилий. Иногда это получается даже помимо их воли. И когда они замечают за собой такое преступное желание, они с негодованием подавляют его. Но гораздо чаще их тешит это желание, и они стараются по мере своих сил и возможностей – одни тихой сапой в тесном кругу семьи, другие же, напротив, открыто, всенародно – разрушить все то, что живет, все, что любит жить, все, что заслуживает права жить. Критик, который лезет из кожи вон, чтобы принизить до себя великих людей и великие мысли, и веселая девица, которой нравится унижать своего любовника, по сути дела – два вредоносных зверя одной и той же породы. Правда, второй более приятен.
Итак, Ада стремилась развратить Кристофа, чтобы унизить его. По правде сказать, ей это было не по плечу, – даже для развращения требуется больше ума. Ада чувствовала это и затаила в душе обиду на Кристофа за то, что любовь ее не может причинить ему никакого зла. Впрочем, если бы она могла сделать ему зло, она, возможно, воздержалась бы. Но ее мучила мысль, что она не властна над ним. Если мужчина лишает женщину иллюзии относительно ее благотворного или вредного влияния на любимого человека, это в ее глазах равносильно отсутствию любви, и поэтому-то она настойчиво и по всякому поводу старается подвергнуть любовь все новым и новым испытаниям. Кристоф не поберегся вовремя. Когда как-то Ада, просто от нечего делать, спросила, бросит ли он ради нее музыку (хотя ей это отнюдь не требовалось), он искренне ответил:
– Ну нет, детка, ни ради тебя, ни ради кого-либо другого. Музыку я ни за что не брошу.
– А еще уверяешь, что любишь меня! – воскликнула с досадой Ада.
Ада ненавидела музыку, тем более что ничего в ней не смыслила, и не знала, как вернее поразить невидимого врага, чтобы глубже ранить Кристофа в его страсти. Когда Ада начинала говорить о музыке свысока или презрительно отзывалась о сочинениях Кристофа, он хохотал от души, и как ни злилась Ада, она замолкала, чувствуя, что становится смешной.
Но, отчаявшись уязвить Кристофа с этой стороны, она не преминула обнаружить другое место, куда особенно легко было нанести рану, – его нравственные устои. Несмотря на свою ссору с Фогелями, вопреки всем упоениям юности, Кристоф сохранил врожденную чистоту, потребность в чистоте, которой он сам не сознавал и которая, естественно, должна была поразить, привлечь и очаровать такую женщину, как Ада, а потом начала забавлять ее, надоедать и даже злить. Но она воздерживалась от лобовой атаки. Она лукаво допытывалась:
– Ты меня любишь?
– Ну еще бы!
– А как ты меня любишь?
– Так, как только можно любить.
– Ну, знаешь, это еще не так много… А что бы ты сделал ради меня?
– Все, что ты хочешь.
– Ну, скажем, совершил бы какой-нибудь бесчестный поступок?
– Странный способ доказывать свою любовь.
– Не важно, что странный, скажи, совершил бы?
– Да ведь это не нужно.
– Ну, а если бы я захотела?
– И зря захотела бы.
– Пусть зря… Скажи, сделал бы?
Кристоф потянулся ее обнять. Но Ада оттолкнула его.
– Сделал бы или нет?
– Нет, детка, не сделал бы.
Ада в бешенстве повернулась к нему спиной.
– Ты просто меня не любишь. Ты не знаешь, что такое любовь.
– Возможно, – простодушно отвечал он.
Кристоф отлично понимал, что способен, как и любой человек, в минуту безумия совершить какую-нибудь глупость, даже бесчестную, а может быть, и еще хуже, но ему претило так вот холодно и бесстрастно хвастаться этим и казалось опасным признаться в этом Аде. Инстинкт подсказывал ему, что обожаемый недруг подстерегает его, запоминает каждое слово, а он не желал давать Аде оружие против себя.
На этом Ада не успокоилась и в другой раз предприняла новую атаку:
– Ты меня любишь потому, что ты меня любишь, или потому, что я тебя люблю?
– Потому что я тебя люблю.
– Значит, если я тебя разлюблю, ты все равно будешь меня любить?
– Буду.
– А если я полюблю другого, ты все равно меня не разлюбишь?
– Не знаю. Думаю, что да… Во всяком случае, тебе я скажу об этом последней.
– А что же переменится?
– Многое. Возможно, я. А ты уж наверняка.
– Но если я и переменюсь, тебе-то что?
– Как что? Я люблю тебя такой, какая ты есть. А если ты станешь другая, я не могу поручиться, что буду тебя любить.
– Ты просто меня не любишь, совсем не любишь! Торгуешься, как в лавке! Любит, не любит. Если ты меня действительно любишь, ты должен меня любить такой, какая я есть, должен всегда любить, что бы я ни сделала.
– В таком случае я любил бы тебя, как животное.
– А я и хочу, чтоб ты меня так любил.
– Значит, ты ошиблась, – сказал он, смеясь. – Я не тот, кто тебе нужен. Если бы я даже хотел, все равно не мог бы. А я и не хочу.
– Очень уж ты гордишься своим умом! Ты больше любишь свой ум, чем меня.
– Но ведь я тебя люблю, неблагодарная ты, больше, чем ты сама себя любишь. И чем ты красивее и лучше, тем больше я тебя люблю.
– Ну, заговорил, хуже учителя, – презрительно произнесла Ада.
– Что ты от меня хочешь? Я люблю все, что прекрасно, а плохое вызывает во мне отвращение.
– Даже во мне?
– А в тебе особенно.
Ада со злости даже ногой топнула.
– Я не желаю, чтоб ты меня осуждал.
– Ну, жалуйся теперь, что я тебя осуждаю, что я тебя люблю, – нежно произнес он, желая ее успокоить.
Ада позволила обнять себя и даже ответила улыбкой на его поцелуй. Но через минуту, когда Кристоф надеялся, что все уже забыто, она тревожно спросила:
– А что ты во мне находишь плохого?
Кристоф поостерегся сказать, что именно, и малодушно ответил:
– Ничего не нахожу.
Ада подумала с минуту, потом улыбнулась и сказала:
– Послушай, Кристли, вот ты говоришь, что не переносишь лжи?
– Да, я ненавижу ложь.
– Ты прав, я тоже ненавижу ложь. Впрочем, на этот счет я спокойна, я никогда не лгу.
Кристоф взглянул на Аду – она говорила вполне искренне. И перед такой наивностью он почувствовал себя обезоруженным.
– Тогда почему же ты рассердишься, – спросила она, обвивая его шею обеими руками, – если я полюблю другого и прямо тебе об этом скажу?
– Не мучай ты меня.
– Я вовсе не мучаю – ведь я не говорю, что люблю другого: наоборот, никого, кроме тебя, не люблю… Ну, а если бы я все-таки полюбила?
– Не будем об этом думать.
– А я хочу об этом думать… Ты на меня рассердишься? А ведь ты не вправе на меня сердиться.
– Я не буду сердиться, я просто уйду, вот и все.
– Уйдешь от меня? Почему уйдешь? А если я тебя буду по-прежнему любить?
– Как же это можно, и меня и другого?
– Ну и что? Ведь бывает и так.
– Бывает, но только не с нами.
– Почему?
– Потому что в тот день, когда ты полюбишь другого, я не буду тебя любить, детка, не буду и не буду.
– А ты только что говорил, что будешь… Вот видишь, ты меня не любишь.
– Ну пусть. Тем лучше для тебя.
– Почему лучше?
– Потому что, если бы я продолжал тебя любить, а ты полюбишь другого, могло бы плохо кончиться для тебя, и для меня, и для другого тоже.
– Вот тебе на! Ты совсем с ума сошел. Значит, по-твоему, я должна всю жизнь сидеть при тебе?
– Успокойся. Ты совершенно свободна. Можешь уйти от меня в любую минуту, когда захочешь. Только это уж тогда не «до свидания», а «прощай навеки».
– А если я по-прежнему тебя буду любить, тогда что?
– Когда любишь, то поступаешься многим.
– Ну и поступайся, пожалуйста.
Кристоф невольно рассмеялся этому наивному эгоизму. Ада тоже расхохоталась.
– Если жертву приносит один, – сказал он, – значит, и любит только один.
– Ничего подобного. Двое любят. Просто я тебя любила бы еще больше, если бы ты чем-нибудь пожертвовал для меня. И подумай только, Кристли, ведь и ты бы меня любил еще сильнее, – раз ты пожертвовал бы чем-нибудь для меня, ты был бы еще счастливее.
Оба расхохотались, и оба были довольны, что сумели скрыть от самих себя смысл этой размолвки.
Кристоф, смеясь, глядел на Аду. И в самом деле, как сказала Ада, она не имела ни малейшего желания расставаться сейчас с Кристофом; пусть он ее часто злил и надоедал, она понимала, как ценна такая преданность, и никем увлечена не была. И говорила-то она только так, от нечего делать, потому что знала, как неприятны Кристофу подобные разговоры, и потому, что получала удовольствие от копания в фальшивых и нечистых чувствах, словно ребенок, который с наслаждением возится в грязной луже. Кристоф знал это и не сердился на Аду. Но он утомился от нездоровых споров, от постоянной глухой борьбы с этой нестойкой и нездоровой душой, с этой Адой, которую он любит, которая, быть может, любит его; он устал от тех усилий, которые ему приходилось делать, чтобы обманывать себя на ее счет, – словом, устал до слез. Он думал: «Ну зачем, зачем она такая? Почему вообще люди такие? Как заурядна жизнь!» И в то же время он улыбался, глядя на хорошенькое личико, склонившееся к нему; на голубые глаза; нежный, как лепесток цветка, румянец; смеющийся и болтливый, чуть-чуть глуповатый рот, открывавший ярко-розовый кончик языка и блестящие зубки. Их губы почти соприкасались, но он смотрел на нее словно издалека, откуда-то очень издалека, словно из другого мира, и он видел, как она» уходит все дальше и дальше, тает в туманной дымке… И вдруг он перестал видеть ее совсем. Перестал слышать. Он впал в состояние какого-то радужного забытья, и все мысли его влеклись к музыке; он мечтал о чем-то, не имеющем к Аде никакого отношения. Ему слышалась мелодия. Он творил, творил спокойно. О, прекрасная музыка… печальная, такая бесконечно грустная! И, однако, в ней звучит доброта, любовь, и как хорошо становится на душе – вот оно, вот оно… а все прочее ненастоящее.
Он почувствовал, что его трясут за руку. Голос рядом с ним кричал:
– Да что с тобой? Скажи, ты, должно быть, с ума сошел? Почему ты на меня так глядишь? Почему не отвечаешь?
Он увидел рядом с собой пару глаз, смотревших на него. Кто это? Ах да… Он прерывисто вздохнул.
Ада рассматривала его с холодным вниманием. Она пыталась понять, о чем он думает. И ничего не понимала, только чувствовала, как напрасны ее усилия; она владеет не всем Кристофом, не всем целиком, и есть какая-то дверца, через которую он может ускользнуть от нее. И в глубине души она злилась.
– Почему ты плачешь? – как-то раз спросила она Кристофа, когда он вернулся из такого же загадочного путешествия в другую жизнь.
Кристоф провел ладонью по глазам и почувствовал, что они мокрые.
– Не знаю, – сказал он.
– Почему ты не отвечаешь? Я три раза тебя об одном и том же спрашиваю.
– Чего ты хочешь? – тихо сказал он.








