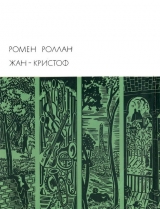
Текст книги "Жан-Кристоф. Книги 1-5"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 57 страниц)
Все же была своя правда и даже нравственное величие в этой безотчетной мудрости матери, для которой не существовало честолюбивых замыслов и все счастье которой заключалось в семейных привязанностях и в выполнении своего скромного долга. Эта душа жаждала любви, только любви. Лучше отрешиться от жизни, от разума, от логики, от мира, но только не от любви! И любовь эта была беспредельна, она умоляла, она требовала; она все отдавала и взамен хотела всего; она отрекалась от жизни и ждала такого же отречения от других, от любимых. О, какая сила таится в этой любви простых душ! Она безошибочно и сразу выводит их на ту дорогу, которую лишь ощупью, ценою колебаний находит разум гениев, подобных Толстому, или слишком утонченное искусство угасающей цивилизации, – дорогу, обретаемую в итоге целой жизни, целых веков отчаянной борьбы и мучительных усилий!.. Но гордая сила, бушевавшая в душе Кристофа, подчинялась иным законам и требовала иной мудрости.
Кристоф давно уже собирался объявить свое решение матери. Но он дрожал, предчувствуя, что причинит ей горе: всякий раз в последнюю минуту у него не хватало духу, и он все откладывал этот разговор. Два-три раза он нерешительно, намеками, заговаривал о своем отъезде. Луиза пропускала эти намеки мимо ушей, – может быть, она умышленно не принимала их всерьез, надеясь, что он и сам перестанет верить в серьезность своих замыслов. И Кристоф не смел продолжать, но ходил мрачный, подавленный, словно его глодала тяжелая тайна. А несчастная женщина, угадывая эту тайну, делала робкие попытки отсрочить хоть на время откровенный разговор. По вечерам, когда они сидели рядом при свете лампы, ей вдруг начинало казаться, что он вот-вот нарушит молчание, тогда она в страхе принималась быстро рассказывать что-нибудь – первое, что приходило в голову; она и сама не знала что – лишь бы только не заговорил Кристоф. Инстинкт подсказывал ей обычно те доводы, на которые Кристоф не смел возражать. Она робко жаловалась на здоровье, на то, что у нее отекают руки и ноги, не сгибаются суставы, – она преувеличивала свои немощи и называла себя развалиной, калекой. Кристоф без труда разгадывал эти наивные уловки; он грустно, с безмолвным упреком подымал глаза на мать; а затем уходил к себе, говоря, что устал и хочет спать.
Но подобные приемы не могли выручать Луизу долго. Однажды вечером, когда она снова пыталась уклониться от решительного разговора, Кристоф собрался с духом и, взяв ее за руку, произнес:
– Мама, я должен тебе что-то сказать.
Луиза вся сжалась, но она улыбнулась и спросила:
– Что такое, мой мальчик?
Кристоф, сбиваясь и путаясь, сказал ей о своем намерении уехать. Она попыталась, по обыкновению, отделаться шуткой и заговорила о другом, но он не отступил и высказал все так твердо и серьезно, что всякие сомнения отпали. И Луиза замолчала, сердце ее замерло, – немая и застывшая, она смотрела на сына полными ужаса глазами. И такая боль была в этом взгляде, что слова застряли у Кристофа в глотке; оба молча сидели друг против друга. Отдышавшись, Луиза сказала (губы ее дрожали):
– Нет, не может быть… Не может быть…
Две крупный слезы медленно ползли по ее щекам. Кристоф в отчаянии отвернулся и закрыл лицо руками. Оба заплакали. Через несколько минут он ушел в свою комнату и больше не показывался. С тех пор они ни словом не касались происшедшего; Луиза пыталась истолковать это молчание как уступку со стороны Кристофа. Но жила отныне в вечном страхе.
Наступила минута, когда Кристоф почувствовал, что молчать больше нельзя. Надо было говорить, хотя бы это разбило ей сердце, – уж слишком он страдал. Эгоизм взял верх: собственная мука оказалась сильнее, чем мысль о муке, им причиняемой. И он опять завел речь об отъезде; он сказал все, стараясь не смотреть на мать из боязни смалодушничать. Кристоф даже назначил день отъезда, чтобы больше не возвращаться к разговору. (Он не был уверен, что еще раз найдет в себе печальное мужество, которого набрался сегодня.) Луиза кричала:
– Нет, нет, молчи!
Кристоф, стискивая кулаки, продолжал с непреклонной решимостью. Кончив, он взял ее руки в свои (Луиза рыдала) и попытался объяснить ей, что отъезд, хотя бы на некоторое время, насущно необходим для его творчества, для всей его жизни. Мать ничего не желала слушать и с плачем твердила только:
– Нет, нет!.. Ни за что!..
Все попытки Кристофа уговорить Луизу ни к чему не привели, и он оставил ее в покое, надеясь, что за ночь она образумится. Но когда они наутро встретились за столом, Кристоф снова неумолимо заговорил о своих планах; мать уронила кусок хлеба, который поднесла было ко рту, и промолвила с болью и укоризной:
– Зачем ты меня мучаешь?
Взволнованный Кристоф ответил:
– Мама, дорогая, так нужно.
– Нет, нет же! – повторяла она. – Не нужно… ты просто хочешь помучить меня… Это же безумие!
Оба хотели высказать каждый свое, но не слушали друг друга. Кристоф понял, что спорить нет смысла, что промедление сулит им лишь новые страдания; и стал, уже не таясь, готовиться к отъезду.
Когда Луиза убедилась, что мольбами сына не удержишь, она впала в унылое оцепенение. С утра до ночи безвыходно сидела в своей комнате, не зажигая даже огня при наступлении темноты, не говорила, не ела; ночью Кристоф слышал ее рыдания. Сердце его разрывалось. Снедаемый раскаянием, он чуть не стонал от муки, всю ночь ворочался с боку на бок, не смыкая глаз. Он так любил мать! Зачем ему суждено мучить ее?.. Увы! не ее последнюю, он знал это… Зачем судьба вложила в него жажду и волю следовать своему призванию и тем обрекла на страдания его близких и любимых!
«Ах! – думал он. – Будь я свободен! Если бы только меня не гнала вечно эта неумолимая сила, это стремление либо стать тем, чем я должен стать, либо умереть от стыда и отвращения к самому себе! Сколько бы счастья я дал всем, кого люблю! Так предоставьте же мне идти своим путем, жить, бороться, страдать; и я вернусь к вам с еще большей любовью в сердце. Как хотел бы я отдаться только одному: любить, любить, любить!..»
Кристоф не в силах был бы вынести укоров этой отчаявшейся души, если бы Луиза таила их про себя. Но малодушная и словоохотливая старушка не умела скрывать переполнявшую ее скорбь. Она поведала свое горе соседкам. Она излила душу перед двумя другими сыновьями. Те ухватились за столь прекрасный повод унизить Кристофа и выразить ему свое порицание. И особенно Рудольф: его всегда снедала зависть к старшему брату – зависть, просто бессмысленная при данных обстоятельствах; его выводила из себя малейшая похвала по адресу Кристофа; втайне он боялся будущей славы брата, не смея сознаться себе в этой подленькой мысли (он был достаточно умен, чтобы чувствовать силу таланта, и опасался, как бы ее не почувствовали и другие), – словом, Рудольф был счастлив раздавить Кристофа своим превосходством. Сам он, отлично зная, как нуждается мать, никогда о ней не беспокоился, заботу о ней он всецело предоставил Кристофу, хотя имел все возможности помогать ей. Но когда Рудольф узнал о планах Кристофа, он вдруг открыл в себе неистощимые запасы сыновней любви и нежности. Он вознегодовал на Кристофа, который решается покинуть мать, кричал, что это чудовищный эгоизм. Он имел наглость сказать об этом в глаза Кристофу и стал читать ему свысока нравоучение, как мальчишке, заслуживающему розог, бесстыдно напоминая о его долге по отношению к матери, о всех жертвах, которые она ему принесла. Кристоф чуть не задохнулся от ярости. Он пинками выгнал вон Рудольфа, обозвав его шутом и чертовым лицемером. В отместку Рудольф восстановил Луизу против Кристофа. Подстрекаемая им, Луиза вдруг решила, что Кристоф плохой сын. Со всех сторон ей толковали, что он не имеет права покидать ее, и она ухватилась за эту мысль. Теперь она действовала не только слезами – своим самым сильным оружием, – она набросилась на Кристофа с несправедливыми упреками, которые взорвали его. Они наговорили друг другу много обидного; и вот Кристоф, который все еще колебался, стал думать лишь об одном: как бы ускорить приготовления к отъезду. Он узнал, что жалостливые соседки проливают слезы над участью его несчастной матери и что во всем их квартале общественное мнение объявило Луизу жертвой, а ее сына – палачом. Он стиснул зубы и твердо решил не уступать.
Время шло. Кристоф и Луиза почти не разговаривали. Им бы наслаждаться этими последними днями совместной жизни, наслаждаться каждой минутой, а эти два любящих существа расточали время на бесплодные размолвки, которые – увы! – слишком часто подрывают самые нежные привязанности. Встречались они только за столом; сидели друг против друга молча, не поднимая глаз, и через силу глотали пищу – не столько для того, чтобы есть, сколько для порядка. Кристоф с трудом выдавливал из себя два-три слова, но Луиза не отвечала; а когда она, в свою очередь, пыталась завязать разговор, молчал он. Это становилось невыносимо для обоих; и чем дальше, тем труднее было им пересилить себя. Неужели они так и расстанутся? Луиза наконец спохватилась, что она несправедлива, но взялась за дело неловко: она так сильно мучилась, что уж и не знала, как вернуть доверие сына, которого считала потерянным для себя, как помешать разлуке, о которой старалась даже не думать. Кристоф тайком всматривался в посеревшее, распухшее от слез лицо матери и терзался жестокими угрызениями совести; но он твердо решил уехать и, зная, что на карту поставлена вся его жизнь, испытывал лишь трусливое желание поскорее очутиться в пути, бежать от этих мук.
Отъезд был назначен на послезавтра. Только что окончилась одна из их грустных встреч за столом. После ужина, за которым оба не проронили ни слова, Кристоф удалился в свою комнату; он сидел за письменным столом, закрыв лицо руками, не в силах чем-либо заняться, и молча страдал. Было уже поздно – около часу ночи. Вдруг в смежной комнате раздался шум – упал опрокинутый стул. Дверь распахнулась, и мать, в одной рубашке, босая, с рыданием бросилась к нему на шею. Она вся горела, как в лихорадке, целовала сына и восклицала посреди отчаянных всхлипываний:
– Не уезжай! Не уезжай! Умоляю тебя, умоляю! Мой маленький, останься!.. Я умру!.. Я не могу, не могу этого вынести!..
Ошеломленный и испуганный, Кристоф целовал ее, повторяя:
– Мамочка, дорогая, успокойся, прошу тебя!
Но она продолжала:
– Не вынесу я этого… Ты же теперь у меня один. Если ты уедешь, что со мной станется? Я умру, если ты уедешь. Я не хочу умереть без тебя. Не хочу умереть одна-одинешенька. Хоть дождись, пока я умру!
У него разрывалось сердце. Он не знал, что сказать, как утешить ее. Что значили любые доводы перед этой бурей любви и страдания! Он посадил ее к себе на колени, старался успокоить поцелуями и ласковыми словами. Луиза постепенно утихла и только слабо всхлипывала. Когда она немного пришла в себя, он сказал:
– Пойди ложись: ты простудишься.
Она повторила:
– Не уезжай!
Он тихо сказал:
– Я не уеду.
Она задрожала и схватила его за руку.
– Это правда? – спросила она. – Правда?
Кристоф в изнеможении отвернулся.
– Завтра, – ответил он, – завтра скажу… Оставь меня, прошу!..
Мать послушно поднялась и ушла к себе.
На следующее утро она уже стыдилась этого бурного отчаяния, которое овладело ею среди ночи, точно приступ безумия; она с трепетом думала о том, что скажет ей сын. Усевшись в уголке, она ждала его. Чтобы не думать, Луиза взялась за вязание, но руки не слушались ее, и клубок упал на пол. Вошел Кристоф. Они почти шепотом, не глядя друг на друга, поздоровались. Он остановился, нахмурившись, подле окна, повернулся спиной к матери и стоял, не говоря ни слова. В его душе шла борьба, и, заранее предчувствуя ее исход, он медлил. Луиза не смела обратиться к нему, страшась получить ответ, которого ждала. Она заставила себя вязать, но ничего не видела, и петли ложились вкривь и вкось. Начался дождь. После долгого молчания Кристоф подошел к матери. Она даже не пошевелилась, только сильнее застучало сердце. Кристоф смотрел на нее, не двигаясь, и вдруг упал на колени, зарылся головой в ее платье и молча заплакал. Она поняла, что он остается, и смертельная тоска отпустила ее сердце, но тотчас же в него вошли муки раскаяния: она чувствовала, какую жертву приносит ей сын, и теперь переживала те страдания, которыми терзался Кристоф, когда собирался принести в жертву ее. Она склонилась к сыну, жадно целуя его лоб и волосы. Оба плакали, оба болели одной болью. Наконец Кристоф поднял голову, и Луиза, притянув к себе его лицо, заглянула ему в глаза. Ей хотелось сказать:
«Уезжай!»
Но она не могла.
Ему хотелось сказать:
«Я рад, что остаюсь».
Но он не мог.
И выхода не было. Ни он, ни она ничего не могли изменить. В порыве мучительной неясности она произнесла со вздохом:
– Ах! Если б можно было вместе родиться и вместе умереть!
Эта наивная мольба вызвала у Кристофа прилив нежности; он отер слезы и, через силу улыбнувшись, сказал:
– Мы умрем вместе.
Она спросила еще раз:
– Значит, теперь ты уже не уедешь? Ты твердо решил?
Он поднялся с колен.
– Ведь я же сказал, и не будем к этому возвращаться. Я не переменю решения.
Свое обещание Кристоф сдержал: он не заводил речи об отъезде, однако не думать о нем было выше его сил. Он остался, но его жертва дорого стоила матери, которая с тех пор всегда видела его печальным и хмурым. Луиза все делала не к месту и, хотя знала за собой эту слабость, досаждала ему расспросами о причинах его горя, которые были ей совершенно ясны. Она преследовала его своей лихорадочной, утомительной, болтливой нежностью, напоминая ему то, о чем он хотел забыть, – разделявшее их расстояние. Сколько раз он порывался откровенно поговорить с матерью! Но при первой же попытке между ними вырастала глухая стена, и он утаивал про себя свои мысли. Она угадывала, что с ним происходит, но не смела или не умела вызвать его на откровенность. А когда она все-таки отваживалась, дело кончалось тем, что он еще глубже запрятывал свои тайны, как ни жгли они его самого.
Тысячи мелочей, невинных слабостей отделяли Кристофа от Луизы, раздражали его. По старческой забывчивости она нередко повторяла по нескольку раз одно и то же. Она с восторгом пересказывала сплетни, слышанные от соседок, а главное, не уставала вспоминать всякие пустячки из младенческих лет Кристофа с упорством кормилицы, которой не хочется верить, что питомец ее давно уже не в колыбели. Столько кладешь трудов, чтобы повзрослеть, стать человеком! А тут перед тобой – точно назло – развёртывают, подобно кормилице Джульетты, измаранные пеленки, жалкие мыслишки, повесть о той злосчастной поре, когда рождающаяся душа трепещет и бьется, защищаясь от жестокого гнета низменной материи, от окружающего мира!
Однако наряду с этим у Луизы бывали порывы трогательной нежности, когда она видела в сыне просто свое малое дитя; Кристофа покоряла эта ласка, и он отвечал на нее, как малое дитя.
Но, что хуже всего, они с утра до вечера оставались вместе, всегда вместе, отрезанные от других людей. Когда страдают двое и не могут помочь друг другу, страдание неизбежно становится невыносимым: каждый считает другого виновником своего горя, и в конце концов оба утверждаются в этом мнении. Уж лучше быть одному, тогда и страдаешь за одного себя.
Эта пытка повторялась изо дня в день. Ей не было бы конца, если бы, как всегда, не выручил случай – случай на первый взгляд несчастный, но по своим последствиям счастливый, – который сразу же вывел их из томившей обоих нерешительности.
Октябрь. Воскресенье. Четыре часа дня. Солнце сияет. Кристоф с утра заперся у себя в комнате. «Упиваясь тоской», он погрузился в свои мысли.
Наконец он не выдержал, его неодолимо потянуло на воздух, побродить, устать до изнеможения, – лишь бы не думать.
Накануне у него произошла размолвка с матерью. Поэтому он вышел, не простившись с ней. Но, закрыв за собою дверь, почувствовал, какую боль это причинит ей, как тоскливо ей будет в одиночестве. Он вернулся, стараясь уверить себя, будто что-то забыл. Дверь в комнату Луизы была приоткрыта. Кристоф просунул голову в щель. Несколько секунд он смотрел на мать: какое место этим секундам суждено было занять в его жизни!
Луиза только что пришла из церкви. Она сидела на своем любимом месте, в углу у окна. Грязно-белая, облупленная стена противоположного дома заслоняла вид, но направо Луиза видела из своего уголка через дворы соседних домов краешек лужайки величиной с ладонь. На подоконнике стояли горшки с вьюнками; вьюнки карабкались вверх по веревочкам, раскидывая по этой воздушной лесенке тоненькую сетку, позолоченную солнцем. Луиза устроилась на низком табурете; она сидела ссутулившись, с раскрытой толстой Библией на коленях, но не читала. Положив на книгу руки – руки труженицы со вспухшими венами и квадратными, слегка загнутыми книзу ногтями, – она любовалась чахлым растением и лоскутом неба, синевшим сквозь сетку вьюнков. Отблеск солнца, пройдя сквозь золотисто-зеленую листву, ложился на ее усталое лицо с проступавшими на нем красными прожилками, на седые, редкие, очень тонкие волосы и полуоткрытый улыбающийся рот. Она упивалась этим часом покоя, лучшим за всю неделю. Она старалась не упустить этих минут забытья, особенно сладостных для вечных тружеников, когда мысли куда-то уходят, а в немой полудреме только слышен голос наполовину уснувшего сердца.
– Мама, – сказал Кристоф, – мне хочется пройтись. Я пойду в сторону Буйра, вернусь поздно.
Дремавшая Луиза встрепенулась. Повернув голову к сыну, она взглянула на него своим мягким, спокойным взглядом.
– Иди, мальчик, – сказала она, – день погожий, надо погулять.
Она улыбнулась. Он ответил ей улыбкой. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, затем молча попрощались еле заметным кивком головы и взглядом.
Кристоф тихо закрыл дверь. Луиза не спеша вернулась к своим грезам, которые словно посветлели от улыбки сына, – как бледные листья вьюнков под лучом солнца.
Так он покинул ее – навсегда.
Октябрьский вечер. Бледное, нежаркое солнце. Деревня тихо засыпает. С маленьких деревенских колоколен плывет над безмолвными полями ленивый перезвон. Над пашнями медленно поднимается пар. Вдалеке колышется прозрачная дымка. Белые туманы, прильнувшие к земле, ждут ночи, чтобы подняться. На свекловичном поле петляет охотничья собака, не отрывая морды от следа. В сером небе суетливо носится стая ворон.
Кристоф, погруженный в свои мечты, хотя и шел как будто без цели, все же инстинктивно направлялся к определенной цели. Уже несколько недель он каждую свою прогулку заканчивал, сам того не замечая, у околицы какой-то деревни, где неизменно встречал приглянувшуюся ему красивую девушку. Это было только увлечение, смутное, но острое. Кристоф не мог обходиться без любви к кому-нибудь; сердце его редко оставалось незанятым, в нем всегда царил чей-то прекрасный образ, которому он поклонялся. И вовсе не обязательно было, чтобы кумир знал о любви Кристофа, – ему важно было любить, чтобы сердцем не завладел мрак.
Предметом его нового увлечения была дочь крестьянина, которую он встретил, как Елеазар Ревекку, возле источника {74} ; но она не подала ему напиться, – она брызнула ему водой в лицо. Девушка стояла на коленях и проворно полоскала белье в ручье, примостившись в углублении между двумя ивами, как бы в гнездышке из сплетенных корней; языком она молотила не менее рьяно, чем руками, громко разговаривая и пересмеиваясь с деревенскими девушками, которые тоже стирали по другую сторону ручья. Кристоф расположился неподалеку на траве, в нескольких шагах, и смотрел на них, опершись подбородком на руки. Это нисколько не смущало девушек, они продолжали болтать, уснащая свою речь крепкими словечками. Кристоф слушал – не слова, а только звуки веселых голосов, шум вальков и далекое мычание стада; погруженный в мечты, он не сводил глаз с прекрасной прачки. Девушки быстро смекнули, на кого он заглядывается; они стали перебрасываться лукавыми намеками, его избранница не отставала от прочих, – Кристоф не отзывался; девушка встала, взяла узел отстиранного и отжатого белья и начала расстилать его на кустах, подходя все ближе и ближе к Кристофу, чтобы получше его рассмотреть. Мимоходом она ухитрилась задеть его мокрой простыней и, смеясь, задорно поглядела на него. У девушки – крепкой и худощавой – был твердый, слегка выступающий подбородок, короткий нос, правильно очерченные брови, блестящие синие глаза, жесткий, смелый взгляд, красивый рот с полными, немного пухлыми, выступающими вперед, как на греческих масках, губами, густые светлые волосы, свернутые узлом на затылке, и смуглая от загара кожа. Голову она держала высоко, смеялась при каждом слове и шагала, как мужчина, размахивая позолоченными солнцем руками. Девушка развешивала белье и, дерзко поглядывая на Кристофа, как бы вызывала его на разговор. Кристоф, в свою очередь, разглядывал ее, но беседовать с ней у него не было охоты. Наконец она фыркнула ему прямо в лицо и отошла к подругам. Кристоф не двинулся с места; он лежал, пока не спустились сумерки. Он видел, как она удалялась с корзиной за плечами: скрестив на груди обнаженные руки, согнувшись под ношей, она продолжала болтать и смеяться.
Через несколько дней Кристоф встретил ее на городском рынке, среди гор моркови, помидоров, огурцов и капусты. Он слонялся между рядами торговок, которые стояли у своих корзин шеренгами, как выстроенные на продажу рабыни. Полицейский, с сумкой и рулоном квитанций, переходя от одной к другой, получал монету и выдавал расписку. Продавщица кофе сновала между рядами с корзиной, наполненной маленькими кофейниками. Старая монахиня, веселая и тучная, обходила рынок, держа два больших лукошка, и, забыв про смирение, бойко выпрашивала овощи во имя божие. Все галдели; старые весы с зелеными чашами звякали цепями; большие собаки, запряженные в тележки, весело лаяли, гордые доверием хозяев. Среди этой сутолоки Кристоф вдруг увидел свою Ревекку. Звали ее Лорхен. Девушка прикрыла свои светлые волосы большим зеленовато-белым капустным листом, точно зазубренной каской. Восседая на корзине среди груд золотого лука, маленькой желтовато-розовой репы, зеленой фасоли и румяных фруктов, она уписывала яблоко за яблоком и ничуть не заботилась, есть ли у нее покупатели. Ела она не переставая. Время от времени Лорхен отирала подбородок и шею передником, откидывала волосы, терла себе щеку о плечо или почесывала нос тыльной стороной руки. Или же, опустив руки на колени, без конца перебрасывала из ладони в ладонь горсть горошка. Она лениво поглядывала кругом, но подмечала все, что происходит, и, не показывая виду, ловила обращенные на нее взгляды. Кристофа она тотчас же узнала. Разговаривая с покупателем, Лорхен как-то по-особенному прищурилась и следила через голову собеседника за своим поклонником. Она держалась важно, с достоинством, как папа римский, но про себя посмеивалась над Кристофом. И юноша заслуживал этого: он стоял, как столб, в нескольких шагах, пожирая ее взглядом, а затем исчез, не промолвив ни слова.
Несколько раз после этого Кристоф направлялся к деревне, где жила Лорхен, и блуждал поблизости. Она без устали сновала по двору фермы, а он подолгу стоял на дороге, следя за ней взором. Кристоф не признавался себе, что приходит сюда ради нее, да и в самом деле почти не думал о Лорхен. Поглощенный сочинением новой вещи, Кристоф вел себя, точно лунатик: одной частью души он сознательно следил за развертыванием музыкальной мысли, тогда как другая часть, не подвластная сознанию, подстерегала минуты, когда ум бездействует, чтобы вырваться на волю. Встретившись с девушкой, Кристоф не переставал слышать гул рождающейся музыки и, глядя на милое лицо, мечтал и мечтал. Он не знал, любит ли он ее, и даже не задавался этим вопросом; видеть ее было радостью – вот и все. Желание, каждый раз приводившее его сюда, было пока безотчетно.
Эти частые появления Кристофа вызвали в деревне пересуды. На ферме в конце концов узнали о нем всю подноготную и стали над ним подсмеиваться. Впрочем, на него скоро перестали обращать внимание, – слишком уж он казался безобидным. Говоря откровенно, вид у него был преглупый, но это мало беспокоило самого Кристофа.
В деревне был престольный праздник. Мальчишки разбивали камнем пистоны с криком: «Да здравствует кайзер! Ура!» («Kaiser lebe! Hoch!») Громко раздавалось мычание запертого в сарае теленка да нестройное пение собравшихся в кабачке крестьян. Над полями трепетали в воздухе бумажные змеи, хвостатые, словно кометы. Куры судорожно разрывали золотой навоз; ветер раздувал их перья, точно юбки старой дамы. Розовая свинья, растянувшись на боку, спала на припеке сладким сном.
Кристофа приманила красная кровля гостиницы «Три короля», над которой плескался на ветру маленький флаг. По фасаду были развешены вязки луку, а на окнах стояли огненно-красные и желтые настурции. Кристоф вошел в зал, где клубился табачный дым. На стенах висели выцветшие картины, а в красном углу – ярко расписанный портрет императора, окаймленный гирляндой из дубовых листьев. В зале шли танцы. Кристоф не сомневался, что найдет среди танцующих свою красотку. И в самом деле, он сразу увидел ее. Он устроился в укромном уголке, откуда мог спокойно следить за танцорами. Но, несмотря на все принятые им предосторожности, Лорхен очень скоро обнаружила Кристофа. Танцуя без передышки вальс за вальсом, она бросала, через плечо кавалера быстрые взгляды на Кристофа и, чтобы раззадорить его, кокетничала напропалую с деревенскими парнями, смеясь своим большим, красиво очерченным ртом. Говорила Лорхен неестественно громко и болтала глупости, ничем не отличаясь от светских молодых девушек, которые под устремленными на них взглядами начинают смеяться, суетиться, выставлять напоказ свою глупость, хотя куда лучше было бы таить ее про себя. А может быть, это не так уж и глупо: ведь они знают, что на них смотрят, а не слушают. Кристоф, облокотившись на стол и подпершись кулаком, следил за маневрами Лорхен горящим и злым взглядом: он достаточно владел собой, чтобы видеть все ее ухищрения, но все же недостаточно, чтобы им не поддаваться. Он то сердито ворчал, то тихонько смеялся и пожимал плечами, недоумевая, зачем сам лезет в петлю.
Но и за Кристофом тоже следил кое-кто: отец Лорхен. Это был низенький и коренастый старик – большеголовый, курносый, с голым, покрасневшим от солнца черепом, окаймленным венчиком волос, некогда золотистых и кудрявых, как у святого Иоанна на картине Дюрера, аккуратно выбритый, невозмутимый, с длинной трубкой в углу рта. Он вел степенную беседу с другими крестьянами, искоса следя за жестами Кристофа, и втихомолку потешался над ним. Но вот старик кашлянул; с лукавым огоньком в серых глазках он поднялся и подсел к Кристофу. Раздосадованный юноша, насупившись, повернулся к нему; он встретил хитрый взгляд, услышал бойкую речь крестьянина, который даже не вынул трубки изо рта. Кристоф знал, что старик слывет мошенником, но, питая слабость к дочери, был снисходителен и к отцу; встреча с ним даже доставляла ему странное удовольствие, – хитрый старик догадывался и об этом. Поговорив о дожде и хорошей погоде, позубоскалив насчет прекрасных девиц и насчет самого Кристофа, который, дескать, правильно делает, не утруждая себя танцами, – понимает, что куда приятнее сидеть за кружкой пива, – старик развязно напросился на угощение. Отхлебывая из кружки, он неторопливо повел речь о своих делах, о том, как трудно стало жить, о тяжелых временах и дороговизне. Кристоф отвечал больше междометиями. Беседа со стариком мало занимала его: он смотрел на Лорхен. Иногда фермер умолкал в ожидании ответа, но ответа не было, и он опять принимался говорить с тем же чинным спокойствием. Кристоф недоумевал, с чего это старик вдруг почтил его своим обществом и доверием. Но вскоре все стало ясно. Крестьянин, покончив с жалобами, перешел на другой предмет: он стал расхваливать отличное качество своих продуктов – овощей, птицы, яиц, молока и вдруг спросил, не может ли Кристоф порекомендовать его как поставщика во дворец. Кристоф подскочил:
– Откуда вы взяли? Вы, значит, знаете меня?
Знаю, – сказал старик. – Все узнается…
Он не прибавил:
«Надо только не лениться и самому последить за нужным человеком».
Кристоф не отказал себе в ехидном удовольствии и сообщил папаше Лорхен, что хоть «все и узнается», но одно, по-видимому, еще не узналось, а именно: что он недавно поссорился со двором; да и вообще, если он когда и пользовался влиянием на дворцовую кухню (в чем он сам, впрочем, сомневается), то сейчас это уже дело прошлое – было и быльем поросло. У старика чуть заметно покривились губы. Однако он не сдался: немного погодя он спросил, не может ли Кристоф порекомендовать его – на худой конец – некоторым семьям в городе. И перечислил без запинки все дома, с которыми Кристоф и в самом деле был знаком, – старик, оказывается, собрал на рынке самые подробные справки. В другой раз Кристоф впал бы в бешенство, узнав о подобной слежке, но его рассмешила мысль, что крестьянин остался в дураках, несмотря на всю свою изворотливость (ведь он и не подозревал, что рекомендация Кристофа не только не доставила бы ему новых заказчиков, а еще лишила бы старых). И Кристоф не мешал ему без толку выкладывать весь свой запас мелких и неуклюжих хитростей, не отвечая ни да, ни нет. Но крестьянин не отставал. Теперь он уже посягал на самого Кристофа, на Луизу, которых приберег к концу, – он хотел во что бы то ни стало сбывать им молоко, масло, сливки. Старик напомнил Кристофу как музыканту, что для голоса нет ничего лучше свежих яиц в сыром виде – одно утром, одно вечером, – брался поставлять их тепленькими, прямо из-под курицы. Поняв, что старик принимает его за певца, Кристоф расхохотался. Крестьянин воспользовался и этим – заказал еще бутылочку. И, выжав из Кристофа все, что можно было выжать в данную минуту, без долгих церемоний ушел.
На улице темнело. Танцы были в самом разгаре. Лорхен уже позабыла о Кристофе: она и без того захлопоталась, стараясь пленить одного из кавалеров, сына богатого фермера, за которым охотились и другие девушки. Кристоф с увлечением наблюдал за этим соперничеством: он видел, как нежно улыбались девицы, впрочем еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться друг другу в волосы. Добряк Кристоф, забывая о себе самом, желал победы Лорхен. Но когда победа была достигнута, он опечалился и упрекнул себя за эту печаль. Ведь он не любит Лорхен, – так пусть же она полюбит, кого ей вздумается. Это все так. Но мало радости сознавать, что сам по себе ты никому не мил. О тебе вспоминают лишь тогда, когда ждут какой-то выгоды, а затем над тобой же издеваются. Кристоф повздыхал, глядя на Лорхен, которая стала еще краше от сознания, что ей удалось затмить и разозлить своих соперниц, и собрался уходить. Было почти девять, а ему предстояло сделать добрых две мили.








