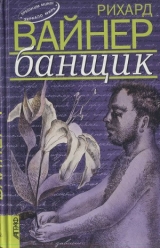
Текст книги "Банщик"
Автор книги: Рихард Вайнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
Я давно уже ерзал на своем стуле. Мне больно было слышать эту внезапную и непрошеную Элину бесстыдную исповедь. Я не выдержал:
– Эля, значит, подобное с тобой уже было!
Но она повторила, как будто ей это было безумно важно, повторила капризно, едва не топая ногой:
– Говорю же, он уставился на меня во все глаза, подошел почти вплотную – ясно тебе? – и вдруг говорит: «Никакая ты не тетка. Ты в самом соку. Ну что – займемся этим?» В общем, я не стану тебе описывать, как именно он на меня смотрел. Но вот как смотрела я, если он осмелился на подобное, – ты слышишь, Тонда? – как же смотрела я? Ладно, Тонда, я расскажу тебе все, если ты знаешь, что я из себя представляю, а может, ты что-то слышал или видел… «Ах вы идиот, что значит – займемся этим?» И влепила ему такую… нет, эта пощечина не была искренней, потому что все во мне играло, но и не такая, как ты подумал… А он расхохотался, даже обрызгал меня: «Так вот ты, значит, как, девка? А что ты скажешь на это?» И не успела я глазом моргнуть, как он схватил эту собачку, – вот видишь, я опять сказала схватить – она и не пискнула, и швырнул мне ее к ногам. Задушенную. Сколько у меня с тех пор было мужчин!!!
– Эля!
– Понимаешь, я не могу без этого, без этого самого. Не то чтобы я хвасталась, нет, и не стоит так уж пытаться отучать меня от этого! Конечно же, это болезнь!
(«Конечно же, это болезнь!» – она произнесла почти с гордостью.)
– Хуже всего то, что я прекрасно знаю, что изменилась бы, если бы хоть кто-то из них остался со мной – потому что, видишь ли, все они… и какая мне, казалось бы, разница?.. я не знаю, почему, но они потом всегда выкидывают меня, даже на глаза больше не показывайся, ты, лахудра, вот что они говорят, и я не понимаю, почему, мне кажется, я к ним всей душой, такая ласковая – на чем это я остановилась? ах да! в общем, я изменилась бы, если бы кто-то из них не бросил меня, но он должен все знать, понимаешь, он заранее должен был бы знать, какая я, должен, понимаешь?
– Но ведь ты же его нашла, у тебя есть Франк, с тобой же здесь Франк, он тебя любит, – воскликнул я, совершенно раздавленный таким подробным и жутким рассказом. Раздавленный и отупевший; довольно долго я уже вообще никак не реагировал. Опустошенность. Возможно, слегка прикрытая жалостью, возможно; но жалость эта напоминала трухлявое дерево: рассыпалась при первой же попытке всхлипнуть. Повергало в изумление меня только одно: если она не скрывает такие вещи, то почему отрицает, что была в субботу на площади Нации?
Некоторое время она непонимающе глядела на меня:
– Какой Франк? Ах, ты об этом? Какой же ты недотепа, Тонда! – засмеялась она (и, честное слово, засмеялась просто и естественно, совсем невпопад с тем, что она только что рассказывала), – неужели ты все еще не понял? Франком я называю про себя того, кто должен был бы им быть. Подумай хорошенько: Франк, Франк, ты же знаешь французский, правда? Это кто-то искренний, короче, тот, кто в силах освободить.
– А позавчера на площади Нации?
Эля подскочила с места, как ненормальная:
– Сколько раз я должна повторять, что я там не была, мы были в Манте, я и Миря. Это тебе надо бы объяснить, зачем ты пристаешь ко мне с этой выдумкой! Кто тебе что понарассказал? Откуда ты узнал? Неужели тебе неясно, что я никогда не стала бы тебе ничего говорить, если бы ты не застал меня врасплох с этой площадью Иржи из Подебрад, ты ведь держался так, будто видел все собственными глазами, но только здесь, в субботу.
– Как это?
– Нет, нет, – вдруг прошептала она изменившимся голосом, – это неправда, что я бы тебе ничего не рассказала, хотя…
– Что – хотя?
– Pass nicht auf, das will nichts heissen. Позавчера ты меня видеть не мог – да вот, взгляни-ка!
В комнату входила какая-то девушка. На поводке она вела лохматую собаку. Это была та самая, которую Эля приводила в пятницу ко мне.
* * *
Я обернулся. Миря вряд ли рассчитывала застать здесь постороннего. Она входила по своему обыкновению. Когда же она меня заметила, то попыталась изобразить профессионализм. По-моему, это называется – принять вид неискушенной лицеистки. Позднее я понял, что это было ее излюбленное амплуа. Сейчас, однако, ей не хватило времени; кроме того, она не была накрашена, то есть не накрашена, как подобает. Выражение выпуклых глаз не достигло заученной невинности, рту чуть-чуть недоставало изумленной боязливости, а с ангельски задумчивого лобика еще не исчезли морщинки профессиональных забот. Когда я обернулся к ней, Миря попыталась было придать своему лицу проказливое выражение, но понимая, что уже не успевает, отказалась от этого и вновь стала такой, какой была, когда входила в дверь, ни о чем не догадываясь. Только слепой мог бы не понять, с кем имеет честь. Миря, видя, что проиграла, отказалась от своего замысла окончательно. Как говорится, un beau joueur[58]58
Она знает свое дело (букв. «она умеет проигрывать», фр).
[Закрыть]. И возникла та парадоксальная ситуация, когда сцена, начавшаяся с откровенного лицемерия, вполне естественным образом завершается непритворной искренностью.
Приветственное «Gu’n Tag» Мири относилось и ко мне, как и весь ее грубовато-дружеский тон. Но при этом присутствовала собака. Собака, которая меня обезоруживала. Миря, передавая ее Эле, сказала, поведя плечом: «Тонда?»
Собака, почувствовав, что ее поводок в руках Эли, немедленно легла. Однако тут же поднялась, прошлась слева направо и легла снова. При этом она вела себя точно так же, как тогда у меня: как животное, которое не хочет разговаривать. Значит, это была она. Но в то же время я ощущал нечто большее, чем то, что это просто она: произошла будто бы перемена декораций при поднятом занавесе.
Миря не была загадочной; Миря не была интересной; Миря была одной из тех двадцатипятилетних, которые, если это необходимо, выглядят на семнадцать. Потому что это – их жанр. Бог знает, каким образом Миря показывала другим, что это – ее жанр и что это изо дня в день ей необходимо. Она была воплощением порока – причем порока белоснежно-невинного.
Я: То-то вы, должно быть, удивились, встретив Элю? В Париже!
Миря прыснула со смеху.
Миря: Где встретила?
Я: На площади Нации.
Миря: Вот еще придумали!
Эля: Миря приехала со мной. Мы приехали вместе.
Я: Вместе? Ведь ты писала, что вы встретились на площади Нации.
Эля: Pass nicht auf, das will nichts heissen.
Я: Зачем эта ложь, Эля, зачем она тебе, если ты исповедуешься, хотя никто тебя об этом не просил, да еще исповедуешься так, что от этого делается больно?
Эля: Привычка. Pass nicht auf.
Я: Эля, я был в субботу на площади Нации! Это не сон. Я могу это доказать. Я там ужинал, видел тебя, говорил с тобой, говорил с Андре, видел, как ты села в наемное авто, держал в руках тот самый мешок, нашел там…
Эля: Меня там не было. (С каменным выражением лица.) Миря, где мы были в субботу вечером?
Миря: В Манте, конечно.
Эля: А что мы делали в Манте?
Миря: Ну как же, были у того старика…
Эля: Ты меня ревнуешь, Миря?
Миря: Les affaires sont les affaires, junger Herr![59]59
Дела есть дела, молодой человек (фр… нем.).
[Закрыть]
Я: Но зачем столько лжи, Эля, зачем столько лжи? Ложь требует таких усилий!
Эля: Pass nicht auf.
Я: Эти картинки пришпилили вы?
Миря: S’ gefällt ihnen, nicht wahr?[60]60
Они вам нравятся? (нем.).
[Закрыть]
Я: Так это вы?
Миря: Man will’s doch schön haben[61]61
Нам хочется, чтобы тут было красиво (нем.).
[Закрыть].
Я: К чему вся эта глупая ложь, к чему вся эта бесстыдная ложь?
Эля: Мы еще не закончили, Тонда. Das alles will nichts heissen.
Кто-то постучал в дверь.
Миря: Hereinspaziert[62]62
Прошу вас (нем.).
[Закрыть].
Вошла толстая еврейка. Толстая, представительная еврейка-сводница.
Эля (вежливо поднявшись): Господин Икс, мать Мири.
Мать Мири: Vergnügen[63]63
Очень приятно (нем.).
[Закрыть]. Эля о вас рассказывала.
Появление матери Мири было подобно линейке. Ты точно знал, что линия пройдет прямо. Но каждая линейка имеет конец; куда же направится линия после этого?
Миря и ее мать говорили только по-немецки. Обе они были еврейки из Черновиц, бежавшие от погромов. Их большая семья после этого рассеялась.
Это была толстая представительная еврейка-сводница. Там, где она появлялась, все точно начинало охать: это было оханье по поводу пережитых ужасов, погромов, врожденное, неожиданно проявившееся декадентское оханье по поводу страха перед будущим, чудесным образом приспособленное к нынешним временам; это, наконец, было будущее оханье всех продажных девок, изумленных той легкостью, с какой они выпутываются из любых ситуаций.
Миря и ее маменька обосновались в Праге. Миря «работала» танцовщицей, Мирина маменька придумала «уловку», как слиться с русской эмиграцией (обе немного говорили по-русински[64]64
Подразумевается русинский язык – ответвление украинского, существовавший в Подкарпатской Руси, которая была составной частью Чехословакии с 1920 по 1939 г. (прим. пер.).
[Закрыть]); красавице Мире было двадцать пять лет, однако когда ей хотелось, то восемнадцать; это была ее «уловка», но она превратилась в нечто гораздо более привлекательное – в жанр.
Этот господин из Манта был вовсе не из Манта. «Он служил родине», то есть занимал какой-то пост в Праге и там приметил Мирю. В Манте у него был всего лишь загородный дом.
Маменька Мири сплела для меня эту путеводную нить за каких-нибудь пять минут; отрывисто охая, отрывисто говоря и держась при этом с достоинством дипломата, повествующего о деликатном, однако вполне благопристойном предмете, и жесты ее были жестами гонимого божества, которое так до сих пор и не поняло, отчего же оно впало в немилость.
Маменька Мири: Sie verstechen doch![65]65
Вы меня понимаете? (нем.).
[Закрыть] Этот француз само очарование, он любит Мирю, но еще ей не открылся. Он уже в возрасте. Wer kann wissen? Auf ihn allein können wir uns nicht verlassen[66]66
Как знать? На него одного полагаться нельзя (нем.).
[Закрыть]. Моей дочке нет даже двадцати. Und das Talent, das sie hat[67]67
А какой у нее талант! (нем.).
[Закрыть].
Я (по-чешски): Зачем ты написала мне, что встретила ее? Почему умолчала о том, что приехала с ней, а не с каким-то там Франком? Почему ты выбрала именно ее? Куда тебя несет, Эля? Элечка, ты ли это?!
Эля (по-чешски): Потому что она… она все умеет. Видишь ли, она такая надежная, ни чуточки не эгоистичная, и ходы знает.
Я (по-чешски и после долгой паузы): А мне все вспомнилось именно теперь! Именно теперь!
Собака встала и безмолвно прошлась справа налево.
Эля (пнув ее, по-немецки): Kannst nicht still sein![68]68
Да замолчи ты! (нем.).
[Закрыть]
Я (по-чешски): А твой муж? Как вышло, что он ни о чем не догадался? Он не мог не догадаться! Значит, ты сбежала от него? Или он тебя прогнал?
Эля (по-чешски): Что это ты себе вообразил? Разве я не говорила тебе, что приехала сюда попрактиковаться? Он знает, что я здесь, мы обо всем договорились.
Я (по-чешски): Неужели этот болван за столько лет ничего не заметил?
Эля (по-немецки): За сколько лет?
Я (по-чешски): За сколько лет? Да с площади Иржи из Подебрад!
Эля: Es ist kaum ein Monat her[69]69
Да с тех пор всего-то месяц прошел (нем.).
[Закрыть].
Маменька Мири: Also werden sie mit ihrem vzavzavza bald aufhören?[70]70
Вы перестанете наконец это ваше вза-вза-вза? (нем.).
[Закрыть]
Эля (по-чешски): Нет! Ты все хочешь по правилам! Так вот: я сказала тебе, что это тянется уже годы. Но неужели ты думаешь, что я вынесла бы хоть полгода такой жизни?
Я (вид непонимающий, не издаю ни звука).
Эля: Неужели ты не понимаешь, что я приехала сюда потому, что для меня и месяц такой жизни – это уже слишком? Что…
Я (вид непонимающий, не издаю ни звука).
Эля: Um Himmelswillen, pass’ nicht auf![71]71
Господи, да не придавай ты этому значения! (нем.).
[Закрыть]
Маменька Мири: Endlich! Enfin! Das ist eine Unart czechissch zu reden. Wir, die nichts verstehen. Sie, ein Gentleman![72]72
Ну наконец-то! Это невежливо говорить по-чешски. С нами, которые не понимают. Вы же джентльмен! (фр. нем.).
[Закрыть]
Я (по-немецки): Но почему ты написала, что именно на площади Нации?
Миря: Я влюбилась в площадь Нации, понимаете? Я обожаю шикарные тротуары, такие шикарные, что из-за этого по ним никто не ходит. Я там одна, понимаете? И потом, разве я не русская? Я люблю простор. Er ist so weit, er ist so weit, dieser Platz de la Nation![73]73
Там так просторно, на этой площади Нации! (нем., фр.).
[Закрыть]
Блики, блики, замысловатые злые блики.
Я (по-чешски): А Хуберт. Твой ребенок Хуберт?
Эля (по-чешски): Я не виновата, Тонда! Наверное, это просто сон, Тонда! Тоничек, это не я! Я поехала сюда ради такой гнусности… Как будто отправилась в паломничество к святым местам… Разве это я?.. Что ты сказал?
Я: Я сказал – «Хуберт». Я сказал «твой ребенок Хуберт». Я сказал «Элечка!»
Эля: Это не я.
Маменька Мири: Гы-ы!
* * *
Это было что-то наподобие гриппа.
Эля писала мне: «Лежу, у меня жар. Приходи, Тонда. На Афинской улице я больше не живу, перебралась на Бернскую. Живу одна. Я получила телеграмму».
Я осведомился у портье, где Элина комната; он сказал, что у нее врач.
Я встретил его на лестнице. Но действительно ли я встретил его на лестнице? Он оказался колченогим старичком, испуганно вцепившимся в перила. Его глаза – это были глаза врача, которые нарочно смотрят так, чтобы ничего не замечать, потому что они видят столько, что боятся напугать вас, случайно открыв вам все то, что им пришлось повидать, открыв то, что навсегда осталось в них, точно аккуратно пришпиленные бабочки «павлиний глаз» или «мертвая голова»… да-да, точно аккуратно пришпиленный «павлиний глаз» из коллекции. Не знаю, отчего мне почудилось, будто он в сморщенной серой шляпе, в очках с костяной оправой, с тростью и с клистиром под мышкой. Не знаю, отчего, но этот элегантный господин показался мне доктором Кальяри (о, слава кинофильмам, вдохнувшим новую жизнь в заброшенную фабрику по производству сказок, легенд и мифов!), который вежливо, который почти подобострастно вжался в стену, чтобы я мог пройти. Это была узкая винтовая лестница, привычная для небольших гостиниц, лестница, где являются привидения – если вам этого захочется или если вы замечтаетесь. Я представился.
– Разрешите узнать, доктор, как обстоят дела в восьмом номере?
– В восьмом номере пожар, – ответил он, старчески хихикая, вытянул перед собой палец и прикоснулся к моей груди.
– Я знаю, – сказал я, ибо мне не только показалось совершенно естественным, что в восьмом номере пожар, но я даже увидел его своим внутренним взором, как если бы именно слова доктора и разожгли пламя; это была памятная плита, усеянная пестрыми язычками огня, которые стегали Элю, лежащую посередине, словно искусно изготовленная клумба с нарциссами и тюльпанами на Карловой площади. Тюльпанами были язычки огня, которые облизывали ее, не нанося никакого вреда.
– А если вы знаете, – захихикал он, – то вам известно также и то, что она только прикидывается, будто у нее жар. Чтобы оправдать своего морского конька, свой фетиш, с которым она не расстается и с которым играет.
– Я знаю, – сказал я, увлекшись яростной битвой, что разыгралась между его жестоко ухмылющимся ртом и печальным сочувствующим взглядом.
– Я знаю, – продолжал я, приблизившись к нему вплотную, – что это ангел в женском обличии, на которого Бог не обратил еще свой взор, и что ее болезнь – это совсем другое.
– Вы словно читаете мои мысли! Да, ее болезнь – это другое, но Бог, который отнюдь не всеведущ (что за клевета!), уже прослышал об этой женщине. Когда у Него выдастся свободная минутка, Он заметит ее, вот увидите.
– Профессия врача – это прекрасная профессия, – ответил я и тем самым, не желая того, ушел в сторону от предмета нашей беседы, ибо как раз в этот момент жестокость начала перемещаться от рта врача в сторону глаз, а печаль взгляда – в сторону рта, где накапливалась. – Благодарю вас, – сказал я, поклонившись, и продолжал взбираться по ступенькам.
Однако, оглянувшись, я заметил, что он следует за мной, семеня и отдуваясь и при этом маня меня пальцем. Я остановился и шагнул ему навстречу. Но теперь он сделал пальцем отрицательный жест и, вытянув тощую старческую шею, просипел:
– Passen sie nicht auf, das will nichts heissen, через пару дней она поправится.
Эта комната была совсем иная, чем на Афинской улице. Обивка мебели однотонная, стены голые. Почти как в монастырской келье.
Таково было ее внешнее убранство. Но средоточие комнаты, или скорее ее внутреннюю оболочку, представляло собой нечто такое, в чем я тут же распознал ее иную, истинную сущность, и это нечто в точности соответствовало картине, которая возникла у меня в мозгу, когда доктор сказал: «В восьмом номере пожар». Однако же такое восприятие комнаты, пускай столь же реальное, как и она сама, рисовалось лишь тому взгляду, который, как я понял, был дан мне лишь на очень короткое время. Мои глаза видели только яркий белый свет – и ничего, кроме света, в котором утопало все (пестрые язычки огня, лижущие Элю, которая лежит среди них) и который как будто обращался ко мне с непонятными словами – смысл коих мне, однако, не был чужд, – и слова эти означали на обычном языке «сон об уверенности, что я не сплю». В остальном, впрочем, за окружающим наблюдали мои истинные глаза, я заметил в головах Элиной кровати лампочку с абажурчиком из шелковой бумаги. В белом конусе света виднелись Элины голова и руки. А еще – голубой бланк телеграммы и высохший морской конек. Несмотря на все попытки освободиться, Элины голова и руки не могли покинуть пределы конуса. Свет не то чтобы преследовал их, он просто поместил их в свои границы – из любви к ним.
– Ты вырвалась от них, Эля?
Ни слова; поскольку я все-таки посмотрел на этого засушенного конька, лежащего поверх белого покрывала рядом с телеграммой (а как было на него не посмотреть?), Эля, которая играла с ним, сказала, точно арфа пропела:
– Это он, понимаешь?!
(Это «понимаешь?!» в тот вечер она произнесла еще много раз. Она говорила это слово с интонацией, мне знакомой. Это было «понимаешь?!» тех умирающих, которым выпала милость узреть чуть раньше, чем яркий свет полностью поглотит их, и которые поэтому прощаются так легко и без злобы к живым.)
Я рассказал ей, что нашел его еще тогда.
– Нехорошо рыться в чужих вещах, – сказала она, улыбнувшись. – Однажды я увидела его в аквариуме. Он плавал сверху вниз, сверху вниз. Одновременно и лошадиная голова, и знак вопроса. Знак вопроса, которому нет покоя: сверху вниз, снизу вверх – непрерывно. А потом я отыскала в какой-то лавочке вот этого – засушенного. Я все вспомнила. И купила его. Это мой фетиш.
– Но фетиш не бросают Бог знает где.
– Мой знак вопроса тоже Бог знает где.
Элины глаза были теперь опять такими, как прежде: незабудки. Множество воспоминаний, которые растворяются одно в другом и именно поэтому оставляют после себя цвет незабудки: Воспоминание.
Со мной опять была Эля. Это была она.
Если поначалу меня и занимало, почему она вновь в одиночестве, почему с ней нет больше ни мохнатой собаки, ни Мири с ее маменькой, а также когда и почему она дала им всем отставку, если поначалу это меня и занимало, то при виде незабудок все ушло куда-то, внезапно я все уже знал, и Эля знала, что я все знаю.
Мы оба знали, что об этом фетише можно больше не говорить, что говорить о нем не нужно, нельзя.
Я положил свою руку поверх ее. Теперь я тоже очутился в этом конусе света. Он согревал меня.
– Хуберт болел, – сказала она, – вот телеграмма. Но сейчас ему уже лучше. А место я себе так и не нашла, – добавила она небрежным тоном и улыбнулась.
– Место! – Это слово вырвалось у меня, и я испугался; потому что тотчас же заметил легкое облачко, омрачившее Элин лоб.
– Почему ты не хочешь поверить, что я здесь и из-за места тоже? Не думаешь ли ты, что я убежала?
Мы вновь оказались всего только в гостиничном номере – и нигде больше. И лишь маленький конус света – скорее даже золотой пыли, а не света, и я словно бы видел, как эта пыль оседает на Элиных руках, – лишь этот маленький конус остался после боев, которые уже отгремели. После битв латников, сражавшихся со лживой людской правдой.
– Ты, наверное, думаешь, что это был всего лишь предлог. Что я приехала сюда из сумасбродства, ради этого, но я точно так же, и совершенно искренне, приехала искать место, попрактиковаться, как я тебе говорила… а возможно, и из-за чего-то еще, что мне только предстоит узнать… а может быть, я уже и начала это узнавать. Тонда, как ты мог не заметить, что эти три силы, которые гнали меня в Париж… что эти три силы – это как раз то, что нам следовало бы понять, чтобы постичь самих себя и что мы вряд ли когда-либо поймем! Разве с тобой не бывает так: ты совершаешь нечто ради чего-то, совершаешь именно из-за этого, а не из-за чего-то другого, и тем не менее какой-то голос нашептывает тебе – тихо, но убедительно: наивный, нет, нет, это не то?! И ты чувствуешь себя так, как будто едешь на поезде, который думает, что едет по расписанию туда-то и туда-то, но при этом знает, что доедет – если вообще доедет – только туда, где ему предстоит сойти с рельсов?
Моя рука все еще лежала поверх ее рук, рук, которые, словно сговорившись, слегка подрагивали – но только слегка.
Мы долго сидели так и говорили о многом, не сводя друг с друга глаз. Город шумел, и шум этот устремлялся ввысь, удивительным образом соответствуя нашим невысказанным словам.
И мы втроем так хорошо понимали друг друга, что Парижу и мне сразу стало ясно, что имела в виду Эля, когда вдруг ни с того ни с сего произнесла: «Да».
Эле, однако, этого как будто не хватило. Нет, не то чтобы не хватило, но словно бы оказалось недостаточно. Словно она была настолько богата, что могла позволить себе роскошь заплатить по старым долгам: она взяла мою руку и слегка пожала ее.
И, как бы продолжая, она заговорила:
– …ну вот, а как-то раз, когда я уже не знала, куда деваться, сижу я перед какой-то шкатулкой. Воспоминания. Перебираю разные бумажки, бутоньерки, ленточки, списки партнеров по танцам. Вот письмо. Я с первого взгляда угадала, чье оно. Это было то письмо, которое ты однажды послал мне, а я над ним посмеялась. Я лгала. Мне тогда и в голову не приходило…
– Это уже почти неправда, Эля.
– Правда – это всегда правда, Тонда. Правда – она навеки, Господь Бог не шутит. Я сказала себе: «Сейчас» – понимаешь, сейчас – это, наверное, мое наказание за тогдашнее. А еще всплыло воспоминание о морском коньке. Знак вопроса! Почему этот знак вопроса так манил меня? В конце же стояло – Париж.
– Париж!
– И словно мельница завертелась: Париж – Тонда, Тонда – Париж, Париж – Тонда, Тонда – Париж… И так до бесконечности.
– Нет!
В это время потребление электричества резко падает. Магазины и конторы закрываются. Огни, которые остались, становятся ярче. Белее.
– Франк, это ты.
– Нет!
– Но я же ничего от тебя не хочу, Тонда…
– Но я же от тебя ничего не хочу, – повторила она, немного волнуясь. – Ты стал Франком именно потому, что я ничего от тебя не хочу, понимаешь?
Вечер внезапно точно обернулся утром. И я – не знаю, поверите ли вы мне, – но я только сейчас вспомнил, что нынче Сочельник и что я приготовил для Эли подарок. Я подошел к своему зимнему пальто, достал из кармана коробочку и положил ее рядом с телеграммой и морским коньком.
Эля, которая все больше походила на ангела, не поблагодарила меня, она продолжала говорить, чуть сильнее сжав мою руку.
– Когда мы отправляемся в паломничество к святым местам, мы не ждем за это награды. Мы отправляемся в паломничество, потому что эти места нам кое-что напоминают. Понимаешь?!
– Нет.
– Ну, что это именно то место, которое ведет куда-то…
– Не понимаю.
– Что это место никуда уже привести не может… А ты не покинул меня. Иначе тебя бы не было здесь, рядом со мной, с той, которая столько лгала. Но почему? Почему?
Теперь я ясно услышал – но к чему говорить, что именно я услышал? Я сказал что-то, сам того не заметив. И удивился, когда Эля спросила:
– Ты так думаешь?
– Что я думаю?
– Ты уже сам не знаешь, что говоришь, Тонда? Ведь ты сказал: «Наверное, ты лгала потому, что боялась открыть правду, которая так тебе нравится».
– Я это сказал? И что же, я угадал?
– Думаю, нет, – проговорила Эля, – наверное, я лгала потому, что правда не нужна этому миру.
* * *
Эля писала мне: «Муж телеграфирует, что Хуберт скучает без меня и плачет, что он уже выздоровел, но все-таки плачет. Может быть, это и есть тот истинный голос, что звучит именно благодаря нам. Зачем мне оставаться в Париже, если место я себе так и не подыскала? Итак, я уезжаю, я видела Франка, он и впрямь не покинул меня, он точно столб, к которому поспешает арка, а над ней – небесный свод, где обитает тот, третий… в общем, ты понимаешь. До свидания, Тонда, Тоничек, я оставила для тебя кое-что у портье».
В маленьком свертке оказался засушенный морской конек, а еще там был клочок бумаги, а на нем – большой знак вопроса, рядом с которым стояло: «Поняла».
Гостиничные портье обретаются в теплых передних, окруженные множеством вещей, разобраться в которых непосвященному очень трудно. Например, там висит колокольчик. Портье отлично известно, что возвещает этот колокольчик, когда он начинает звонить, но что скажет эта акустическая азбука Морзе непосвященному?
Я взял ту мою коробочку и отошел в сторону, чтобы открыть ее. И тут зазвонил колокольчик. Я поднял голову, сам не сознавая, сплю ли я еще или уже опять бодрствую. Ведь никогда не знаешь, что произойдет, если у твоих дверей вдруг грянет звонок. Поистине: мир необъятен; столь необъятен, что мудрейшим оказывается тот, кто признал, что теряется в нем, и, с запрокинутой головой и зажмуренными глазами, просто внимает.








