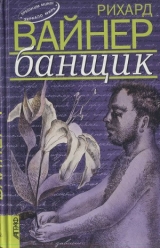
Текст книги "Банщик"
Автор книги: Рихард Вайнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Но взгляните на его восторг! Неужели и человек, обитающий уже внутри чуда и ныне осторожно вступающий на наклонную плоскость неведомой земли, наверняка зная всем своим существом, что она явлена ему как удивительная ипостась того, что он называл «время, прожитое мною», неужели и такой человек еще алчет познания (о, вовсе не познания причин, но того, что может быть одновременно одеянием, одеваемым и одевающим) и поет ему хвалу? Абсурд!
Йод и соль, волны, словно жертвенные барашки, остриженные перед жертвоприношением, сломанная мачта, и со стоном гудящая рея; и эти до небес вздымающиеся лазурные горы на горизонте – при этом они так далеки, что кажутся не выше цепи коралловых островов, а над ними – колечки облаков, голубицы и много солнц – какое предчувствие ошеломляющей свободы, чьей хартией был листок посреди урагана, этот то ли свиток, то ли клочок, то ли сгустившаяся молния. Хартией свободы. Вот почему человек с повисшими руками и склоненной головой должен был, хотя бы там ничего и не оказалось, все же прочесть его. Он обратил взгляд к распятому, чтобы убедиться, вправду ли можно назвать свободой то, что видно через окна заколдованного замка, где была заключена его зависимость, и прочитал – не читая, увидел – не видя, услышал – не слыша: соглашаться и отказываться. – Да и нет едины.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Теперь он не здесь. Но это такое «не здесь», какое себе могла бы (если могла бы) представить линия, говоря о пространстве. Море поглотило и переваривает. Снова беспредельность, но обузданная. Многие солнца собрались в одно, как камешки в стереоскопе. Нет больше застывших парящих голубиц, есть лишь чайки, летающие низко и испуганно. Зачем было думать о блаженных, мучениках и их палачах? Над сомкнувшимся морем – вновь лишь неведомые континенты, а на них люди, обделенные волей. Они хотели знать.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Он не здесь. «Не здесь», перед которым наше воображение испаряется, подобно воображению линии перед пространством. Можно, пожалуй, сказать – не завидуйте! – что он сошел туда, где все вопросы парализованы, ибо парализована воля к познанию. Способность судить покинула его; мы сказали бы, что он был освобожден; он сошел (или вознесся? но что это за вопрос!), сошел куда-то, где не только все возможно, но где его ничто не изумляет. Он настолько свободен, что грезит. Он еще свободнее: он, подобно тем завоевателям, что слились с покоренными, покорил свои грезы; подчинился им так же послушно, как живые и бодрствующие, разучившиеся мыслить самостоятельно, подчиняются изученному, которое не более чем категорический императив мысли, императив миража. Вовсе нет! Он еще намного свободнее. Ибо он не может иначе, он одновременно соглашается и отказывается. Все, что он видит, слышит, осязает, думает, становится им; буквально им. – Так сдайтесь же, бодрствующие! Не грезам – вы, конечно, хотели бы этого! – не грезам, которые вас избегают, но их немым неласковым объятиям, что обхватили ваш день и толкают его в будущий сон. Кокон, в котором ночь играет в мертвеца. Но в куколке, помещающейся на ладони, зреет непомерный империализм крыльев. Есть ли доказательство более убедительное, что ваши грезы – это вы сами?
Самая первая «мысль» уходящих – это видение. Видение, потому-то сон – брат смерти. (Так говорит словарь нашей скорби. И наоборот: «Свобода снов равна свободе смерти».)
Вот ведь отвратительный лиризм живого писателя, заплутавшего на границе, откуда он смотрит в обе стороны и, смотря в обе стороны, увлекается вместо того, чтобы распоряжаться. Забыть об утопающем! Думать о чертежных кнопках, то есть помнить о чертежных кнопках! До сих пор распоряжаться не было моим ремеслом. Уж не помню, кто именно отказался выдать мне диплом надсмотрщика. Но хотя мои мысли и были заняты чертежными кнопками, о Наполеоне я еще не забыл. Даже перед лицом Святой инквизиции я все-таки сумею с кривой улыбкой, открывающей мои редкие зубы – зубы лжеца, и водрузив на голову шутовскую митру (это из спортивного честолюбия, чтобы меня не приняли всерьез), сказать: рай был; и первородный грех тоже; и из-за первородного греха мы были из рая изгнаны. Рай был; и раем был край «всего возможного», то есть край, где все не только возможно, но даже и не изумляет. Пожалуйста, пока еще не убегайте. Я не исключаю, что позже вы от своего согласия отречетесь. Мне было бы вас жаль; это бы доказало вашу несостоятельность. Не более. Еще по паре коктейлей, и мы пришли бы к согласию. Пара коктейлей – это немного, но я исхожу из некоего минимума в кошельке. Я, понятно, предвижу остроумные шутки, под которые себя великодушно подставил. Но мне, знающему, на что способна пара коктейлей, мало дела до шуток. Способна она на многое; она снимает с ангелов их излишнюю скромность и стыд, а со свиноторговцев – костюм от дорогого портного, в котором они притворяются джентльменами.
В любом случае я надеюсь, что желающие оценят по заслугам тот факт, что я потратил на демонстрацию своей мысли не очень много их драгоценного времени. Аподиктическая резкость – которая некоторым, возможно, покажется наглостью, ибо уж слишком резво перескочил я от утверждения к выводу, минуя доказательство, – кажется мне скорее симпатичной. Время дорого, и элементарная вежливость требует признать, что Ветхий Завет знают все.
– Итак, человек был изгнан из рая потому, что съел плод с древа Познания. Кстати: каждый из нас отлично осведомлен о том, что он получил, когда не послушался райского лесничего: то самое пресловутое похищенное познание, которым мы до сих пор иногда хвастаемся, это не Познание, но некий выбракованный товар, предназначенный цивилизованными на экспорт нецивилизованным (называют его по-всякому, но чаще – цивилизацией), а именно – способность судить. (Если среди читателей есть те, кто со мной не согласен, пусть не утомляют себя поднятием руки. Скоро вы увидите, что это излишне.)
Способность судить: это означает примитивную алгебраическую операцию, обесцененную к тому же еще и тем, что нищая, но честная цифра заменяется не менее неимущей, но надутой буквой. А плюс В равно С пыжится так, словно гораздо лучше, чем два и два, которые равны четырем. Однако Бог, похоже, обидчив. Этой убогой Адамовой кражи ему хватило, чтобы запретить рай нам всем. Не исключая даже тех, кто дует в трубы мощнее иерихонских (правда, теперь их, к сожалению, делают из железобетона); короче говоря, Адам был всего лишь старейшиной-паралитиком, позволившим себя одурачить. – Изгнаны из рая с нищенской сумой, где вместо корки хлеба – способность судить. Вот он – ценный плод с древа Познания. Мы изгнаны из рая за то, что осмелились взирать на свет сквозь алгебраическое уравнение, то есть примерно так, как если бы мы воспользовались моноклем из эбенового дерева, а другой глаз зажмурили, как это случается со всяким, кому недостало монокля: это только вопрос экипировки. Мы изгнаны из рая потому, что разделили «что на ум пошло» на «что на ум не пошло», а потому якобы вовсе не существует.
Попробуйте только разъединить зубчатые колеса возможного и невозможного, попробуйте, если, конечно, не лишитесь при этом руки! Так чем же был рай, откуда нас изгнали за то, что мы съели плод с древа Познания (qu’il dit[18]18
Что он говорит (фр.).
[Закрыть]!)? Чем иным, если не краем, где суждение бесполезно? Где бесполезны суждения? Где все за пределами суждения, то есть подлинно и фатально возможно. Изгнаны из рая. То есть изгнаны оттуда, где лишь одно бы изумляло, если бы этому можно было изумляться: само изумление.
Мой Боже! – опять это слово! – так кто же и когда тебя выслушает? Еще мгновение назад мне казалось, что я готов приютить тебя. Я считал, что мне хватит сил утешить тебя в твоем горе отверженности. Но есть некто, кто сильнее нас обоих. Кто это? Как его отыскать? Было столько места, столько места, Боже мой! Кто, кто перегородил его словами и вопросами, причем именно тогда, когда ты уже готовился войти? Словами и вопросами, как стеной. Вот так-то. А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? И знаешь ли, точно ли знаешь, что он не окажется внутри тебя кукушкой в чужом гнезде?
Раньше было столько места! Между безмолвием, простирающимся от начала к концу (это просто выражение такое, потому что никакого конца не существовало), и моим однообразным всеведением, пренебрегающим красками и формами, мыслями и пустотой после них, согласием и отрицанием, вопросу негде было укрыться. Разве что иногда время сгущалось в пространство, подозрение, что я есть, уверенность, что я меньше того, чем буду, когда исчезну, непознаваемая моя скорбь – в некое обещание веселья еще более мрачного, и это было все, и этого хватало. Не ты был причиной этого, Боже мой, ибо ты разорен и ждешь, что я вступлюсь за тебя. Кто же из твоих союзников сделал так, что часы казались мне короче секунд, что я стремился к горечи так же жадно, как пчелы к сладкой пыльце, что большие, огромные звезды слетались в мои ладони – такие маленькие и такие умоляющие, – и места для них там было предостаточно, что мне не хотелось освобождаться от моих вялых и сковывающих чар, в которых, однако, твои пустые и бесцельные мысли занимали места не больше, чем ничтожная пылинка. Кто сделал это? Не ты, ибо ты просишь о милости, – но точно ли это был тот, кто внезапно перевернул все во мне, не оставив для тебя даже крохотного местечка? Мой Боже, кто и когда выслушает тебя? Еще минуту назад мне казалось, что я буду надежным приютом для тебя, а теперь, теперь, из-за того, что кто-то во мне спросил: А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? – из меня был изгнан я сам, и я не знаю, где преклонить голову. Кто это был? Я же не сделал ничего плохого.
Не знаю, зачтется ли мне это, но я все же подчеркну здесь особо, что для того или иного события совершенно безразлично, ведает ли наш разум, как с ним быть; или, как сейчас принято выражаться (не можем мы без того, чтобы не произнести последнее слово, и нас не волнует, что это последнее слово наверняка уйдет в никуда), согласится или нет наш интеллект вобрать его. Инстинкт «познания» – один из атрибутов человеческого несовершенства. Дар непосредственного отождествления себя со всем «что существует и происходит», привилегия бесконечного слияния не только лишь субъекта с объектом, но также и взаимного слияния объектов (я осознаю, насколько грубыми инструментами для выражения этих отношений являются слова «объект» и «субъект» и вообще все слова; они – мародеры мысли; а само слово «мысль» есть самое грубое из всех) предоставлена не согрешившим, определение которых непосредственно следует из определения согрешивших, – смотри выше. Вероятно, число категорий этих не согрешивших безгранично. Кто виноват, что нам было позволено распознать лишь три из них: царство минералов, растений и так называемых бессловесных тварей? Границы между данными категориями проложены так, что ничего глупее не придумаешь; но я уже говорил: мы – пленники словаря; словаря общепринятых концепций, мы осознаем его невероятную отрывочность и приблизительность, но в нищете своей солидарны, в нищете своей равны: не имея иного средства, чтобы договориться, мы договариваемся, пользуясь им… и расходимся все дальше и дальше. Трагедия человеческая в том и состоит, что эта чудовищно возрастающая отчужденность является единственной мерой, которой мы можем измерить стремление друг к другу. Есть много категорий не согрешивших, не имеющих даже представления о существовании непроницаемой стены между я и не я, – и взгляните, сколь извращен человек, который полагает эту стену чем-то естественным; ибо лишь в этом случае было бы Познание, то есть слом этой стены, благом, человек же выдает мнимое свое Познание за действительное благо, – но мы из безграничного числа этих категорий знаем лишь три. Если же нужно дать определение peche mignon[19]19
Излюбленный грех (фр.).
[Закрыть] человека, то из всего до сих пор написанного следует, что в иерархии с учетом Познания человек стоит ниже всех: именно потому, что он судит, или, вернее, потому что не может не судить. Взглянув на суть дела под таким углом, мы поймем, что высказывания вроде: теория верна, ложна, гипотеза правдоподобна, менее правдоподобна или неправдоподобна, совершенно бессмысленны. Среди внушающих доверие лжепознаний (вербальное умение внушать доверие вообще характерно для лжепознания; и нет сомнения, что древо, плод которого съел Адам, было древом лжепознания, ибо кто и как смог бы изгнать его из рая, съешь он плод с истинного древа Познания?) нет ни одного, которое хотя бы приподняло железный занавес. Так имеет ли значение их относительная правдоподобность – на каждом шагу спотыкаешься о громоздкие валуны языка! – я о том, что их готовы воспринять умы, конформистские настолько, что они спасут тонущего в беспредельном ничуть не успешнее, чем нижняя волна помогла бы тонущему в море.
Остается лишь одна мера для оценки успехов того, кому удается уловить, конечно, не реальность вещей (ибо, постигнув реальность явлений, мы бы их уже воспринимали не как явления, то есть как нечто вне себя, но как себя самих), но простую проекцию их значения, и мера эта – удобство: наиболее адекватное «познание» то, что меня больше устраивает; иначе говоря, чья амплитуда ближе всего к амплитуде моего духовного голода. Я не говорю, что оно дает наибольшую уверенность и удовольствие, ибо ощущения «уверенности» и «удовольствия» никак не сочетаются с «познанием». Познание может быть самоубийственным, то есть сопряженным с глубокой неуверенностью и совершенным отчаянием. И если я пишу, что изгнание из рая означало, что край, где все не только возможно, но и не изумляет, оказался запертым на замок; если говорю, что мы вкусили с древа Познания… вернее сказать, лжепознания… а следовательно, были прокляты и обречены на неотвратимый суд, на различение тех вещей, которые на ум пошли, и тех, которые на ум не пошли; если добавляю, что рай был и первородный грех тоже был, то у меня нет ни малейшего желания строить из себя прозелита. Я придерживаюсь мнения, что лучший способ опустошить себя – это поддаться желанию убеждать. Пишу я это потому, что такое объяснение человеческой несвободы (не социальной, конечно, не в ней дело, но метафизической, которая в конечном счете все и определяет) меня больше устраивает.
Вы думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые скажут: рай был не состоянием тотального познания или, как вы неуклюже выразились, краем всего возможного и ничего изумляющего, но состоянием невинности?! Думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые обрушатся на меня: «Разве можно толковать Древо познания как древо познания рационалистического?!» Что я позабыл о тех, кто осмеет меня: «Как это, суд – алгебраическое уравнение?!» Кто набросится: «Инстинкт познания – это инстинкт принадлежности Богу, то есть абсолютная уверенность в том, что мы ближе к Нему, чем те, у кого такого инстинкта нет?!» Кто прогремит (прогремит!): «Что это за растерянность Иуды, с какой вы отождествляете операции, соответствующие логическому канону, а именно дедукцию и индукцию, с познанием, то есть овладением как таковым?!»
Я уже сказал, а если не сказал прежде, то говорю теперь, что (и по какой причине) ответить им значило бы проявить ненужное великодушие. (Там сзади кто-то поднимает руку – я, мол, якобы не объяснил причину. Но разве я не говорил о тщетности слов?! Не говорил о невозможности взаимопонимания?! О том, что слова не важны, что дело вовсе не в них, а в тех людях, кто ими пользуется; так же все обстоит и с психологией [смотри «Братьев Карамазовых»], с помощью которой можно доказать что угодно, ибо там тоже важно лишь то, кто к ней прибегает?!) Тем не менее: лишь из злого упрямства – если не из-за ограниченности – можно отказаться признать, что и мой рай, и даже прежде всего мой рай, тоже являет собой состояние невинности, хотя это и не было высказано напрямую! Как я, впрочем, уже показал, райское древо Познания наверняка было древом лжепознания, но если бы кто-нибудь сказал, что это противоречие – говорить о рае и одновременно позволять расти там древу лжепознания, то я бы ответил, что такое же противоречие – описывать первого человека как человека, рая достойного, и этого же человека изгонять оттуда, но оба противоречия лишь кажущиеся, поскольку человек в раю является человеком совершенно свободным; если же он лишился рая, то это означает попросту, что он его никогда не имел; следовательно, он проклят с самого своего начала; то есть он сам есть проклятие.
Я отворачиваюсь от тех, кто, подобно хитрым и злорадным школьникам, подлавливает меня на растерянности, на алогизмах, на пробелах. (Я тоже раб цепного, то есть последовательного, мудрствования и его побочного отпрыска, речи. Пусть себе собирают потерянные звенья мыслей, мне нет дела до гуронских воплей, с какими кидаются они на неточность моего словаря! Бог с ними, говорю я, зная, что Его с ними не будет.)
Я поворачиваюсь лицом к тем, кто, как и я, тысячу раз за день протягивает руку в уверенности, что поймал рыбку-тень, а разглядев ее, осознает вновь и вновь, что это был всего лишь мерзкий головастик, и свет проходит сквозь него, не давая тени. Лицом к тем, кто, будучи таким же нищим, как все остальные, кажется оборваннее других из-за поразительного контраста: в его нищенском одеянии застрял осколок бриллианта былого величия. Они поймут, что самое адекватное познание то, что больше всего нам подходит.
(Прочтите выше, что именно я здесь имею в виду. Я же только добавлю, что пишу все это с дальним умыслом обогатить свою поэтику, а также с целью гораздо более близкой, заключающейся в том, чтобы облагородить глагол «нравиться», с которым до сих пор так плохо обращались, что он предпочел отказаться от приличествующих ему прерогатив и выпросил себе место поваренка. Я намеренно использую этот глагол повсюду, где только можно ожидать, что швейцары, то есть стражи чешского языка, захлопнут перед его носом ворота. Я был бы счастлив и вознагражден сполна, если бы мне удалось устроить для этих убийц-рутинеров подобное представление и со множеством других слов. Ведь на страже языка стоят или толстокожие ретрограды, торгующие ископаемой (то есть традиционной) речью, или маляры, обходящие со своими трафаретами дом за домом. Между Сциллой традиции и Харибдой просторечия свободным людям, не желающим погрязнуть в стилистическом хамстве, остается лишь намеренно прибегать к солецизмам.)
Поскольку наиболее адекватным является познание, чья амплитуда более всего устраивает амплитуду моего духовного голода, нет необходимости долго обосновывать, почему познание не тождественно уверенности. Есть такие, кому нужна опора столь же прочная, как ствол старого хлебного дерева; а есть иные, те, кто решается ступить на мост, сплетенный из паутины. Один не отважится преодолеть стену до тех пор, пока на ней не нарисуют фальшивые ворота; а другой прыгнет через нее лишь после того, как она ощетинится калеными мечами. Твоя ностальгия по Богу удовлетворяется тиканьем часов, а я почувствую себя приближенным к Нему лишь когда распластаюсь под рухнувшей на меня скалой. Так разве можно сомневаться в нашей слепоте, если даже двое из нас видят по-разному?!
Отношения писателя и читателя основаны, как правило, на том, что второй считает первого лицемером, если не лжецом, а первый, в свою очередь, держит второго за Фому неверующего. Отсюда их взаимное фатальное непонимание. Отсюда и нечто худшее: читатель, стремясь обмануть свое неверие, становится тугоухим; и тогда уж писатель может врать вовсю, ибо знает, что бесстыднейшую ложь легче всего подсунуть под видом правды. Я не поддаюсь иллюзиям; не внушаю себе, что читатель отнесется ко мне иначе, чем к другим. Я лгу и кривляюсь не меньше прочих… вот что думает он обо мне. Но читатель не должен забывать, что мне нет дела до его мыслей. И не потому, что я как-то особенно пренебрегаю читателем, но потому, что самое важное – это нагота вещей, а мысль (то есть суждение, то есть то, что кто-то о чем-то думает) – это есть само равнодушие. И если я говорю, что в этих абзацах каждое слово искренне, то не для того, чтобы добиться расположения, и не потому, что это правда. Говорю я это искренне, хотя меня самого подобная искренность раздражает и смешит. Но чего стоят эти лучшие устремления, направленные на собственную дискредитацию, в сравнении с весом осязаемых доказательств (могу я так выразиться?). Если я кое-что и отретушировал, то лишь затем, чтобы причесать фразы. Ни для чего другого. И лучшее тому доказательство – легкость, с какой читатель сможет вцепиться мне в волосы, если захочет потратить хоть немного сил на противоборство – страшно сказать! – мыслей… но все же я непринужденно произношу это слово, хотя оно тоже употребляется людьми и, следовательно, от него ничего не зависит. Спешу добавить, что эта абсолютная искренность вовсе не связана с избытком добродетели. (Впрочем, это я уже отмечал.) Просто я стремлюсь к тому, чтобы толкование моей поэтики было этой самой поэтике пропорционально. Вот только я сомневаюсь – а успел ли мой читатель догадаться, что все вышеизложенное представляет собой лишь постепенное сосредоточение войск перед штурмом ключевой крепости, того единственно верного ключа к жизни, каковым является поэтика? Если до сих пор не успел, то я ему это сообщаю. Однако что рассказать читателю о крепости, которую я завоевываю для него, а вовсе не для себя, ибо я являюсь ею, но не нахожусь в ней? Лишь то, что основа этой поэтики, да собственно и она сама, – это «согласие и отрицание» (смотри выше), а потому и я стремлюсь соглашаться или отрицать, то есть полагаться только на те знания, которые меня больше устраивают, или же быть болезненно искренним. Вот одна причина моей абсолютной искренности; другая же – это мысль о том, как я повеселюсь, если у решивших, что ухватили меня за волосы, в руках останется лишь парик.
Вооружившись подобным образом, я с легкостью пишу следующее: если человек лишился рая, то он в нем никогда не был. Если он в нем никогда не был, то изначально проклят. Если он изначально проклят, то сам он и есть проклятие. Все это истинно, пока я нахожусь на четных ступенях; если же я перейду или переползу на нечетные, то оно станет гораздо менее истинным. Предупреждаю: я осознаю, какая это философская и даже метафизическая ересь – написать, будто это истинно, а то истинно гораздо менее.
Общество на такие взгляды (да-да, вопреки всему: взгляды!) обижается. Пламенно защищает истину и – сгорает дотла. Какой там скептицизм, какой релятивизм! Общество зубами держится за абсолютную истину. Оно уже со школы знает, что «два и два – четыре» и что «два и два – четыре» – это истина. (Если бы я вздумал поучить его уму-разуму, то сказал бы, что речь здесь идет вовсе не об истине, но лишь об истинной мысли, однако мои розги куда-то запропастились.) Еще общество уверено, что «два и два – пять» – это не чуть меньшая истина, а просто вообще не истина. Что ж, ладно! А я ему отвечу, что вот уже тридцать две страницы кряду стою на одной ноге на катящемся шаре и пытаюсь сохранить равновесие; шар же этот вдобавок парит в безвоздушном пространстве (с таким же успехом я мог бы сказать – в сверхчеловеческих сферах, но, пожалуй, не буду, ведь всем нам доводилось сталкиваться с людьми, которые, едва услышав слово сверхчеловеческий, сразу принимаются упрекать нас в самонадеянности, словно не догадываясь, что, во-первых, сверхчеловеческий – это синоним внечеловеческого, то есть нечеловеческого, а во-вторых, что человеческое честолюбие просто физически не может тешить себя вне человеческого), так вот, этот шар парит в безвоздушном пространстве, то есть в сверхчеловеческом, что у меня уже болят ноги и что я мечтаю ступить на твердую почву и отдохнуть. Впрочем, я пишу всего лишь поэтику. Если я говорю, что на четных ступеньках абсолютное проклятие человека – это истина, а на нечетных – истина чуть меньшая, то в первом случае я совершенно определенно имею в виду весь человеческий род, а во втором – его разновидности.
Род – это проклятие, спросите у сыча или ласточки, актинии или примулы, кремния или гранита… но вот с разновидностями дело обстоит иначе! Точно ли произвол с моей стороны полагать, будто среди человеческих разновидностей есть более и есть менее проклятые? Я позволяю себе, и позволяю очень вежливо, указать на то, что уже выше, не предполагая, в какое узкое место я попаду, – то есть вовсе не pour le besoin de la cause[20]20
Ради случая (фр.).
[Закрыть] – я, говоря о несогрешивших, разделил их на три видимые категории (без учета невидимых), а именно: минералы, растения и так называемые бессловесные твари. Несогрешившие, утверждал я, это те, на кого снизошла Милость. Возьмитесь-ка покрепче за последнее слово, ибо это качели, на которых, если Бог даст, мы поднимемся высоко-высоко. Милость! Каждый знает, что она не пропорциональна добродетели; каждый знает, что хоть в ней и отказано тем, кто к добродетели не стремится, это совсем не удел всех, кто к добродетели стремится, пускай даже они и упорны в своем стремлении. Мы не знаем, чем руководствуется Милость, делая выбор. Склоните голову, вы, и ты, и ты – вы все, живущие! Вот ты, бледный, в лохмотьях, с глазами эпилептика, ты, пепельно-серый, чьи пальцы впились в грудь, где бьется сердце, ты, ползущий к своему последнему приюту, вечному приюту, ползущий отвратительно, как пяденица: ты кровоточил сотней ран, бредил о слепящем свете, исходящем от Бога, вглядывался в Него с тех самых пор, как в тебе проснулся разум, не зная иного наслаждения и иных радостей – о! – смотри же! А ты, пригожий, что не чуждался чувств, красок, запахов, ласк, ты, который, даже думая о Нем, не стыдился наряжать и украшать себя, – ты, краса земли, в ожидании истины открытая радостям и радостному, ты, пригожий, чей взгляд сияет, словно созвездие бойких огоньков, ты, верный, но не забывающий и себя, вступаешь на небеса прямой, как свеча, с запрокинутой в восхищении головой, с развевающимися волосами, и, хотя ты уже ослеплен тьмой, ты все еще улыбаешься встречным влюбленным птицам, и с твоих полуоткрытых губ слетают слова то ли гимна, то ли псалма! Милость на бессловесных тварях, милость на растениях, милость на минералах, милость на несогрешивших.
Но кто же не знает – благодаря яркому молниеносному озарению, иногда посещающему нас, причем не в виде воспоминания о потерянном рае, отнюдь нет… это озарение скорее сравнимо с удочкой, которую в тщетной надежде закидывает наше отчаяние, – так кто не знает, что сон-жизнь собаки, несмотря ни на что, не является столь же блестяще-безоговорочной капитуляцией, как сон-жизнь скалы?! Милость распределена по степеням, да. В космическом параллелизме распределено по степеням и Проклятие. – Вы ухватили меня за волосы? Парик! Если я пишу: род человека – проклятие, но есть менее и более проклятые разновидности, то это значит, что я решился спуститься на землю, к вам, обезьяны, братья мои; но коли вы думаете, что я готов присоединиться к вашей верноподданнической пляске святого Витта, то заблуждаетесь, заблуждаетесь! Я падаю, потому что изнемог. Но падаю прямо, как дерево, и раскалываюсь на две отчаявшиеся половины. Которые отыщут друг друга. Ибо если Милость – вне шкалы добродетели, то Проклятие (согласно законам космического параллелизма) – вне шкалы грехов. Я проклят не потому, что согрешил без меры, но проклят просто потому, что проклят. Я пал, и меня переехала колесница смерти.
А не предоставите ли вы мне минуту передышки? Совсем коротенькую! Трехмерное мышление утомляет меня. Я не пытаюсь казаться лучше, чем я есть; и если я говорю, что влеку свою относительную вечность в краю, где даже для самого медленного средства передвижения 120 км в час – это мало (а еще, точности ради, замечу, что ездят они по направлениям, которых в кубе нет), то не думайте, пожалуйста, что я вознесся выше других. Нет для меня мысли более недоступной, чем научиться летать и уж тем более возноситься. Обезьяны, братья мои, какими бы ни были средства передвижения, скорость или направление, вы, согрешившие, вы, проклятые, я – один из вас, я ползаю, ползаю отвратительно, как пяденица.
Так не предоставите ли вы мне минуту передышки? Ведь я заметил нечто, чего, возможно, вы – совершенно случайно – не заметили! Это был ангел. Ангел! Тем не менее элементарная честность вынуждает меня признаться, что я в этом не уверен. Возможно, данное создание с плоским лицом и обвислыми, как у суслика, щеками только выдавало себя за ангела. Подумать только! Это плоское лицо, эти слезящиеся глаза, этот его горб – такой жирный, такой заметный, – он говорил, что внутри горба скрываются его крылья. Его якобы радужные крылья, расправив которые, он взлетает. Ангел с плоским лицом, сусличьими щеками и вдобавок горбатый. Да возможно ли такое? Или это всего лишь подобие правды? Услышь меня, Иисус Христос, услышь меня, прежде чем умереть! Я шепчу тебе на ухо – я откровенен с тобой, – и чтобы никто другой не подслушал меня. Ты и я – нет! нет! мы с тобой не ровня и настолько далеки друг от друга, что не можем взаимно не притягиваться… так вот, этот уродливый калека, выдававший себя за ангела, этот лицемер, этот обманщик; послушай же, шепчу я тебе на ухо, тебе единственному: я увидел его ночью, когда все уже спали. Звезды слетались к нему на ладони, хоть он и не призывал их, и он забавлялся, играя ими, как камешками.
Нездешняя краса безобразного урода сотрясала Геркулесовы столбы так, что ты вынужден был сказать: «Он взял на себя все, и, хотя он до смерти опечален, ему легко». Ты вынужден был сказать: «Ангел!»
Шоссе. Оно, конечно, ведет откуда-то куда-то. Но мы на чужбине, может, на Луне, может, в Латвии, может, в родном краю, но все равно на чужбине, куда перенесла нас черная-пречерная ночь, которая ныне, на рассвете, скорее вспоминается, чем существует на самом деле. Мне кажется, что всякий человек достоин спасения, а потому не способен перекрыть дорогу к нему собственным телом, не способен распродать за бесценок оставшиеся у него капли чуда, не способен – и это поймет каждый, ибо демократический жаргон является единственно подходящим для нас способом изъясняться, – не способен поступиться своей свободой. (Понятно, что речь идет не о свободе печати или свободе собраний, но слово «свобода» мы употребляем здесь для простоты, невзирая на то, что в обыденной жизни это всего лишь грубая сума для сбора всеобщей подлости и трусости.) Я уверен, что каждый из вас настолько достоин спасения, что не способен считать страну, в которую он попал таким образом, которая была ему явлена таким образом и таким образом вспоминается, чем-то иным, кроме как страной совершенно чужой и совершенно чудесной, и потому, если он увидит в ней шоссе, ему не захочется спрашивать, откуда оно ведет и куда.








