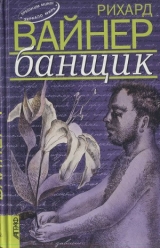
Текст книги "Банщик"
Автор книги: Рихард Вайнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Однако вот как развивались события в последовательности, доступной обычному наблюдению: посреди поросшей травой равнины, заставленной жилищами троглодитов, привезенными сюда с дороги Вьерзон – Тур (река Шер течет там лениво), возникла девушка в белом газовом платьице, точь-в-точь подружка невесты. Или это зажегся маленький конус воздушного взвихрения, который вертелся на своем острие, словно до головокружения подхлестываемый волчок, растаявший в собственной, поглотившей его скорости? (Как тут не быть очарованным столь редким явлением, когда возвышенная материя растворяется в своем благородстве, которое заменяет и ее саму и ее форму!) Едва та подружка невесты зажглась, головокружительное взвихрение перетекло в неподвижность. Не осмелюсь сказать, что оно замерло; в самом деле, оно вдвинулось в неподвижность столь же легко и несомненно, как вещь в свою форму. Это не подружка невесты, это прима-балерина: обратите внимание на ее двойной подскок и двойное приземление, причем ее напрягшиеся ножки почти не сгибаются; в них связующее звено между движением и неподвижностью: даже во сне природа не любит прыжков. В этом столько же грации, как в заключительных диминуэндо низвержения дьявола с небес на натянутую внизу ткань, куда ему следует упасть. А театральные поцелуи прима-балерины, которые она посылает направо и налево, – это только иначе переписанная мелодия, с помощью коей таинственные метаморфозы входят в круг, для них определенный.
Двойной этот подскок и поцелуй подают сигнал к удивительным переменам. Все скрывается занавесом, и занавес этот недвижен. Он невидим, но сомневаться в его существовании не приходится. Его присутствие неотъемлемо от чего-то, и точно так же от этого «чего-то» неотъемлемы цвет, запах, вкус. Это «что-то» – замедление. Растянулся ритм вещей движущихся, но также и неподвижных. Это было замедление, воспринимаемое не зрением, не слухом, но неким новым органом чувств, которое было тем и другим, но одновременно чем-то большим. При помощи этого органа чувств я узнал, что обворожительная улыбка подружки невесты – это, собственно, напор того сока, что заставляет яблони расцветать, и точно таким же образом мне стало известно, что жилища троглодитов никогда не появились бы здесь, если бы не мой разговор с человеком у турникета. Возникло тяжелое, материальное ощущение, что взаимоотношения между помыслами и миром, который может быть постигнут чувствами, намного теснее, чем мы думаем, и что многое из этих взаимоотношений ускользает от нас потому, что мы не успеваем уследить за стадиями, через которые они проходят – от общей вершины туда, где начинают казаться независимыми друг от друга. Так, например, я еще и сегодня не мог избавиться от удивления по поводу того, как это я уже вчера в состоянии полного бодрствования не предчувствовал, что всплывшее вдруг доказательство теоремы Пифагора (в два часа пополудни) неотвратимо ведет в сон о путешествии в Швецию.
Слова «в состоянии полного бодрствования» и «неотвратимо ведет в сон» – это были больше, чем слова, это были слова видимые – они вздыбились, как два плотницких ватерпаса, которые, слишком резко сблизившись, зацепились друг за друга и теперь тщетно пытаются разъединиться, борясь, точно огонь с водой, – причем неизвестно, кто из них гасит, а кто поджигает.
Улыбка девушки угасала. Да, буквально угасала, словно свет, приглушенный густыми облаками пара, за которыми все исчезало. Но из виду ничего не пропадало; было хорошо известно, что оно проваливается в невозвратность хотя бы не навсегда. (Это «в невозвратность хотя бы не навсегда» меня глубоко тронуло.) И тотчас же появилось нечто, постепенно и спокойно ужасающее. Я правильно выразился – именно «постепенно и спокойно», ибо ужас этот наползал медленно, частичка за частичкой, как будто щадя меня; и спокойно, ибо ему чего-то недоставало: он не удивлял. Это был аккуратный, это был вежливый ужас: я понял, что сплю. Я понял, что сплю, то есть я осознал это во сне. Сегодня, когда я пишу эти строки в состоянии полного бодрствования, я понимаю, конечно, что само осознание того, что я сплю, меня не ужаснуло. Нам часто снится, что мы спим. Тут было совсем иное. Я понял, что в мой сон пробирается нечто. Я не знал точно, откуда оно, но у меня было такое чувство, что можно обойтись следующими словами: «Откуда-то с враждебной чужбины». И довольно скоро – впрочем, это всего лишь поэтическая вольность; когда речь идет о сне, «довольно скоро» звучит как ересь, – так вот, довольно скоро я осознал, что это я сам. Именно я: и «нечто» это я, и «откуда-то с враждебной чужбины» – тоже я. Мне виделись будто бы три разноцветных слоя; слово «коктейль» в тот момент не пришло мне в голову; как странно: теперь-то я вижу, что это был именно многослойный коктейль; три слоя, соприкасающиеся между собой двумя пока еще резко отграниченными поверхностями, но в жидкостях уже понемногу подготавливается диффузия; это коктейль из трех эссенций с общей вершиной, однако отстоящих друг от друга настолько, что они кажутся себе различными, как масло, вода и ртуть. Я, который просто спит, я, который сознает, что спит, я, обожествленный и всемогущий, который смиренно взирает на все вокруг, понимая, что достало бы неизмеримо малого движения воли, как для чувствительных весов – небольшой гирьки, чтобы произошло великое колебание: я в глубоком сне либо вновь бы ожил, либо бы рабски покорился бдению, но тем не менее я не делаю ровным счетом ничего, предпочитая созерцать троякое отражение собственного обличия. Я как будто некто, находящийся между параллельными зеркалами, который знает, кто он, но в то же время знает, что точно так же мог бы быть одним из бесконечной цепи образов, из которых он не то чтобы не мог выбрать – нет, он вовсе не хочет что-либо выбирать. Я одновременно и един в трех лицах, и являюсь каждым из них, и я же – то верховное существо, которое создало эту сложность и эту непостижимую простоту.
А теперь – гляньте-ка! – на голубых крыльях сюда устремляется огромная стрекоза; она атакует сумятицу – ибо я ощущаю, что нахожусь посреди сумятицы, и абстракция «сумятица» столь же убедительно и отчетливо конкретна, как все предыдущее, – она атакует сумятицу с такой силой, какой я и не предполагал в ее голубых крыльях, и сумятицу рассекает глубокая гладкая трещина (айсберг, разбитый ломом, который застрял в бесконечности и который вытягивают из противоположной бесконечности). В этой трещине я узнаю… Нет, не узнаю! То, что эта трещина столь непреодолимо внушает, есть призрак уверенности, что еще шажок, еще один неизмеримо малый шажок – и я доверился бы Вечности столь же, сколь я доверяюсь своему умилению при чтении эклог у камина. Если бы я знал – не существовал бы. Мною овладевает отчаяние; нет, я жадно заглатываю его, подобно тому, как распахнутые настежь створки плотины где-то на реке Меконг заглатывают быструю, легкую, беспомощную и не сопротивляющуюся малайскую пирогу. И хотя я знал, что это утроение меня самого, этот неравный поединок сна с его отраженной сублимацией и его материальным осадком, эта смелая попытка конечного объять бесконечное – вещи реальные, однако слишком холодные, чтобы не раствориться в безмерной влаге бытия, куда я вот-вот буду ввергнут; хотя я знал, что от них не останется и следа, что они не помогут ни человечеству в его страданиях, ни моим собственным страхам, что это – всего лишь суета, тем не менее я не сомневаюсь, что я – участник великих событий, и я ликую.
Они записаны, эти события, события ни с чем не сравнимые, записаны неуклюжим школярским почерком. Почерком безыскусным и веселым, точно щебетание детей перед школой, незадолго до начала каникул, когда обсуждаются летние поездки. Почерком несмелым и боязливым, который начинает хромать, когда замечает, что пишущий разгадал тайну его хитросплетений. Почерком, который не выдержал бы ноши своей тайны, не приди ему на помощь его невинность.
Квайде и Бельтрам! Они и впрямь таковы, каковыми провозвещало их смутное трепещущее блистание в гаснущем ореоле над П.С. Квайде – шут: короткие штанишки с зубчатыми краями, белые чулочки, костюмчик Арлекина – и облачко муки, которое поднимается над ним при малейшем движении. Бельтрам, на две головы его выше, – юный чернокнижник или скорее та соединенная из разных частей человеческого тела модель для рисовальщиков, которая так привлекала мое внимание в витрине магазина «Бельский & Ешек». Кто знает и кто когда узнает, как они выбрались из газового платьица белоснежной балерины? И вот вдруг они стоят тут посреди поросшей травой равнины; на горизонте дорога Вьерзон – Тур, окаймленная непрерывной чередой небоскребов (où sont les neiges d’antan?[45]45
Но где снега минувших лет? (фр., цитата из стихотворения Ф. Вийона, пер. И. Эренбурга).
[Закрыть]); вдали гудит поезд. Да, это тот самый! Он вез меня в день, когда нельзя было усомниться, хотя и трепещущая крыльями уверенность тоже отсутствовала. Это было в том самом купе второго класса, где я, сорокалетний, бодрствовал над коробом, в котором отдыхали двадцать лет, что никогда уже не истлеют. Квайде и Бельтрам – кондукторы. На полном ходу они проверяют билеты, снуя по ступенькам снаружи вагонов. Год сейчас 1891. Станция – это восьмистенный дом. В плане он прост настолько, насколько может быть прост дом о восьми стенах, но внутренность его не менее сложна, чем закулисье любительских театров, закулисье, в котором актеры, уйдя со сцены, терялись, точно в лабиринте.
Квайде, шут! Бельтрам, примерный ученик! Это ваш родной дом. Ваша мать, вдова, продает билеты и владеет магазином со всякой всячиной. Дом полон братишек и сестренок. Куда ни глянешь, повсюду мелькают косички или рубашонки. И опять они пропали. Я ищу, ищу их: о, таинственное закулисье провинциального любительского театра.
Однако пора ехать. Я покупаю билет до Исландии. Кто-то тянет меня за полу. Наконец-то попался! Я знаю, что это значит.
Это значит – отправиться с тобой в лавочку и опоздать на поезд. Следующий будет еще не скоро. И вот мы идем; я знаю, что до места недалеко, но мы как будто никогда туда не доберемся. Мы идем как бы сквозь шпалеры человеческой сущности; они подвижные и колышущиеся, но нигде ни души. Тишина! А лавочка – точь-в-точь как все лавочки в обеденный перерыв; дверную ручку сняли. Я никогда бы не поверил, что отсутствие дверной ручки может так на меня подействовать. Нас ожидает склад стеклянных пожарных касок с бронзовой патиной. Какое это трудное и светлое слово – «ожидает»! Квайде – ибо со мною Квайде – захотел одну из них.
«Есть здесь кто-нибудь?» – Ни звука. Каска, что лежала на самом верху, упала. Она сама наделась Квайде на голову. Она его не поранила. Но где же Квайде?
Восьмистенный дом со скрипом закрылся. Теперь я знаю, что это было: этакий роскошный ящичек для сигар, в виде садовой беседки, подобные ящички запираются на какой-то тайный замочек, в то время как скрытый механизм играет нежную песенку. И впрямь: послушай-ка!
Закулисье провинциального любительского театра… «Квайде! Где ты, Квайде?» – Ничего. – «Бельтрам? Бельтрам!» – Только музыка. Феи, убегающие по клавишам крохотного металлического пианино.
«Мама, мама! Мамочка моя золотая, где ты? Это же ты продала мне билет до Исландии. Это была ты! Ты!»
И в окне, большом-большом окне, я вижу: Мальме! Университетский город, который уступил всю славу Упсале, так к этому стремившейся. Я сижу на краю зубчатой башни упсальского замка, я прекрасен, я вечно юный бог. Вдали сияют огнями окна кафе «У двух обезьян». За столиком в окружении маленьких елочек – я, безобразный и дряхлеющий. Я узнал его. Кто кого одолеет? Я в Упсале ликую, я «У двух обезьян» – старею. Кто кого одолеет? Сияние. Оно повсюду. Сияют следы Квайде, Бельтрама, сияет лицо, которое склонится надо мной, когда морщинистое любопытство погонит меня прочь из замка сновидений, кожица которого уже покрылась белым налетом, точно сентябрьская слива.
Глаза открылись. Но не я их открыл. Надо мной – сияющее лицо: вещи, люди, которым я отдал частицы своей души, словно по описи. (Прошу не усматривать в этом игру слов с названием города Упсала…) Что их нелюбовь в сравнении с моей самоотверженной верностью? Кто кого одолеет? Сдавайтесь, сдавайтесь! Долог путь до Типперери, я на полпути, и ноги у меня не болят.
ЭЛЯ
© Перевод И. Безрукова
Я в точности не знаю, спал я тогда или бодрствовал. Иногда это бывает трудно определить, хотя бы даже мы давно встали, писали что-то, разговаривали, прогуливались: все то, что мы проделываем сами, – это точно цепочка из прочно соединенных логических звеньев, однако же то, что вне нас, подобно одиноким бесплодным зернышкам, которые закатились неведомо куда, туда, где мы и не чаяли их отыскать и где, как ни странно, им самое место.
Ты, к примеру, совершенно уверен, что вон там, в газовой печке, горит газ; но как же так вышло, что ты внезапно замечаешь, что она говорит, говорит на языке неслыханном, который, впрочем, ты, едва услышав, прекрасно понимаешь? Она говорит тебе, к примеру, что твое предположение правильно; что зеркальце, перед которым ты нынче в полдевятого утра брился, совершенно верно вписало тебе в глубокую морщину под левым глазом: в тот момент Эля и впрямь о тебе думала, думала о тебе в Праге как раз тогда, когда ты в Париже о ней даже не вспоминал. Если бы сейчас ты написал Эле: «Слушай, Эля, в такой-то день в полдевятого утра ты обо мне думала?», и если бы Эля ответила тебе: «Понятия не имею, вообще-то, положа руку на сердце, не припоминаю, чтобы за последние два года я подумала о тебе хотя бы однажды, сам понимаешь, расстояние, годы, собственные заботы – не сердись, но я и вправду о тебе не думала…»; если бы Эля так ответила, не верь ей, а верь газовой печке, которая знает больше, чем она и чем ты… Даже если будет доказано – документально доказано! – что Эля в такой-то день в полдевятого утра думала только о том, что ей надо доделать коронку для госпожи Икс – Эля работает зубным техником, – что с того? Что это доказывает? Ни она, ни ты не можете знать, не присутствовал ли в этой мысли о коронке также и ты, газовая-то печка умнее и проницательнее вас. Подтверждением этому…
Подтверждением этому было – я говорю о дне, когда звонок у дверей укрепил меня в мысли, что совершенно неясно, бодрствую я или сплю, – подтверждением этому было, что хотя звонок зазвенел точно так же, как это он имеет в обыкновении, однако же громкость его несомненно показывала, что, прежде чем прозвучать, звук решал, быть ему или не быть, невзирая на то, что он не только обращал внимание на присутствие за дверями чужого, но и возвещал о нем. Скорее даже возвещал, чем обращал внимание. Я бы сказал, что звук был пророческим, если бы так можно было сказать о звуке, который предназначен только для одного – возвещать о том, что уже случилось, о том, что человек нажал кнопку. Однако бояться слова «пророческий» – трусость. Ибо в конце концов я твердо знаю, что это стрекотание имело таки пророческий оттенок, пускай даже ни я, ни, думаю, Эля до сегодняшнего дня не знали, к чему именно относилось это пророчество. Возможно, к тому, что вот-вот наступит…
Я говорю «ни я, ни Эля», ибо это была Эля. Вряд ли я прямо вот так вот сразу смог бы воскликнуть: «Надо же, Эля!», но вместе с тем я не решаюсь утверждать, что не узнал ее немедленно. Бессовестные писатели, которые и не предполагают, насколько сложным, насколько таинственным, насколько горьким является процесс узнавания, пишут в таких случаях: «Мне потребовалось время, чтобы узнать ее», пускай даже – если они говорят о себе – отлично понимают, что узнали человека немедленно; просто им невдомек, что сразу же после этого понимания последовало умозаключение, которое нарушило равновесие, в результате чего возникла серия колебаний, прекратившихся только с постановкой на весы гирьки физической реальности – и тому подобное…
– Это ты, Эля? Какими судьбами?
Мы не виделись долгие годы. Не знаю точно, сколько именно.
– Так просто. Посмотреть Париж. Ты меня не сразу узнал?
Она протягивала мне руку в нитяной митенке, какие давно уже никто не носит. Прикосновение ее руки раздражающе холодное, точно сама действительность, и оно навевает сумбурные воспоминания о множестве вещей – лишь для того, чтобы тут же их сгладить. (То есть воспоминания об этих вещах.) Не знаю, почему я заметил, что она протягивает мне левую руку. Это было как-то между прочим, мимолетно. Тем не менее я осознал, что это – левая рука, и лишь потом отметил про себя, что в другой руке она сжимает поводок, к которому привязано некое живое существо. В передней сумрачно.
– Pass nicht auf, das will nichts heissen[46]46
Не обращай внимания, это так, ничего особенного (нем.).
[Закрыть], – сказала она, перехватив мой взгляд. Вообще-то мы говорили по-чешски. Эта фраза, однако, показалась мне незначащей единственно потому, что была произнесена по-немецки. Просто тогда я еще не догадывался, сколь часто будет она ее повторять и что слова эти станут чем-то вроде пароля, который, хотя сам по себе и ничего не значит, является неким бродом, коим мы станем пользоваться, чтобы перебраться через потоки недобрых и очень много значащих слов, что нельзя произносить даже под угрозой наказания… под угрозой наказания… Боже мой!
Из передней до гостиной рукой подать. Но этих трех шагов хватило, чтобы я почувствовал некую удивительную перемену, случившуюся с самой атмосферой моего жилища. Вот как бы я ее описал: арфа с порванными и запутавшимися струнами. И еще: звонок будто бы тренькнул снова. Но я на это не поддался; я отлично знал, что то была лишь прелюдия. Я шагал перед Элей – если можно употребить слово «шагать», говоря о жалких трех шагах, – и когда в гостиной я вновь повернулся к ней лицом, то мгновенно заметил, что у нее какая-то странная походка: она демонстративно шла на цыпочках; в этом было что-то вызывающе продажное. Но одновременно было в этом и нечто от ангела из сновидений.
Она села, скрестив руки на коленях и так и не выпустив поводок; мало того, она сделала его короче. В гостиной немного светлее: это живое существо на поводке оказалось мохнатой черной собачкой. Собачкой той странной породы, какую изобрели некоторые современные течения в искусстве, собачкой, с точки зрения эволюции и выживания невозможной. Одним из тех животных, перед которыми вы совершенно теряетесь: вы не удивились бы, если бы оно заговорило, и наоборот, задев его ногой, удивились бы, что оно заскулило. Однако собачка Эли была куда более материальна. Будь она моею, она бы скорее всего умерла от голода. Не из-за моей жестокости или небрежения, но в силу моей неспособности представить себе, что подобному существу требуется пища. Это была злая собака.
Эля заметила, как я смотрю на собаку. А она между тем разлеглась как у себя дома.
– Я не могу обойтись без этого морского конька.
Морского конька?
– Лошадиная голова – и в то же время вопросительный знак; эта двойственность меня очаровывает. Однако каждый час собаке надо окунаться в воду – иначе она умрет. А люди на нее так глазеют!
Она сказала это как бы в шутку и тут же добавила:
– Pass nicht auf, это собака. Просто я прозвала ее морским коньком.
Не знаю, почему я перестал ей верить. То есть, тогда-то я знал это точно, но теперь забыл. Конечно, я мог бы выдумать это «почему», причем выдумать весьма правдоподобно. Однако ложь мне претит. Короче говоря: тогда я знал, почему, а теперь не знаю.
– Какой сюрприз, Эля!
Она засмеялась. Я узнал ее давний смех: он вызывал мысли о смехе и гомоне вокруг лечебных источников, когда лечение – это только предлог и когда благоухает сено. Сейчас, однако… как бы это сказать? Да, конечно, это был все тот же прежний смех, но она как будто отталкивала его прочь: он начинал раздражать ее, едва родившись. Она брезгливо отталкивала его носком туфли.
– Да нет, какой там сюрприз. Все просто: я сказала себе, что поеду в Париж попрактиковаться.
– Попрактиковаться в зубной технике?
– В зубной технике. – Пауза. – Я понимаю, ты удивлен. Потому что сначала я сказала, что приехала просто так, поглядеть на Париж. Pass nicht auf; и то, и другое верно.
– Что же ты не написала? Я бы, может, подыскал тебе какую-нибудь работу. Хотя у тебя, наверное, уже есть что-то на примете.
– Где там! – залилась она смехом.
Пнула свою собачку. Та и ухом не повела.
– Как странно, Эля… Люди и вправду не видят дальше собственного носа. Если бы ты, скажем, была художницей, мне показалось бы совершенно естественным, что ты едешь сюда практиковаться. Или шляпницей. Или портнихой. Но зубной техник… Я и понятия не имел, что в Париже…
– Где уж там! – Это прозвучало коротко и зло. Она дернула поводок, сдернула митенки.
– Ты плохо выглядишь, Тонда. И ты состарился.
– Еще бы! Столько лет!.. А ты не изменилась. Все такая же красивая…
– Дерьмо!
Да, так она сказала. Сказала тогда, когда я смотрел ей прямо в глаза. Так что я убежден, что ее глаза об этом слове не знали; да и она сама, целиком, вся не знала об этом слове.
Я ясно услышал его, это слово. Но оно было произнесено настолько между прочим, что затоптало в зародыше любое удивление, изумление или возмущение. Если бы я сказал, что не заметил его нарочно, то покривил бы душой. Просто случилось так, будто этого слова вовсе не было. Вообще не было! Не будто. Слова и на самом деле не было.
– Ты все такая же красивая. То есть, разумеется, немного изменилась. Но стоит тебе опереться подбородком о ладонь – вот так, как сейчас, – и ничего незаметно, ничего. Все дело в подбородке. Какая же ты красивая, Эля!
– Будет тебе! Еще насмехается! Я же сказала, что ты постарел. Тощий какой-то. И такое несешь, что меня тошнит.
(Вопреки тому, что повествование замедлится, вопреки всем канонам, я все же решаюсь сделать тут паузу и просить читателя, слезно просить его минутку потерпеть. Иначе я это вообще не скажу. Лгать я не умею. Позже я, возможно, опять помирюсь с читателем. Но неужели читатель не знает, неужели не знает, что несчастье не рядится в пышные одежды, что оно не величественно, что оно иной раз подобно жабе, а говорит, точно выпивоха, и… и все-таки является при этом несчастьем, то есть лишением, превращающим нас, вопреки всему, почти что в святых?!)
Эля не произносила все эти ужасные слова вызывающе. Никакого извращенного бахвальства, никакого намерения ранить или оскорбить. Я не решаюсь написать еще раз, что этих слов будто и не было, либо же, что их и в самом деле не было. Я не провокатор по натуре, я не хочу дразнить читателя, несмотря на то, что на самом деле эти слова… Эти слова были. Да, эти слова были, но они ей не принадлежали. Она принадлежала им, как мы принадлежим болезни. Казалось, что-то отвратительное подхватило Элю, понесло ее, вынесло на берег – в мой собственный дом – и разлилось здесь. (И впрямь – сколько пятен кругом, сколько мерзких пятен!) Однако Эля оставалась невинной. Разве можно плохо отозваться о человеке, который тяжко болен и которого из-за его болезни отовсюду гонят прочь, так что ему пришлось научиться скрывать ее столь искусно, что никто ни о чем не догадывается? Что можно сказать о том, кто кажется таким чистым, но кому уже опротивело притворство и потому он сорвал повязки, надеясь, что другие распознают его ангельскую суть, распознают ее, не обращая внимания на засохшие струпья и язвы, и что увидят они не ангела, пораженного проказой, но ангела, коему опротивело лгать?
– Однако же ты еще не спросил, как поживают мой муж и мой мальчик, Хуберт.
– Да-да, и как же они поживают?.. Я как раз собирался…
– Да ладно, – сказала она, – ты как раз собирался спросить, как же это со мною могло случиться?
Я наполнил две рюмки.
– Крепкое? – спросила она, но ответа дожидаться не стала. Ибо ее «понесло». Это самое подходящее слово. Она говорила столь же бурно, как горные водопады. И с такой же жалобной яростью. И с такой же обреченностью и беспомощностью.
– Знаешь, однажды утром в постели – я давно уже сплю в отдельной спальне, там тихо, окна выходят в сад, заросший такой травой – живучкой, ну вот, однажды утром лежу я – я привыкла спать на спине – сколько могло быть времени? полдевятого могло быть, и говорю себе вдруг, про себя говорю, надо, наконец, сегодня доделать коронку для госпожи Зауэр, тебе это ничего не говорит, Тоничек, правда? коронка для госпожи Зауэр, коронка для господина Вайс, коронка для барышни Амштетен (Эля вообще-то немка, вот почему она не склоняла, как чехи, все эти фамилии), я их столько уже наделала, сплошные коронки, словно у королевы, сплошные мосты, как в Праге, помнишь? Ты помнишь еще, как я там жила, а ты однажды возвращался с военных сборов и заглянул ко мне, нас было уже не помню сколько, и на всех – три кроны тридцать, мы послали за пивом и за сосисками и были так счастливы, помнишь, Тонда? Теперь я уже не такая – так вот, представляешь, лежу я в кровати, одна, в ночной рубашке (а что в этом такого?), по-прежнему красивая, чего уж там, красивая, что греха таить, но при этом мать и женщина тридцати пяти лет – а ведь что такое тридцать пять? И вот уже десять лет, целых десять лет ничего, кроме коронок и мостов, – мосты, куда-то они приведут меня, а эти коронки? Тонда, Тонда, послушай, я села в кровати, ты представляешь, как я сижу вот так в ночной рубашке?! И все гляжу в заросший сад, но вижу не его, а эти свои тридцать пять лет, они, как шар, когда-то им казалось, что они будут кататься туда-сюда, но это было давно, когда шар только точили (опять это ее особенное словечко), ну… когда его только делали, когда он был новый, и ему казалось, что он туда покатится, а потом сюда… и вдруг его покупают для кегельбана, и он оказывается в желобе, и какой-то человек кидает им в кегли, а мальчик возвращает его по тому же желобу назад – не знаю, Тонда, можешь ли ты себе это представить, – погоди, не хочу тебе лгать, короче, я уже некоторое время… понятия не имею, чем он живет, я все время твердила ему: нет! нет! и вообще мне уже… короче, я уже не девочка, муж, собственное дело, ребенок, он упрашивал, приходил, караулил, он знал, какой дорогой я хожу на работу и где мой кабинет, – видишь ли, у него машина, он ждал, сидел за рулем, при виде меня выскакивал из кабины, я часто поддавалась на его уговоры: «Всего на минутку, Эля, давайте перекусим в „Стромовке“, послушайте, всего на минутку, ладно? Я вас потом отвезу назад, и никто ничего не узнает…» Он был такой глупенький, и вообще – откуда мне было знать, чего он, собственно, добивался, ну да, ты, наверное, рисуешь его себе этаким наглецом, но он был не такой, понятно, что этого, он, наверное, тоже хотел. Но то, что меня так трогало, что было так прекрасно… это чувство было чем-то… не хочу сказать большим, но чем-то другим, почти болезненным… иногда я давала себя уговорить, но ничего ему не позволяла (Эля залилась смехом), он был молодой, Тонда, такой молодой, намного моложе меня, и такой печальный – Бог знает почему! Ведь не могла же я?.. И вот сижу я на кровати, мир кажется мне таким широким – нет, не широким – это было по-другому, как бы это выразить: разнообразным, да, точно большой склад, где можно отлично спрятаться… ну да (сказала она вдруг рассудительно, очень рассудительно), я помню это чувство с тех пор, как мы играли в прятки… я спрыгнула на пол, было ровно полдевятого, я уже опаздывала, у меня есть такой саквояжик свиной кожи, я все в него побросала, схватила его и без завтрака – нет, не так, в кафе за углом я влила в себя кофе, до сих пор помню, какой он был горячий, – побежала на работу, где занялась коронкой госпожи Зауэр, доделала ее, но все время была сама не своя, мне не давал покоя этот саквояжик, ведь у меня и в мыслях не было – ну, ты понимаешь?! – честное слово, не было…
Эля принялась натягивать митенки.
– Как странно, Тонда, я была сама не своя, – продолжала она (менее бурно, я бы сказал, однако иногда ее монолог обжигал), – но все же то и дело повторяла себе: что это на меня утром нашло, что я, дура, что ли; но внутри у меня все кипело, это трудно объяснить, в общем, я была не в своей тарелке, но твердила себе: после работы зайдешь к колбаснику, приготовишь ужин, Хуберт порвал чулочки, надо их заштопать… надо их заштопать. Вот что промелькнуло у меня в голове, когда я брала саквояж, – что я пойду домой, загляну к колбаснику, – надо их заштопать! – понимаешь, у меня вдруг появилось такое чувство, что мне вот-вот станет дурно… я вышла с работы, он ждет, за рулем, выскочил: «Эля, Эля, только на минутку, в „Стромовку“, поедем со мной, я знаю, вы меня не любите, но я угадал, что я тот единственный, кто охраняет вас от… от чего? от чего?.. я не знаю, от чего, но это нечто такое, чего вы боитесь…» Он так и сказал: боитесь… сказал: боитесь… и он даже не предполагал, что наделал этим словом… поднял бурю… чего вы боитесь. Он был молодой, а тут я впервые заметила, что он еще и красивый, не то чтобы какой-то особенный, а просто красивый… и я говорю «нет», говорю «нет, сегодня никуда не поедем», но один Бог знает, как я это сказала и что случилось потом, я помню только, как говорю «нет, сегодня никуда не поедем», а он странно так подошел ко мне, подошел и шепчет: «Эля, о деньгах не беспокойтесь, я богатый» – нет, он не сказал «я богатый», он не такой грубиян, он выразился иначе, более утонченно, хотя речь шла о деньгах, вот именно что речь шла еще и о деньгах, это я нарочно так говорю «я богатый» – чтобы звучало еще противнее, еще противнее, – а потом говорит: «Ты жила бы беззаботно, а этот саквояжик, зачем ты его с собой взяла? Вот видишь! Видишь! Прага такая большая, а мир еще больше, озера, кипарисы, равнины, поросшие цветущим вереском, прерии, пустыни – и города, города, огромные, которые тебя не знают, потому-то они так огромны, дома, точно пчелиные улья, и в одной ячейке мы, никто нас не знает, никто, мы одни, а вокруг люди! Столько людей, это же как на маскараде, Эля!» Я стояла, чувствовала, что не могу двинуться, все закружилось, я прошептала, не знаю, почему: «В Париже Тонда» – «Париж! – выкрикнул он. – Париж!»
Эля добавила сухо и коротко:
– Я здесь с Франком.
Ее собака встала, отряхнулась, прошлась слева направо и снова улеглась. Похоже было, что они с хозяйкой так условились. Собака, которая не разговаривает, – ничего особенного, правда? И тем не менее меня так и подмывает написать: «Собака встала, отряхнулась, молча прошлась и снова легла». Эля подала мне поводок.
– Подержи минутку, я посмотрю, как ты тут живешь.
Моя квартира такая крохотная, что тот, кто по ней «прохаживается», невольно выглядит немного смешным. Однако люди неисправимо вежливы, они «осматривают», они «прохаживаются», потому что для хозяина «ça fait plus riche»[47]47
Так приятнее (фр).
[Закрыть].








