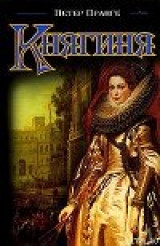
Текст книги "Княгиня"
Автор книги: Петер Пранге
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
7
Колокола римских церквей смолкли. В убранных в черное храмах Божьих гимны сменились погребальным пением. Страстная неделя проходила в размышлениях, и римляне не замечали голода, поскольку это был уже не просто голод, а средство достижения вечного избавления.
В Страстную пятницу, называемую также и Доброй пятницей, начиная с полудня в Риме замерло все. Большинство римлян поспешили на молебны в бесчисленные церкви Вечного города преклонить колена перед задрапированными в черное алтарями, или же отправляли молитвы дома, отметив таким образом священный для всех христиан час принятия Иисусом Христом мученической смерти. Лишь Франческо Борромини был весь в работе и, как всегда, в одиночестве. Он не считал свой труд грехом, ибо, по его мнению, нет молитвы чище и благочестивее, чем служение искусству.
Тишину нарушил гулкий удар колокола церкви Сан-Джованни деи Фьорентини, приходской церкви поблизости скособочившегося от ветра дома на Виколо-дель-Аньелло. Вздохнув, Франческо оторвал взор от стола: наступил час, когда в Старом храме было сорвано покрывало, час гибели Вседержителя. Перекрестившись, Борромини прочел про себя «Отче наш», но пока уста его в тысячный раз старательно твердили слова молитвы, глаза беспокойно блуждали по остававшемуся нетронутым листу бумаги, разложенному перед ним на столе, а мысли его, коим надлежало быть сейчас на Голгофе, где Сын Божий совершил свой искупительный подвиг, пребывали на крестном пути, свершавшемся в его собственной душе, который он вот уже многие часы тщетно пытался одолеть.
Нет, Франческо при всем желании не назвал бы эту пятницу доброй. Снова и снова брал он в руки оправленный в серебро грифель – подарок княгини – и пытался что-то изобразить на бумаге. Его разум, мозг, его силу воображения будто омертвили. Франческо не ощущал и следа вдохновения; ухватившись за идею, которой покорил папу Иннокентия, он, однако, был не в силах ни дополнить, ни обогатить ее ничем новым, так и не продвинувшись ни на шаг.
Что же это? Слепота? Беспомощность? Куда подевались великолепные замыслы, которыми он так и сыпал в присутствии княгини? Чем дольше Франческо вглядывался в девственно чистый лист, тем сильнее охватывало его отчаяние: обелиск, вокруг него четыре фигуры – символы четырех стран света, и все. Тупик. Ни шагу дальше. Все образы, все формы, столько раз виденные им в воображении, уподоблялись уже созданным другими авторами. Тот самый доступ к неизведанному, незримому нечто, которое всегда отличает искусство от ремесла, зловеще блистал своим отсутствием. Теперь Франческо видел лишь то, что видели все, рисовал то, что мог нарисовать любой архитектор, окажись он на его месте, – это была та самая убогая правильность, та похожесть, которой так дорожат посредственности, и никакого полета фантазии, ни намека на загадочность.
В ярости он схватил лист бумаги и, скомкав его, швырнул в огонь. Ну почему, почему ему ничего не приходит в голову? Нет, должно прийти! Если Иннокентий Форумом Памфили вознамерился возвысить свою мирскую резиденцию над церковными постройками Рима, то и ему, Франческо, своим проектом фонтана на пьяцца Навона суждено возвыситься над остальными зодчими Вечного города. Перестройка этой площади предоставляла уникальную возможность воплотить свою концепцию идеального места без оглядки на расходы и затраты. Франческо приводила в восхищение мысль о том, что он сможет показать свои проекты княгине.
Образ княгини не покидал его, он видел перед собой эту женщину постоянно, лицо ее намертво впечаталось в разум таким, каким его запечатлел в мраморе Бернини. Лоренцо сумел так глубоко заглянуть в ее душу, как никто до него не заглядывал. Вновь и вновь вызывая в памяти мраморный лик, Франческо приходил в восторг, экстатическое восхищение, в котором, как он чувствовал, навеки пресуществлялась страстная потребность исканий. Ему казалось, что силы покидают его, как и Сына Человеческого в последний час, когда он напрасно взывал к небесному Отцу, и сердце Борромини переполнял гнев, объектом которого был тот, другой, его соперник. Неужели Лоренцо так и не положили на лопатки? Не уничтожили? Не раздавили? Отнюдь, даже теперь, впав в немилость наместника Божьего на земле, он не утратил величия и мощи, сумев похитить женщину, предопределенную самой судьбой ему, Франческо Борромини. Мысль сия переполняла его гневом, и сам Франческо не в состоянии был уразуметь, что это за гнев – праведный или слепой или же и тот и другой. В одном он не сомневался – подобный гнев способен толкнуть и на убийство.
Франческо отбросил грифель, будто серебро обжигало ему пальцы. Нет, он больше не в силах выносить этого! Поднявшись из-за стола, Франческо решил отправиться на Латеран. Работы там невпроворот, и Бот свидетель – на перестройку церкви отвели каких-то два года. В надежде застать в Сан-Джованни монсеньора Спаду, Франческо торопливо спустился по узкой лестнице. С главой конгрегации предстоял серьезный разговор. В последнее время он взял в привычку раздавать указания рабочим. Так дальше продолжаться не может – большего урона авторитету архитектора и придумать трудно. Кроме того, сейчас самое время пригласить Иннокентия осмотреть стройку. В конце концов Сан-Джованни – епископальная церковь папы! Именно об этом предстояло монсеньору Спаде напомнить его святейшеству, а не вмешиваться в его, Франческо, дела на стройке!
Когда Франческо Борромини вышел на улицу, над городом уже сгущалась синева весенних сумерек. Зябко поеживаясь, он поднял воротник. Если бы хоть что-то пришло в голову насчет фонтана! Может, для начала изготовить уменьшенную глиняную модель? Или лучше из лакированного дерева? Модель всегда нагляднее плоского чертежа на бумаге, к тому же на ней куда менее заметны и возможные огрехи проекта. Все так, но разве не обман – подсовывать заказчикам подобные игрушки? Нет, лучше уж подождать до тех пор, пока у него не появится готовый и выверенный проект, вот когда он будет, отпадет и нужда пускать пыль в глаза.
В окне дома напротив зажегся свет. Франческо даже показалось, что он чувствует тепло и уют комнаты, где сейчас, наверное, семья усаживается за стол или же муж с женой готовятся отпраздновать Пасху. Франческо продолжал жить бобылем – не было никого, с кем скрасить монотонность бытия, даже Бернардо, его племянник, полгода назад поступивший к нему в ученики, не желал обитать под одним кровом с Франческо, отдав предпочтение комнатенке, снятой где-то в старом пригороде.
Внезапно на Франческо накатила тоска. Ему страстно захотелось, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы слушать его, говорить с ним, понимать и разделять его заботы, – иными словами, ему захотелось ощутить ту защищенность и надежность, даровать которую человеку способен лишь другой человек. Охватившая Франческо тоска была настолько сильной, что он изменил планы и отправился не в Латеран, а к Тибру, где в комнатах над тавернами проживали одинокие женщины, принимавшие таких же одиноких, как и он, мужчин, и готовые за пару грошей выслушать и утешить их. Они принадлежали к числу тех немногих, кто работал в Страстную пятницу, – и это тоже объединяло его с ними.
Когда Франческо миновал один из переулков, где-го прокукарекал петух. Борромини невольно ускорил шаг, будто пытаясь сбежать от самого себя.
8
– Аллилуйя! Христос воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя!
Был вечер Пасхи 1648 года, суббота. Рим переполняли колокольный перезвон и заздравное пение – верующие восторженно приветствовали Воскресение Христово, наступавшее в эту первую после весеннего полнолуния ночь с субботы на воскресенье. Ночные дозорные освещали факелами улицы, неся свет Божий в мир. Люди, на протяжении последних недель не покидавшие жилищ, что было частью покаяния, теперь, смеясь, в обнимку шли по улицам. Юдоль печали оставалась позади, уступая место ликованию. Начиналось самое веселое празднество года: суды прекращали расследования уголовных дел, преступников миловали, а все, что до сих пор заботливо хранилось в кладовках, выставлялось на стол – время поститься миновало.
Папскую карету сопровождала сотня всадников Иннокентий вместе с ближайшими родственниками возвращался из собора Святого Петра, где на время перестройки базилики Латерана проходило главное пасхальное богослужение, к себе в палаццо Памфили. Кларисса, ехавшая в закрытой карете вместе с его святейшеством, кузиной донной Олимпией, а также первым кардиналом Камильо Памфили, видела в отсветах факелов лицо папы, с которого после мессы, казалось, еще не успела сойти маска сурового благочестия. Иннокентий, сменив незадолго до начала службы фиолетовую мантию – символ искупления – на белое праздничное одеяние, высоко воздев троесвечие, во главе нескончаемой колонны верующих восшествовал в собор для проведения пасхальной мессы.
В ушах Клариссы продолжал звучать чарующий голос оскопленного певца, когда лошади остановились во дворе палаццо Памфили. Изрядно утомленная затянувшейся на целых четыре часа службой, княгиня последней вышла из экипажа и последовала за Иннокентием и остальными в дом. В вестибюле уже собрались десятки близких и дальних родственников папы – все они по случаю Пасхи были приглашены на трапезу во дворце.
И тут будто из ниоткуда возник какой-то незнакомый Клариссе босоногий монах с пронырливым, колючим взором и с таинственным видом обратился к донне Олимпии:
– На два слова, донна Олимпия!
От Клариссы не укрылось, как вздрогнула кузина при словах монаха. Не сводя с Олимпии пытливого взора своих лукавых глазенок, тот непрерывно озирался, будто желая убедиться, что никто за ним не следит, и постоянно скреб себя грязными пальцами, словно его донимали скопища блох. Но еще сильнее Клариссу удивило то, что донна Олимпия покорно последовала призыву этого типа, торопливо проведя его в небольшой боковой кабинет, словно опасаясь, что кто-то может заметить ее в компании такого оборванца.
Кларисса, недоуменно покачав головой, направилась в составе папской свиты в обеденный зал, куда слуги уже вносили скоромные яства. При избытке пищи духовной на лицах кардиналов отчетливо читалось крайнее нетерпение позаботиться и о благодати собственного чрева.
Донна Олимпия вошла в зал почти сразу же за ней и заняла место обок своего ближайшего родственника, так что никаких затяжек начала пиршества не предвиделось. Кларисса, в шелковом наряде сидевшая неподалеку от нее, тоже во главе стола в окружении ближайшей родни Иннокентия, отметила, что кузина, отдавая распоряжение приступить к трапезе, слегка раскраснелась и вообще выглядела довольно взвинченной. Даже, пожалуй, слишком взвинченной, когда после минестроне стали убирать опустевшие суповые тарелки и подавать жаркое из поросенка и курятины.
– Сначала, значит, минестроне, потом курятина и свинина? – угрюмо констатировал Иннокентий. – И это в самый главный праздник? Вы что же, надумали оскорбить наших гостей?
– Вы только взгляните, что на тарелках, – довольно раздраженно ответствовала Олимпия. – А за расходами приходится следить, между прочим, мне. Как, позвольте вас спросить, обойтись теми мизерными средствами, выделяемыми вами на ведение хозяйства? Как насытить всю эту ораву?
– На одно только хозяйство вы получаете от меня ежемесячно тридцать тысяч скудо!
– Да, а необходимо пятьдесят, наше святейшество. И вместо того чтобы порицать меня, вам следовало бы воздать мне хвалу, что мы вообще не умираем с голоду.
– Просто не совсем понятно, куда девается такая уйма денег.
– И мне тоже, представьте, – подал голос Камильо, обгладывая куриную ножку и громко чавкая. Струйки жира стекали мимо рта. – Только вчера мне не позволили заменить карету на новую, хотя я уже не одну неделю прошу об этом. По-моему, моя любезная мамочка болезненно экономна.
– Помолчи! – прошипела Олимпия. – Женщина, умеющая экономить, все равно что кардинал. Отчего вы перестали есть, ваше святейшество?
Иннокентий действительно встал из-за стола и подошел к причудливо инкрустированному столику, стоявшему между окон.
– Что это? – вопросил он, и его еще секунду назад брюзгливая мина исчезла, уступив место изумлению.
Кларисса подняла взгляд, желая увидеть, что же повергло папу в такое удивление. На столике в свете стоявшего подсвечника красовалась модель фонтана, выполненная из полированного серебра: обелиск, и у его подножия четыре аллегорические фигуры.
– Что за великолепная работа! – восхитился Иннокентий, не отрывая взора от серебряной поделки. – Мы не припоминаем, когда в последний раз нам доводилось лицезреть подобную красоту.
– Так вам нравится? В самом деле нравится? – удовлетворенно закудахтала Олимпия, тоже подошедшая к столику. – Я специально поставила сюда эту модель, желая порадовать вас, ваше святейшество.
Ответом Иннокентия был преисполненный значимости кивок.
– Разве я не говорил, что синьор Борромини – настоящий архитектор? Самый добросовестный из всех, кого мы знаем?
Он поднял вверх палец и, придирчиво оглядев представителей своей ближайшей родни, которая по примеру папы тоже поднялась, с едва заметной улыбкой на обычно строгом лице добавил:
– И архитектор, который следит за расходами! Монсеньер Спада известил нас, что в Сан-Джованни уже почти готовы новые стены и завершены кровельные работы и расходы не превышены ни на одно скудо.
– До меня дошли слухи, – бросил через плечо продолжавший сидеть в одиночестве за столом Кампльо, – что недавно ему вручен орден короля Испании.
– Это нас весьма радует, – с удовлетворением произнес Иннокентий. – Синьор Борромини получил награду вполне заслуженно.
Кардиналы единодушно закивали в знак согласия, по залу прошел ропот удовлетворения. Кларисса почувствовала, как забилось ее сердце, – она была искренне рада признанию ее друга. Однако радость эта была недолгой. Стоило ей вспомнить Борромини, как тут же ее охватило непонятное чувство вины. Ведь с той встречи в обсерватории он так и не нанес ей визита, хотя она настойчиво приглашала его. Может быть, и он, увидев изображение святой Терезы, сумел разгадать заключавшийся в скульптуре смысл?
Недобрые предчувствия сделали свое – Кларисса отправилась в церковь Санта-Мария, чтобы своими глазами узреть скульптуру. И, надо сказать, работа Бернини повергла ее в ужас. Хотя ей уже приходилось видеть скульптуру в мастерской кавальере, Кларисса заметила произошедшие с ней изменения! В глазах святой, в ее лике, в каждой из пор ее мраморной кожи, в каждой складке одежды присутствовала экстатическая восторженность, пережитая самой Клариссой. С той поры как она увидела эту скульптуру, княгиня уже не могла ни с кем ее обсуждать. Любой, кто видел ее такой и кто, не вдаваясь в суть и истинное содержание мгновения, запечатленного Бернини в камне, предпочитал довольствоваться чисто внешними впечатлениями, имел полное право предать ее проклятию. Но разве право этого мира единственно верное и справедливое? К боязни Клариссы, что Борромини видел скульптуру святой Терезы, примешивался страх навсегда потерять во Франческо друга.
– Значит, вам нравится этот фонтан? – решила окончательно убедиться донна Олимпия.
– Вне всяческих сомнений, – ответил папа Иннокентий. – Вы действительно доставили нам большую радость. Но давайте все же вернемся за стол! Еда стынет, грешно пренебречь дарами Божьими.
Папа уже повернулся, однако невестка удержала его.
– Еще одна деталь, ваше святейшество. – Да?
– Эта модель, – донна Олимпия помедлила, – она… она выполнена не Борромини.
– Не Борромини?
На лице Иннокентия проступило удивление и разочарование.
– Нет, ваше святейшество. Ее отлил для вас кавальере Бернини.
– Бернини? – Папа произнес это таким топом, как будто речь шла об Антихристе. – Но мы же безо всяких оговорок отстранили его от участия в конкурсе! – Разочарование на лице быстро сменялось гневом. – Что вообразил себе этот человек? Постоянно творит такое, за что его давно пора отлучить от церкви. Совсем недавно он нагрешил тем, что представил святую Терезу самой настоящей шлюхой, а теперь набрался наглости…
– Прошу простить, ваше святейшество, я все же позволю не согласиться с вами, – не дала ему договорить донна Олимпия. – В случае с изображением Терезы следует винить не художника, который лишь отражает действительность, а ту самую порочную шлюху, которая служила ему моделью.
Кларисса в ужасе съежилась, уже готовая к тому, что донна Олимпия ткнет в нее обличающим перстом.
Но кузину, похоже, интересовал лишь папа. Она продолжила свою мысль:
– Если вы не желаете, чтобы Бернини взялся за фонтан, тогда пусть и эта модель не оскорбляет вашего взора.
Олимпия хлопнула в ладоши, и к ней, бесшумно ступая, тут же приблизились два лакея.
– Уберите это отсюда!
– Постойте! – выкрикнул Иннокентий. – Оставьте все, как есть! Откуда нам знать, отчего Господь наделил этого жалкого грешника талантом создавать подобные произведения.
Полуобернувшись, будто собравшись отойти, понтифик неотрывно смотрел на серебряную модель, сверкавшую в свете свечей, как только что отполированная дароносица на алтаре.
– Видите богов воды, ваше святейшество? – едва слышно спросила донна Олимпия. – Преисполненные почтения к вашему святейшеству, они взирают на герб папского рода.
– Разумеется, вижу, – нехотя отозвался папа. – Вы что же, думаете, я слепец?
– Четыре потока – не только главные реки четырех стран света, – продолжала донна Олимпия, – они напоминают нами о четырех райских реках. И это потому, что вы, ваше святейшество, приблизили верующих к Раю.
– Вот как? Вы полагаете?
– Да, – с серьезным видом кивнула Олимпия, – после трех десятилетий войны вы вновь даровали людям мир. И символ этого – голубка на вершине обелиска, птица из родового герба Памфили и одновременно символ мира. Подобно голубке Ноя, она песет в клюве оливковую ветвь. Триумф христианства под знаком вашего понтификата.
Донна Олимпия замолчала, и в зале повисла тишина. Все взоры были устремлены сейчас на папу: каким же будет его решение? И Кларисса взирала на понтифика в тревожном ожидании.
После бесконечно долгой паузы Иннокентий, откашлявшись, с выражением крайнего недовольства на лице, будто решение это стоило ему нечеловеческих усилий, наконец провещал:
– Тем, у кого Бернини не в чести, лучше бы не видеть его произведений. Передайте кавальере, пусть займется возведением фонтана – согласно повелению Божьему!
9
– Отказываюсь верить в подобное! Его святейшество никогда не нарушит данного им слова!
Франческо просто онемел от изумления и возмущения. Он так и застыл с молотком и долотом в руке, при помощи которых пытался объяснить своему племяннику Бернардо и остальным каменотесам, каким должен быть херувим на продольной части здания базилики. Сейчас, стоя у голых стен епископального храма Латерана, Борромини пытался осмыслить, что произошло. Только что монсеньор Спада и кардинал Камильо Памфили сообщили Франческо решение папы отстранить его от сооружения фонтана на пьяцца Навона.
Каменотесы, побросав работу, сгрудились около пришедших. Тут же с кислой физиономией стоял и Бернардо.
– Бог ты мой! Вам что же, нечего делать? – рявкнул на них Франческо. – Чего уставились? А ну-ка работать! Быстро!
Франческо трясся от охватившего его гнева. Какие великолепные планы возникли у него, когда Иннокентий поручил ему перестраивать епископальную церковь Латерана. Правда, затем все сильно переменилось, потянулась череда разочаровании и унижений. Вместо капитальной перестройки базилики, как было запланировано вначале, Франческо под давлением обстоятельств вынужден был раз за разом менять проект, пока он не был окончательно выхолощен – от замысла Борромини не осталось и следа. А теперь папе вздумалось отобрать у него и фонтан, перепоручив работу над ним Бернини. Господи, ну почему именно Бернини, а не кому-нибудь другому?
– Ни о каком нарушении обещания и речи быть не может, – умиротворяюще произнес Вирджилио Спада. – Его святейшество лишь стремится к тому, чтобы вы все силы отдавали сейчас работам над его епископальной церковью. Не забывайте, до юбилейных торжеств остается совсем немного.
– Если хотите знать, – вмешался Камильо, ухватив толстенькими пальчиками кусок торта с подноса, который предусмотрительно держал наготове стоявший тут же лакей, – это решение принимал не мой дядя, а моя мать. Она всегда и во все вмешивается, считает, что без нее никому не обойтись. Вот и мне надумала запретить жениться на княгине Россано.
– Какое мне дело до вашей женитьбы! – взорвался Франческо, бросив неприязненный взгляд на жирную, молочно-белую физиономию молодого кардинала, который в ответ на дерзкую фразу Борромини лишь пожал плечами, продолжая как ни в чем ни бывало уписывать торт.
– Пойдемте! – Франческо ухватил Спаду за рукав. – Пойдемте со мной! Я хочу вам кое-что показать.
Едва сдерживаясь, Франческо потащил монсеньера к столу, на котором лежал развернутый лист бумаги с нанесенными на него чертежами, испещренный пометками и значками.
– Но ведь это проект фонтана Бернини! – вырвалось у Спады. – Откуда он у вас?
– Пару дней назад мне принес их Луиджи Бернини. Они с братом давно на ножах.
Франческо не смог удержаться от злорадной улыбки.
– До сих пор я не придавал ровным счетом никакого значения этому – в конце концов, он был отлучен от участия в конкурсе, – но теперь…
– Почему вы решили показать мне этот проект?
– Потому что, если к нему приглядеться, то становится ясно: фонтан обречен. Так его нельзя строить на этой площади. Вот, смотрите сами! – Франческо постучал пальцем по чертежу. – Боги воды сгрудились у обелиска, будто у печи, желая обогреться. Вероятно, потому что Бернини сам понимает, но не может себе признаться, что фигуры явно велики. Речь ведь идет о пьяцца Навона, Боже мой, а не о фонтане! Фонтан всего лишь монумент, и задача его – выделить центр площади. Что и говорить, этот надменный индюк никогда не признавал взаимосвязи, никогда не имел чутья ни на пропорциональность, ни на размеры, главное для него – возможность лишний раз похвалиться своим детищем. Вместо того чтобы приспособить фонтан к площади и палаццо, получается наоборот – над всем будет царить его фонтан. Отсюда скученность, перегруженность деталями, неестественные, театральные жесты фигур, мешанина дельфинов, рук, ног, голов…
Произнося этот монолог, Франческо говорил громче и громче, но внезапно умолк на середине фразы. Потому что чем громче он говорил, тем никудышнее казались ему приводимые им доводы. Его критика была не чем иным, как выражением безграничной зависти. Сейчас он видел перед собой проект, который безуспешно пытался создать сам, – и в общей композиции, и в мельчайших деталях проект Бернини содержал в себе как раз то самое, неуловимое нечто, которое и отличает истинное искусство от ремесла.
– Я… я считаю, вы все увидели.
Франческо хотел было свернуть свиток, однако руки его дрожали так, что он оставил попытку. И тут же взял в руки молоток, чтобы унять дрожь.
– Его святейшество обещал мне возместить ваши потери, – тихо и сочувственно проговорил Спада, намеренно игнорируя вспышку раздражения Борромини. – Он намерен поручить вам расширение своего фамильного палаццо и возведение новой церкви Санта-Агнезе. Потерпите немного, вас ждет статус главного архитектора Форума Памфили.
Франческо продолжал упрямо смотреть в сторону, время от времени постукивая молотком по сжатой в кулак ладони левой руки. Разве может понять этот коротышка монсеньор, что творится сейчас у него в душе!
Дело в том, что Спада стал свидетелем его краха, его унижения, и осознание этого мучило сейчас Франческо едва ли не больше, чем отказ папы в пользу его извечного соперника Лоренцо Бернини, представившего к тому же вполне пристойный проект.
– Я не верю ни одному вашему слову, – резко произнес Борромини.
– Я готов поручиться за то, что говорю. Самое главное, чтобы вы в этой истории проявили терпимость и сговорчивость.
– Я тоже готов поддержать вас, – с полным ртом подал голос Камильо. – Моя мать назначила меня главным застройщиком Форума, и я использую все свое влияние, если вы пожелаете. Донна Олимпия захотела устроить галерею между залами для приемов и личными апартаментами. Разве это не шанс для вас?
Франческо не слушал кардинала, он наблюдал за своими каменотесами. И те, в свою очередь, чувствовали, что назревают неприятности. С преувеличенным усердием они ваяли херувима. Неужели они все-таки подслушали разговор? Если да, то на его авторитете можно поставить крест.
– Черт побери! – вдруг закричал Борроминн. – Да вы в своем уме?! Молотите по камню так, будто собрались истолочь его в пыль! Сколько раз вам говорить, что камень требует осторожности?
И, яростно топая ногами, направился к рабочим показать, как нужно обходиться с херувимом. Франческо самолично заготовил каждую фигуру, вложил в нее душу. Может, они думают, что если не Бернини, а он заготовил их, то и работать можно спустя рукава?
Спада попытался удержать его.
– Тут есть еще одна деталь, синьор Борромини.
– Что там у вас? – обернулся Франческо.
– Подача воды на пьяцца Навона.
– Да, ну и что? Что с этой водой?
– Воду возможно подавать в очень небольших количествах-давление Аква Венджине никудышное.
– Да-да, это мне хорошо известно.
– Если исходить из проекта, фонтан потребует очень большого количества воды, а ее просто неоткуда взять. И похоже, кавальере Бернини упустил это из виду и понятия не имеет, как справиться с проблемой.
– Представьте себе, вот как раз это меня и не удивляет! – иронически усмехнулся Франческо. – Помнится, наш кавальере – смотритель городских фонтанов и водопровода? Этим титулом он в свое время похвалялся на каждом шагу.
Спада не спешил заговорить, но взгляд Борромини выдержал. Франческо понимал, какой вопрос вертится сейчас на языке монсеньора. Неужели у него хватит совести задать и его?
У Спады на лице были написаны все тридцать три несчастья, он стеснительно переминался с ноги на ногу.
– Насколько мне известно, – начал он, – вы уже сделали расчеты нового водопровода. И с вашей стороны было бы весьма любезно передать их в наше распоряжение.
Вот уж воистину ни стыда, ни совести!
– Их… их… – пробормотал Франческо, – вы не имеете права требовать их от меня.
– Не мы их требуем, – вмешался Камильо, доев тем временем торт и подходя к ним. – Их требует моя мать.
– Пусть это станет проявлением доброй воли, – добавил Спада. – Подумайте, какую важную роль предстоит сыграть Форуму Памфили!
– Я полгода убил на расчеты… – От кипевшей в нем ярости Франческо не мог подобрать подходящих слов, язык с трудом повиновался ему. – А теперь… теперь я должен просто отдать их, так, по-вашему? Тому, кто стащил мной проект, вероломно, предательски похитил его у меня, чтобы навредить мне…
Франческо не договорил. Он чувствовал, что задыхается, и вынужден был призвать на выручку все свое самообладание, чтобы одолеть накатывавшийся приступ кашля.
– Прошу извинить, – коротко сказал он, – меня ждет работа.
И повернулся к ним спиной. Не мог он больше выносить присутствия здесь двух этих типов. Значит, все начинается сызнова, значит, в нем вновь предпочли видеть ремесленника, поднаторевшего в технических вопросах, а Борромини-художник, дескать, обождет. А ведь Бернини воспользовался именно его Борромини, проектом, и ничьим другим. Нет, надо убраться отсюда подальше, иначе сегодня он точно кому-нибудь глотку перегрызет! Франческо повернулся и стал уходить, сам не зная куда.
Не успел он сделать и десятка шагов, как у него за спиной раздался грохот, будто раскололся огромный камень. Франческо резко повернулся. Маркантонио, один из каменотесов, напарник Бернардо, до слабоумия смущенно ухмылялся. У его ног лежала расколотая надвое голова херувима, сорвавшаяся с высокого цоколя, на котором мастер работал над ней.
– Ты рехнулся, что ли?
Парень продолжал дурацки ухмыляться. Франческо пристально смотрел на рабочего, и глаза его ничего, кроме этой отвратительной ухмылки, не видели: маленькие глазки, узкие, словно щели, поджатые губы, ямочки на щеках. Нет-нет, он ошибся, в ухмылке этой не было и следа смущения. То была улыбка наглеца, дерзкого и самодовольного нахала, спесивой твари, добившейся своего. И Франческо будто озарило. Эта ухмылка была ему знакома, и еще как! Точь-в-точь ухмылка Лоренцо! Торжествующая ухмылка его соперника!
– Ну погоди! – взревел он. – Ты за это поплатишься!
С молотком в руке Франческо бросился на Маркантонио.
– Остановитесь! – завопил Спада. – Ради всех святых! Опомнитесь! Мы ведь в храме Божьем!
Монсеньор попытался помешать Борромини, но поздно – тот был уже рядом с каменотесом. Рабочий неуклюже пытался заслониться от удара, в его широко раскрытых глазах застыл ужас.
Размахнувшись, Франческо с силой опустил молоток на голову несчастного. Раздался ужасный звук, будто треснула сухая доска, и металл вошел в череп. Сероватая масса брызнула прямо в глаза Франческо, и он словно сквозь пелену увидел, как Маркантонио медленно оседает на землю.
Некоторое время были слышны хрипы умиравшего каменотеса, потом все стихло. Окровавленный молоток выпал из руки Франческо. Тыльной стороной ладони он вытер залившую лицо тошнотворную массу, отер глаза и повернулся.
Камильо улыбнулся:
– Горю желанием узнать, как на все это посмотрит моя мамочка.








