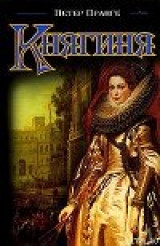
Текст книги "Княгиня"
Автор книги: Петер Пранге
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
4
На улице царил ад, будто с цепи спустили целую тьму дьяволов. Хотя донна Олимпия предприняла все, чтобы карнавальные шествия проходили поодаль от дворца папской фамилии, тем не менее шум на освещенной факелами пьяцца Навона стоял неимоверный – римляне пили, пели, танцевали. Напялив карнавальные маски, люди отдыхали, наверстывали упущенное, сбрасывая с себя бремя воздержанности и благочиния, выпуская на волю сдерживаемые целый год плотские инстинкты. Бурлил карнавал, ежегодная увертюра к продолжительному посту, предшествующему Воскресению Христову.
Не замечая маскарадной суеты, Франческо Борромини шествовал по улицам и переулкам, весь во власти клокотавших внутри чувств. И все-таки есть на свете чистая, светлая радость, счастье, о котором он до сего вечера знал лишь понаслышке, то самое безоблачное счастье, когда миг уподобляется вечности. И он пережил этот миг! Франческо прикидывал, кто из его знакомых сейчас мог быть счастливее его, и ни одно имя не приходило в голову. Да, княгиня раскрыла ему глаза! Юпитер сияет ярче Сатурна! Как же она права!
Сейчас он готов был расцеловать каждого встречного, так охватило его чувство невыразимой, неописуемой любви к миру. Как он жил до этого вечера, недоумевал Франческо. Да и жил ли вообще? Слова княгини пронизали его душу блаженством, и, уйдя из палаццо Памфили, Франческо понял, что не может просто так отправиться домой – его обиталище слишком тесно, чтобы вместить свалившееся на него счастье. Остановившись он огляделся вокруг. Ликующая толпа в домино сорвала у одного из веселившихся, судя по всему, юнца, маску с лица. И внезапно перед публикой предстала изборожденная морщинами физиономия старика. Брызжа слюной, беззубый рот старикана исторгал на обидчиков проклятия.
Франческо раздумывал – куда пойти? Ведущие к Тибру переулки заполонила людская масса. Он выбрал обходной путь на Квиринал. Вопли радости и пение утомили его, он жаждал побыть наедине со своим счастьем.
Она назвала его другом, дорогим другом. Какая невиданная награда – вероятно, высшая из всех, которые княгиня могла присудить. Что же скрывала эта фраза? Быть может, она любит его? Но не успела эта мысль сформироваться в голове Франческо. как он тут же прогнал ее. Как он мог думать о таком? Княгиня только что потеряла супруга! И то, что сейчас, еще не сняв траура, предложила ему дружбу, означало очень многое, наверное, в тысячу раз больше, чем он мог рассчитывать. Франческо за это был так благодарен княгине, что его надеждам и томлениям не требовалось иного источника. Он был готов навеки довольствоваться ее дружбой. Кто знает, возможно, именно она, эта дружба, была и ее истинным предопределением, быть может, именно в ней и следовало искать корни их сердечной близости, исключавшей всякий намек на телесную страсть.
Но до конца ли он искренен в своих чувствах? Если да, то откуда испепеляющая ревность, объектом которой становился любой предмет или явление, удостоившееся ее внимания? Откуда крохотные, но болезненные уколы, донимавшие его всякий раз, когда она что-то замечала, кого-то выделяла или хвалила? Сколько же ему пришлось выстрадать за все эти годы, да еще без права признаться даже самому себе! Он готов был ревновать княгиню ко всему на земле, к вещам, к которым она прикоснулась, и даже к комнатам и гостиным, куда ступала ее нога, и к годам и месяцам, проведенным врозь.
Нет, то было нечто большее, чем просто дружба, вероятно, и она со временем испытает к нему иное чувство, более глубокое, нежели дружеская привязанность. Как она засияла, когда он показал ей проект фонтана, и какой восторг ждет ее, когда он представит ей свой замысел пьяцца Навона, очертания которого рождались в его голове уже нынче! Никто, кроме него, Франческо, не знает и никогда не узнает, какая чудесная женщина княгиня, никому еще не удавалось заглянуть ей в душу так глубоко. Разве мог обмануть образ, пригрезившийся ему тогда, в пору мужания, в одну из зимних ночей в его родной горной деревушке?
На улице, ведущей к Порта Пиа, Франческо остановился возле неприметной церквушки. Улица была почти пуста, добравшихся сюда гуляк в масках можно было по пальцам перечесть. Тем более Франческо удивился непонятному скоплению народа у входа в эту крохотную церковь. Работы? Какие могут быть работы в предпоследний день карнавала? К тому же на ночь глядя? Не задумываясь, Борромини вошел в храм.
Потребовалось несколько мгновений, чтобы его глаза привыкли к полумраку, царившему в церкви, скупо освещенной немногими свечами. У стены левого придела мерцали блики отражавшегося от полированной поверхности мрамора света. Франческо разглядел очертания ложи, над парапетом которой склонились изваянные из камня фигуры, будто желая присмотреться к происходящему в приделе, откуда доносились грубые мужские голоса и мерные удары металла о камень. Нет, сомнений быть не могло, здесь действительно шли работы.
– Эй, поторопитесь! Я не желаю торчать здесь всю ночь! Услышав голос, Франческо невольно вздрогнул. Его он не мог спутать с ничьим другим, и голос этот принадлежал Лоренцо Бернини. Франческо отступил в тень. Значит, верно то, о чем судачили на строительных площадках: кавальере Берниии снова начал работать. Прищурившись, Франческо вглядывался в сумрак. Под ложей несколько человек устанавливали скульптурную группу.
– Осторожно! Смотрите не угробьте ангела!
На секунду Борромини почувствовал зависть. Хотя он много лет назад и сумел создать из камня своего херувима, но скульптура как ремесло и как творчество, с которым так легко завоевать души властей предержащих, так и оставалась ему недоступна. И тут же Франческо испытал еще большую гордость: зато сам он сумел заручиться расположением папы Иннокентия и без создания скульптур понтифика, лишь благодаря силе своих идей и замыслов.
– Зажги-ка факел, Луиджи! Темно, хоть глаз выколи! Дрожащее пламя осветило внутренность церкви, и взору Франческо предстал весь левый придел: сплошной поток красок и движения, увенчанный ореолом, лучи которого сквозь просветы в облаках изливались па алтарь.
– Ну разве она не прекрасна! – во весь голос восторгался Бернини, стоявший спиной к Франческо и загораживавший алтарь. – Мне кажется, я никогда еще не создавал большей красоты. Да, да, так и есть, – убеждал он своих помощников. – Вот так и говорите везде, именно в этих словах: ничего лучшего Бернини еще не создавал! На каждом углу говорите! Везде! Пусть весь Рим узнает – ничего более совершенного кавальере Бернини еще не создавал.
Франческо невольно покачал головой. Как мог тот, кто считался первым художником Рима, унижать себя, пуская лестные самому себе слухи? Неужели у него не осталось ни капли гордости?
Переполненный отвращения, Франческо уже хотел выйти на улицу, но посторонился, пропуская кого-то из рабочих, и взгляд его упал на алтарь.
Разглядев алтарную скульптуру, он окаменел, как жена Лота, нарушившая запрет оборачиваться и узревшая Содом и Гоморру.
5
Донна Олимпия, стоя у окна палаццо Памфили, обозревала площадь внизу, где римляне вот уже третий день праздновали карнавал. Подобно волне прибоя по толпе прокатился восторженный гул – это сорвал овации палач, в очередной раз продемонстрировавший недюжинную сноровку. И если первые казни свершались простейшим способом – через повешение, то теперь публика вовсю забавлялась более замысловатым зрелищем – приговоренных четвертовали, рубили им головы, что впечатляло куда сильнее.
Донна Олимпия закрыла окно – сейчас ей не до зрелищ. Нынче ее одолевали заботы куда более серьезные. Ее сын Камильо, которого его святейшество приблизил к себе, сделав первым кардиналом и тем самым вторым по властным полномочиям в Ватикане человеком, чуть ли не демонстративно закрутил любовную интрижку с вдовой князя Россано. Все бы ничего, но начиная с минувшего четверга вдовушка удостоилась и его ночных визитов. А это уже попахивало скандалом! Камильо во всеуслышание объявили страдавшим бесплодием, что, собственно, и открыло ему путь в Священный Совет, – было решено приравнять его физический изъян к рукоположению. Если уж дело дойдет до венчания, то неизбежно возникнут расходы – а они будут огромны! Впрочем, не перспектива лишний раз раскошелиться страшила донну Олимпию, а нечто иное: если Камильо не устоял перед чарами молоденькой и весьма привлекательной княгини Россано, ко всему иному и прочему еще и тезки невестки папы – вдова Россано также носила имя Олимпия, – то можно спокойно поставить крест на его былой привязанности к матери. На сей счет у донны Олимпии никаких иллюзий исоставалось. А Камильо был для нес всем на свете. Если единственный сын ускользнет из-под ее опеки, жизнь потеряет смысл.
Может, отправиться на Корсо? Там есть над чем посмеяться – раздетые донага уроды в компании с евреями бегают наперегонки, победителю же даруют жизнь, то есть зрелище обещало быть весьма любопытным. Первые из забегов были назначены на полдень, так что она вполне успевала к началу. Или же лучше поехать в церковь Санта-Мария-делла-Витториа? По словам ее поварихи, Бернини выставил там на обозрение одну из своих новых скульптур, работу просто восхитительную, нечто до сих пор невиданное. Все только и болтают о ней, говорят даже, что это якобы самая значительная из работ кавальере. И на Корсо только об этом и речь.
– Мне на самом деле не терпится взглянуть на нее, – заявила донна Олимпия Клариссе, которая сидела у камина, погрузившись в вышивку гладью. – Поедешь со мной?
– Скульптура Бернини? – спросила ее кузина, не поднимая головы от пялец. Думаю, вряд ли это меня заинтересует. Мне недостает умения понимать шедевры искусства.
– Странно, было время, когда ты ими насытиться не могла. А теперь, когда именно искусство пошло бы тебе на пользу, не желаешь больше о нем слышать. Поехали, хоть рассеешься! Нельзя так отдаваться своему горю!
– Верю, что ты желаешь мне хорошего, Олимпия, но я, с твоего позволения, воздам благодарственную молитву.
Отложив в сторону работу, Кларисса собралась выйти.
– Куда ты? – спросила Олимпия. – Еще рано для молитвы!
– Я уколола палец, – пояснила Кларисса, – и кровь никак не остановить.
Хотя кузина наотрез отказывалась ее сопровождать, допнна Олимпия все же собралась ехать на Корсо. Надо как-то решать накопившиеся проблемы, от них все равно не уйти. Кто знает, может, как раз там, на Корсо, ей попадется на глаза парочка нужных людей. Например, кардинал Барберини, накануне вернувшийся из французского изгнания, тот наверняка будет в ложе для почетных гостей. Сейчас самое время искать пути замирения Памфили с Барберини – если Камильо продолжит свои ночные эскапады к княгине Россано, не исключено, что помощь Барберини понадобится донне Олимпии куда скорее, чем представляется.
Хотя на улицах было полно народу, экипаж невестки папы пробирался по ним довольно бойко – карету с гербом папы на дверце сопровождал эскорт в два десятка всадников, так что при виде процессии прохожие спешили уступить дорогу. Лишь на подъезде к Корсо экипаж чуть замедлил ход. А когда показалась ложа для почетных гостей, кучер и вовсе вынужден был остановить лошадей.
На улице бушевала самая настоящая битва. Раззадоренные криками женщин и детей, мужчины что было силы дубасили друг друга. Донна Олимпия понимала, что скоро это не кончится. Взявшись за четки, она, дабы убить время, стала нашептывать «Аве Мария». Вероятно, все из-за того, что кто-то опять не оказал кому-то знак почтительности – не уступил дорогу. Такие свары на римских улицах происходили чуть ли не ежечасно. В свое время подобный инцидент послужил поводом к войне Барберини с Кастро.
Когда ожидание затянулось больше чем на четверть часа, донна Олимпия не выдержала. Высунувшись из окна кареты, она крикнула:
– Почему мы не едем? Что там происходит?
– Прошу прощения, княгиня, – отозвался кучер. – На Корсо схватили Чекку Буффону, к тому же в маске. Вот ее почитатели и сцепились между собой.
Донна Олимпия сердито затеребила четки в поисках затерявшегося среди бусин крестика. Чекка Буффона была известной в городе куртизанкой, которая, по словам Камильо, пару недель назад пробилась в фаворитки кардинала Барберини. Арест ее у всех на глазах, да еще в маске, да еще на Корсо – и то и другое куртизанкам на период карнавала воспрещалось – явно вывел старика из себя. Донна Олимпия раздумывала, что в такой ситуации предпринять. Стоит ли в сложившихся обстоятельствах вызвать главу рода Барберини на серьезный разговор? Или лучше убраться подобру-поздорову? Она выбрала последнее.
Еще раз высунувшись из окошка кареты, она распорядилась:
– В церковь Санта-Мария-делла-Витториа!
* * *
Небольшой храм на улице, ведущей к Порта-Пиа, был переполнен. Сюда устремились все желающие своими глазами взглянуть на последнюю работу маэстро Бернини. Большинство их даже не потрудились снять карнавальное убранство: тут присутствовали лекари и адвокаты, китайские мандарины и испанские гранды, арабские калифы и индийские махараджи. Сняв маски и головные уборы, все в почтительном молчании, разинув рты, сгрудились у левого придела. Давка была такая, что донна Олимпия с трудом пробиралась через толпу.
Люди, узнавая ее, расступались, давая пройти, по толпе пронесся ропот. Минуя образовавшийся коридор, Олимпия поглядывала на лица римлян, стоявших по обе стороны. Если судить но их выражениям, горожане готовы были простить кавальере Бернини досадный промах с колокольнями. Может, Памфили все же поторопились, поручив возведение фонтана Борромини?
Стоило донне Олимпии взглянуть на алтарь, как она остолбенела. Устремлявшиеся с обеих сторон потоки света высвечивали скульптурное изображение Терезы. Святая возлежала на ложе из облаков, вперив экстатический взор в ангела, собравшегося пронзить ее копьем. И уже в следующее мгновение у донны Олимпии не оставалось сомнений, кто позировал Бернини.
– Ах ты, дрянь! – прошептала она, опускаясь на колени. – Ах ты, двуличная стерва…
Рука ее невольно стиснула четки. И проблемы с Камильо, и необходимость примирения с Барберини, и присутствие большого количества людей – все было вмиг позабыто. Она продолжала неотрывно смотреть на алтарь. Какая же отвратительная самодельщина! Триумф порока! Увековеченное в камне мгновение омерзительной похоти под личиной божественного мистического откровения… Обезумевшая от испепелявшей страсти, готовая отдаться ниспосланному небом жениху, этому глумливо ухмылявшемуся купидону, похабная груда плоти молила уестествить ее копьем… К чему этот ворох одеяний? Он никак не скрадывает бесстыжую наготу, скорее подчеркивает ее. А вожделенно полуоткрытый рот? Кажется, из него вот-вот исторгнется сладострастный стон.
– «Стрела пронзила сердце мое… – бормотала про себя донна Олимпия слова святой. Она знала их наизусть, без устали повторяя их снова и снова, стоило ей впервые прочесть эти строки. – Неисчерпаема была сладость боли той, и любовь захватила меня без остатка…»
Допна Олимпия не могла оторваться от созерцания порчи, подобно утопающему, который с мольбой и ужасом взирает на недосягаемый берег. Откинутая в порыве страсти голова, лицо, на котором отпечаталось блаженное упоение… Жгучая, неистребимая ревность волной поднималась в ней. Разве мог скульптор, пусть даже мастер масштаба Бернини, нафантазировать подобное? Эта страсть, это невыразимое блаженство – Кларисса не могла не изведать их в объятиях кавальере! А ей, донне Олимпии, самой могущественной из всех женщин Рима, приходилось проводить ночи подле урода, брюзгливого старца, услаждая его распадающуюся плоть. Клокотавшая в ней ярость вызвала головокружение.
Пытаясь овладеть собой, она притиснула четки к груди. Мысль Олимпии лихорадочно работала, не давая ей опомниться, она даже не ощущала боли от креста, впившегося в ладонь острыми краями. Что предпринять? Как поступить? Ответ был только один: вышвырнуть потаскуху из дому! Плеткой отхлестать, как приблудившуюся сучку! Но разве это что-нибудь решало? Что происходит с выгнанной из дому сучкой? Она тут же находит себе очередного кобеля для спаривания. Донна Олимпия сжала в ладони крест, будто силясь раздавить его. Нет, если желаешь проучить отщепенку как подобает, надлежит держать ее при себе. В стенах своего дома. Только тогда обретешь власть над ней, только тогда ей не уйти от расплаты.
Внезапно донна Олимпия ощутила боль от укола. Оторвав взор от алтаря, она взглянула на ладонь. Из раны сочилась темная кровь, каплями падала на мраморный пол, где в черном круге застыло изображение черепа, зазывно скалившегося ей, будто из преисподней.
6
Лишь груды мусора па улицах напоминали о недавнем карнавале, на три дня и три ночи устранившем все границы приличий с тем, чтобы позволить людям раскрепостить чувства и выпустить наружу агрессию и похоть, накопившиеся в душах за целый год. А в среду первой недели Великого поста в городе и в сердцах его жителей снова поселился покой – сорок дней отводилось на покаяние и самоуглубление. И пасторы, смазав персты освященным пеплом пальмовых ветвей ушедшего года, осеняли ими прихожан, дабы вновь напомнить им, что они ничто, пыль на ветру и в пыль обратятся.
Ранним утром побывала на мессе и Кларисса, однако прикосновение ко лбу покрытых освященным пеплом перстов так и не избавило княгиню от непокоя и тревоги, охвативших ее минувшим днем. На коленях сиротливо лежали позабытые пяльцы – Кларисса не могла сосредоточиться на вышивании. еe не переставал донимать один и тот же вопрос, ставший злым духом мучения: что же представляет собой скульптура Бернини, которую кавальере решил выставить на обозрение римлян? Ведь речь шла о святой Терезе. Неужели Лоренцо, позабыв о приличиях, воспользовался ее внешностью ради привлечения внимания к своей персоне? После всего, что было между ними?
Почему бы просто и без обиняков не спросить о скульптуре Олимпию? Что-то удерживало Клариссу от этого, к тому же она со вчерашнего утра еще не видела кузину. И хотя никто не мог поставить ей в вину то, что она служила моделью для изображения святой, при мысли о том, что и Олимпия, и другие узнали ее в святой Терезе, Клариссе становилось не по себе. Чтобы хоть как-то отвлечься, княгиня попыталась сосредоточиться на вышивке. Может быть, причиной всех тяжких дум пустой желудок? После переедания последних дней поститься всегда не привычно.
– Княгиня, к вам гость.
Кларисса недоуменно взглянула на лакея. Гость? Кто бы это мог быть? Неужели?.. Неужели ее друг все же почувствовал, что ей сейчас нужно с кем-то поговорить?
– Пожалуйста, просите! – обрадовалась Кларисса и поднялась со стула.
К ее великому удивлению, в гостиную вошел не Борромини, а Бернини. Сопровождавший его лакей нес в руках огромных размеров цветочный горшок. Кларисса, еще не совсем придя в себя, невольно отступила на шаг – это ведь была их первая встреча с той незабываемой ночи.
– Кавальере, – пролепетала она, – я… я не думала, что это вы… Кавальере, склонив голову набок, с маской меланхолии и боли на лице, в растерянности разведя руки, шел прямо к ней.
– Мне следовало уже давно нанести вам визит, – проговорил он, – но я все не решался и не знал, что сказать. Вот, примите в подарок.
Жестом Лоренцо указал пришедшему вместе с ним лакею поставить горшок.
– Это датура, или бругмансия, – пояснил он, заметив ее недоуменный взгляд на торчавшие из грунта голые шершавые стебли. – Сие растение зацветает всего лишь на одну ночь. Это символ совершенной красоты и одновременно скоротечности и безвозвратности нашего счастья.
– Какая же ты умница, Кларисса, что решила занять моего гостя!
Вперив в княгиню пристальный взор, в дверях стояла донна Олимпия.
– Твоего гостя? – изумилась Кларисса.
– Да, это я пригласила кавальере, нам необходимо обсудить с ним нечто важное.
Кларисса вопросительно посмотрела на Лоренцо. По тому, как старательно Бернини избегал ее взгляда, она поняла все. Следовательно, синьор Лоренцо Бернини изволили нынче пожаловать не к ней, во всяком случае, не только к ней…
– В таком случае мне не хотелось бы мешать…
– Нет-нет, дитя мое! – стала уверять ее кузина и взяла за руку. – Что подумает кавальере, если ты уйдешь? Еще ненароком оскорбится. Не так ли, синьор Бернини?
– Донна Олимпия! – замахал руками Лоренцо. – Да вы и впрямь читаете мои мысли!
– Вот видишь, – с преувеличенной укоризной проговорила донна Олимпия. – Останешься с нами!
Убедившись, что ее слова возымели действие, она наконец отпустила руку Клариссы. Донна Олимпия подвела гостя к стоящему в центре гостиной столику, за который они и уселись.
Кларисса не торопилась присоединяться к ним. Происходящее смутило ее, и мысли княгини неслись наперегонки. Повинуясь скорее инстинкту, чем рассудку, она вернулась к камину и вновь уселась за прерванное вышивание. Что должно означать это странное подношение? И эта фраза – «…зацветает всего лишь на одну ночь». Руки у нее тряслись так, что нечего было и пытаться брать в руки иглу.
Притворяясь, будто целиком поглощена выбором узора для вышивки, Кларисса услышала, как ее кузина сказала:
– Вчера я побывала в Санта-Мария-делла-Витториа. Специально заходила взглянуть на вашу Терезу. Пусть даже кое-кто из кардиналов выражает недовольство, это, вне сомнения, великое произведение, кавальере! Вы уже не раз удивляли публику своими идеями, по сейчас, не побоюсь сказать, превзошли самого себя. Моему восхищению и изумлению нет границ.
– Похвалы заслуживаю не я, – скромно ответил Бернини. – Я читал труды святой Терезы, и это существенно по облегчило мне работу. Из них я черпал вдохновение. Полагаю, вам знаком «Путь к совершенству»?
– Не могу с уверенностью сказать – возможно, мне и попадалась эта книга. И все же меня поражает ваша неисчерпаемая фантазия. Откуда вы только берете все новые и новые идеи?
Не успел Бернини ответить, как донна Олимпия обратилась к Клариссе:
– Жаль, что ты не поехала со мной. Ты даже не понимаешь, что пропустила. Но что с тобой? Ты побелела как мел! Снова уколола палец?
– Нет-нет, ничего.
Кларисса склонилась над вышивкой, чтобы скрыть смущение. Если еще минуту назад она сомневалась, то теперь все сомнения отпали: Бернини действительно использовал ее как натурщицу, чтобы напомнить публике о себе. По мере продолжения беседы страх Клариссы усиливался: сейчас Олимпия даст понять, что ей все известно. И будто в подтверждение кузина спросила Бернини:
– Могу я полюбопытствовать, кавальере, кто служил вам моделью?
Кларисса невольно подняла голову. Донна Олимпия в упор глядела на нее: строго, испытующе, без тени приязни.
– Нужно быть очень смелой женщиной, чтобы отважиться на такое.
– Мне… мне казалось, вы знаете, – смущенно ответил Бернини, бросив умоляющий взгляд на Клариссу.
Когда взгляды их встретились, она, почувствовав, что краснеет, опустила голову.
– Мне очень жаль, донна Олимпия, – ответил он. – Однако мой долг художника велит мне хранить молчание.
– Да-да, конечно, – сделанным пониманием ответила Олимпия, – это я так, из чистого любопытства. Вы совершенно правы, подобные вопросы лишь отвлекают от главного. Главное ведь не то, кто вам позировал, она не в счет, главное – само произведение, а оно – ваш бесспорный успех! Но мне хотелось бы переговорить с вами сейчас совершенно о другом.
– С удовольствием готов вас выслушать, – заявил Бернини, с явным облегчением восприняв перемену темы разговора.
– В этом-то я как раз и не уверена, кавальере, – рассмеялась Олимпия. – Тема не из приятных. Как я понимаю, вы на грани банкротства? До меня даже доходят слухи, что вас намерены изгнать из вашего палаццо. Это правда?
– Всего лишь домыслы, распространяемые синьором Борромини. Он утверждает, что мой дом якобы препятствует расширению Пропаганда Фиде, и всеми средствами пытается добиться сноса. Но я не думаю, что есть серьезные основания для беспокойства.
– Разумеется, их нет и быть не может, если вспомнить о куда более серьезных вещах, о которых вам нынче приходится задумываться. Нет, – повторила Олимпия, покачав головой, – прискорбная история с колокольнями явно пошла вам во вред. Небось, все заказчики, как один, позабыли дорогу к вам? Не могу и не желаю поверить в такое. Во времена Урбана вы ведь были не кто-нибудь, а первый художник Рима.
– Как вам, наверное, известно, папа Иннокентий не проявляет ко мне подобной благосклонности. Однако я не собираюсь по этому поводу корить судьбу. Придет время, и истина восторжествует.
– Да, время, время… Но разве можно уповать только на него? Иногда, знаете, время не очень торопится раскрыть нам истину. Не забывайте – мир несправедлив, он склонен замечать лишь внешний лоск.
– Потому я и намерен продолжать работать.
– Отлично, кавальере. Ах, если бы я только знала, кто смог бы вам помочь!
И с искренним сочувствием она посмотрела Бернини прямо в глаза.
Тот выдержал достаточную паузу, затем осторожно, будто на ощупь, чтобы невзначай не сморозить лишнего, спросил:
– Не хочу показаться вам слишком назойливым и даже дерзким, но все же могу ли я просить вас, донна Олимпия, ходатайствовать обо мне перед его святейшеством папой Иннокентием?
– Меня, кавальере? – На сей раз Олимпия с прежней убедительностью разыгрывала изумление. – Я? Кем вы меня считаете? Боюсь, вы преувеличиваете мои способности – я всего лишь слабая и незаметная женщина.
– То же самое говорила о себе Агриппина, и все же Нерону без нее ни за что бы не стать императором.
– Да-да, – согласилась донна Олимпия. Было видно, что она польщена. – У меня на самом деле сердце кровью обливается, когда я вижу, как художник, создавший такие произведения, страдает из-за, вероятно, поспешного решения. Стыд и срам для всего города.
Выразив таким образом соболезнование Бернини, донна Олимпия умолкла и, напустив на себя сосредоточенный вид, принялась лихорадочно размышлять.
– Ничего не стану вам обещать, но попытаюсь, – проговорила она после паузы. – Выберу удобное время, когда его святейшество будет готов прислушаться ко мне, и…
Она не договорила фразу. Кларисса боковым зрением заметила, как Бернини силится ответить улыбкой на улыбку донны Олимпии, и даже сумела разглядеть неподдельную мольбу в его темных глазах. Что же он должен был испытывать в эту минуту?
– Хотя, – продолжила Олимпия, – чтобы вступиться за вас, я должна быть уверена, на что могу рассчитывать, кавальере. Как мне знать, достойны ли вы моей помощи?
Кларисса видела, что Лоренцо отчаянно пытается преодолеть себя, время от времени бросая на нее полные мольбы взоры, будто она сейчас могла ему чем-то помочь.
– Всего один жест, кавальере, – вкрадчиво требовала донна Олимпия, – одно доказательство вашей надежности. Бывают моменты, когда жизнь требует от нас решимости. Помните слова Откровения? «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».[8]8
Откровения святого Иоанна Богослова 3;15,16
[Закрыть] Между прочим, – непринужденным тоном продолжала она, – что за диковинное растение вы принесли с собой? Если не ошибаюсь, датура? Это ваш подарок мне?
Внезапно Кларисса поняла, какой подарок имеется в виду. Красноречивый подарок. И проявление необычайной чуткости… В этот миг лицо Бернини точно окаменело. Судя по всему, он принял решение, и когда Кларисса отвернулась, чтобы невзначай не встретиться с ним взглядом, извлек из кармана своего парчового одеяния продолговатый предмет. Клариссе в это мгновение показалось, что стены вот-вот раздавят ее, – ну какая же тесная эта гостиная, разве ей вместить всех их троих? Отложив пяльцы, она поднялась.
– Донна Олимпия, – слова Бернини доносились до Клариссы словно издалека, – к сожалению, я не обладаю ничем из того, что оказалось бы достойным женщины вашей красоты и вашего ума. Но сочту за счастье, если вы соблаговолите принять от вашего покорного слуги сей скромный дар.
Воссиявшая Олимпия приняла из рук Бернини шкатулку и тут же приподняла крышку.
– Кавальере! – ахнула она, мгновенно оценив содержимое. – Как-кой сюрприз! – От волнения ее голос срывался. – Это же просто чудо! Я в восторге! Чем я заслужила такую честь? Ты только посмотри! – Заикаясь от охватившей ее радости, Олимпия повернулась к Клариссе. – Нет, ты только взгляни, что преподнес мне синьор Бернини!
И выставила на обозрение Клариссы раскрытую шкатулку, где на бархате покоился сверкающий смарагд размером с грецкий орех.
– Не тот ли, который ты от имени английского короля вручила кавальере много лет назад?
– Я… я не помню. – Кларисса с огромным трудом подавляла желание опрометью броситься вон из гостиной. Кинув на Бернини полный недоверия взгляд, она отметила, что он тщится встать к ней спиной. – Возможно, не припомню…
– Ах да, понимаю тебя. Ты ведь всегда была далека от этого, камни и золото наводили на тебя скуку.
– У меня разболелась голова, – объявила Кларисса. Княгиня внезапно почувствовала жуткую усталость, как после многих часов, проведенных в сильном напряжении. – Если позволишь, пойду, пожалуй, к себе.
– Бедняжка! – ответила кузина и провела ладонью по волосам Клариссы. – Тогда не смеем тебя задерживать. Иди к себе и отдохни! И ни о чем не беспокойся! Это все карнавал. Столько сил отнимают увеселения.
Бернини хоть теперь и повернулся к княгине, по-прежнему старательно избегал встретиться с ней взглядом. Без единого слова они обменялись кивками.
Помедлив несколько мгновении, Кларисса произнесла:
– Вы уж заберите этот цветок с собой, синьор Бернини. Мне… мне как-то недосуг им заниматься.
Подходя к двери, Кларисса услышала голос Олимпии:
– Пожалуй, у меня есть кое-какие соображения, как убедить его святейшество насчет вас, кавальере. Вы не задумывались над созданием, скажем, модели фонтана на пьяцца Навона? Я, например, представляю себе его так: обелиск в центре, вокруг него четыре страны света в аллегорическом исполнении… За обедом мы еще побеседуем об этом. Надеюсь, вы не так уж строго блюдете пост…
Начиная с этого дня в палаццо Памфили стали регулярно прибывать корзины с фруктами. Адресовались они не Клариссе Маккинни, а исключительно донне Олимпии, хозяйке дома.








