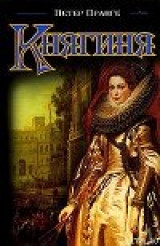
Текст книги "Княгиня"
Автор книги: Петер Пранге
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
6
– Что это значит?
Кларисса сходила по лестнице, когда ее вывел из раздумий голос донны Олимпии. Княгиня проводила вечерние часы в своей небольшой обсерватории, устроенной в мансарде палаццо Памфили, где стояла приобретенная ею по пути в Рим подзорная труба. Созерцание звездного неба помогало Клариссе обрести душевное равновесие. Свод небесный являл собой воплощение божественного порядка и вечных законов, управлявших им, и не было поступка благочиннее, чем приобщиться к этому порядку.
– Это передали для тебя от имени кавальере Бернини, – сообщила Олимпия, указав на огромную корзину с фруктами, на которую с высокомерно-глуповатым выражением лица, явно унаследованным от отца, уставился сын Олимпии Камильо, полноватый молодой человек. – Ты можешь мне объяснить почему?
– Я… я понятия не имею, – замялась Кларисса. Олимпия испытующе взглянула на нее.
– Значит, у тебя была встреча с кавальере? – спросила она, теребя неизменные четки.
Камильо в это время выудил из корзины персик и впился в него зубами так, будто не ел уже дня два.
– Я слушаю тебя, – повторила донна Олимпия. Олимпия напустила на себя такой удручающе строгий вид, что Клариссе помимо воли захотелось ответить отрицательно. Собственно, а какое право она имела подвергать ее допросам?
Кларисса – зрелая замужняя женщина, тридцати семи пет от роду, вполне самостоятельная, в отличие от той девчонки, которая приехала в Рим впервые много лет назад и которой нужно было вымаливать позволения, чтобы покинуть стены палаццо.
– Я решила расспросить кавальере о колокольнях собора Святого Петра. Ты ведь знаешь, что архитектура всегда интересовала меня.
Глаза Олимпии гневно сверкнули.
– Порядочной женщине, если она одна, не пристало вступать в разговоры с посторонними мужчинами. Может, в Англии это и позволительно, но не здесь!
– Разве кавальере посторонний? – удивилась Кларисса. – Помню, мне представил его сам британский посланник в Риме во дворце английских королей, к тому же в твоем присутствии.
– Не имеет значения! Я не желаю, чтобы ты общалась с этим человеком!
– Но почему? – недоумевала Кларисса. – Мне казалось, ты всегда ценила кавальере Бернини. Всегда говорила о нем с таким уважением.
– Он оскорбил семью Памфили, отказавшись возвести мавзолей для моего покойного супруга, хотя я лично просила его об этом. Будто запродал душу Урбану и этим Барберини.
На тонком лице Олимпии застыла гримаса негодования. И вдруг Кларисса поняла, отчего кузина так болезненно отреагировала на инцидент с Бернини. И полугода не успело миновать с тех пор, как скончался муж донны Олимпии. Боль от потери еще не унялась.
– Мне очень жаль, что так вышло. Мне не хотелось огорчать тебя, – пристыженно ответила Кларисса.
– Да свершится воля Божья! – ответила Олимпия, крестясь.
Она положила руку на плечо сыну, который с мокрым от сока ртом недоверчиво созерцал надкушенный персик, будто фрукт был отравлен.
– Моя задача в том, чтобы оберегать честь дома Памфили. Что же касается твоего пребывания здесь, – добавила Олимпия, – то цель у него одна – молиться за мужа с тем, чтобы тебя не постигла моя участь.
Олимпия подтвердила сказанное столь энергичным кивком, что вновь, как и прежде, заплясали ее некогда черные, а теперь подернувшиеся серебром локоны. Кларисса виновато опустила голову. Она понимала, что ее возвращение сюда было неразумным шагом, в особенности после стольких лет, потраченных на то, чтобы навеки позабыть и сам Рим, и все, что здесь с ней происходило. Кларисса противилась этой поездке. Инициатива исходила от ее супруга, лорда Маккинни. Заболев малоизвестной болезнью, желчной горячкой, он пожелал, чтобы она помолилась за него в Риме, и с упорством, достойным лучшего применения, настаивал на поездке.
С какой радостью Кларисса очутилась бы сейчас в Мунроке, их родовом замке, затерявшемся среди болот Шотландии, куда супруги перебрались сразу после свадьбы, – королева из соображений политического порядка не пожелала иметь среди своих придворных дам в Лондоне шотландку. Поначалу ее терзало одиночество, даже бок о бок с Маккинни было трудно с ним справиться, однако Кларисса со временем привыкла к обществу супруга, к которому впоследствии прониклась искренним уважением, еще позже оно переросло в любовь. Маккинни был неизменно учтив, доброжелателен; днем они объезжали угодья, на многие мили раскинувшиеся вокруг Мунрока, следили за ходом полевых работ, вечера коротали у камина за чтением вслух или же отправлялись в свою обсерваторию, оснащенную новейшими телескопами, привезенными Маккинни в Шотландию из Италии, где он побывал еще холостяком и где познакомился с самим Галилео Галилеем, посвятившим его в тайны астрономии.
Когда у Клариссы случился выкидыш – в наказание за нежелание вступать в брак, как она полагала, – лорд Маккинни утешал ее, пытаясь умерить горе, вызванное не только потерей ребенка, но и перспективой не иметь детей вообще. Ради жены он готов был забыть даже о закадычных друзьях: пресвитерианском пасторе из ближайшей деревни, своем управляющем и жившем по соседству баронете, с которыми встречался каждую неделю. Они вечно о чем-то спорили, что-то обсуждали, бубня на своем чудном диалекте, звучавшем для Клариссы тарабарщиной. Маккинни был человеком в высшей степени уравновешенным и никогда не выходил из себя, хотя споры порой разгорались нешуточные. Центральной темой их, как догадывалась Кларисса, была политика: борьба короля с парламентом, яблоком раздора которой стал молитвенник, навязанный королем всем своим подданным. Отправляя жену в паломничество одну, Маккинни решился на необъяснимый, с точки зрения Клариссы, шаг. Княгине даже подумалось, что молитва в его здравие явилась неким предлогом – но предлогом для чего?
Голос Камильо вернул ее к действительности.
– Если кавальере – наш враг, то не выбросить ли нам эти персики? – спросил юноша, взглянув на мать черными, напоминавшими пуговицы глазами.
Олимпия, на мгновение опешив, тут же расцвела.
– Какой же ты умница! – похвалила она сына, ласково погладив его по черным кудрям, таким же черным, как и у его матери в молодые годы. – Да, отнеси-ка эту корзинку на кухню и вели скормить ее свиньям.
Камильо схватил корзину и с раскрасневшимся от гордости лицом отправился выполнять поручение матери. Олимпия вновь повернулась к Клариссе.
– А ты, – наставительно произнесла она, – молись, дитя мое, молись! Если уж твоему мужу это не поможет, то тебе непременно.
7
На следующий день ранним утром Кларисса покинула палаццо Памфили с решительным намерением молиться! За воротами дворца она тут же накинула на лицо вуаль и направилась в церковь Сант-Андреа-делла-Валле, принадлежащую ордену теа-тинцев, неподалеку от пьяцца Навона. Еще в свой первый приезд Кларисса ходила к заутрене в эту славившуюся своим великолепным куполом церковь. Но по пути княгиня внезапно изменила решение. Посреди площади она повернулась и наняла стоявший возле палаццо Памфили экипаж, собираясь последовать в противоположном направлении, на другой берег Тибра.
У собора Святого Петра она велела кучеру остановиться. Башни колоколен притягивали ее взор будто магнит. Как мечтала княгиня когда-нибудь собственными глазами увидеть их, и какое возмущение вызывали они в ней сейчас! И все же она не могла оторвать взора от строения. Выйдя из экипажа, Кларисса направилась к базилике. Звонница, казалось, не имела стен, лишь ряды колонн и опоры, устремлявшиеся ввысь луковицей капители. Впечатление от звонницы было куда сильнее, чем на эскизе, виденном много лет назад. Невзирая на колоссальные размеры храма, все чудесно друг с другом гармонировало.
Вдруг кто-то обратился к ней, Кларисса вновь услышала ласковый и вместе с тем мужественный голос, голос из другого мира, который ей не забыть:
– Я знал, что это вы, княгиня.
Кларисса резко повернулась, настолько резко, что сбилась закрывавшая лицо вуаль. Перед ней стоял мужчина, с ног до головы одетый в черное.
– Синьор Кастелли? – вырвалось у нее. – Боже мой, вы в Риме?
– Где же еще мне быть? Я не уезжал из этого города.
– Если бы вы только знали, как я из-за вас переволновалась! Я просто глазам своим не верю.
Княгиня поправила съехавшую вуаль и старалась говорить как можно спокойнее.
– Я уже опасалась, не случилось ли с вами чего, да и вообще, живы ли вы. Господи, да что я тут говорю, вы, наверное, думаете, что я не в себе. Мне ведь сказали, что никакого Кастелли в Риме уже нет.
– Жив ли я? – На лице Франческо появилась улыбка смущения. – Жив, вот только решил сменить фамилию. Теперь я – Борромини.
– А отчего вы решились на это?
– Уж слишком много Кастелли появилось в этом городе, – пожал он плечами. – К тому же еще отец мой когда-то носил имя Борромини.
Время будто повернуло вспять. Не спрашивая о прожитых годах, перед ней стоял он, Франческо, и все это казалось княгине само собой разумеющимся, будто Кастелли был такой же неотъемлемой частью ее жизни, как и воспоминания о нем. И хотя сейчас он носил другую фамилию, хотя время оставило на его лице свой неизгладимый отпечаток, он был все тот же, что и прежде: гордый, ранимый, надменный и робкий.
Кларисса подала ему руку. С серьезным лицом Франческо пожал ее.
– Ваше сердце подсказало вам приехать сюда, верно? – проговорил он после продолжительной паузы.
В смятении Кларисса взглянула на него.
– Не ваше творение? – кивнула княгиня на башню.
Лицо Франческо помрачнело.
– Эта? Не хочу даже смотреть туда.
– Почему? – Франческо продолжал удерживать ее руку в своей, она ощущала это крепкое и вместе с тем нежное пожатие. Кларисса в ответ тоже сжала его ладонь. – У вас сердце кровью обливается при виде ее, так?
– Мое сердце? – Он презрительно рассмеялся и выпустил ее руку. – Вы хотите, чтобы у меня сердце кровью обливалось при виде такой халтуры?
– Если вам не люба ваша башня, – ответила Кларисса, не понимая, откуда взялись смелость и уверенность, – так сделайте ее такой, чтобы она нравилась вам! Отчего вы тогда пришли сюда?
– Я здесь случайно. Просто этой дорогой я хожу к себе на стройку.
– Никакая это не случайность, – возразила она. – Вы тогда показывали мне проект, синьор Борромини. Думаете, я забыла? Прекрасно помню ваши глаза. Какой в них был восторг!
Франческо закашлялся, лицо его перекосилось. Но раскрывать душу он не спешил. Кларисса знала, сколько прекрасного, чистого, возвышенного скрывается за маской закрытости и нелюдимости. Как все это вытащить на свет Божий?
– Приведите ее в соответствие со своими первоначальными замыслами! – решительно повторила Кларисса, снова взяв его за руку. – Прошу вас, синьор Борромини, обещайте мне это!
8
Что же делать? Как поступить? Назойливой мухой в ушах Лоренцо звучал этот досадный и соблазнительный вопрос, когда он стоял в литейной, наблюдая за ходом работ. С самого обеда в печи выплавлялся из руды металл для отливки пчел фамильного герба Барберини для декорирования папского склепа, и его нынешнее волнение, хоть и походило на то, что Бернини испытывал, отливая первые колонны главного алтаря собора Святого Петра, на сей раз диктовалось совершенно иными причинами. Неожиданная встреча с княгиней вывела его из равновесия. С одной стороны, что-то подталкивало Лоренцо броситься на ее поиски, с другой… Его теперешняя жизнь была отлаженной и вполне благополучной. Он спокойно работал, ваял, строил, периодически изменял дражайшей супруге. К чему ставить на карту такую беззаботную жизнь? Стоит ли идти на поводу у чувств, которые уже завтра могут измениться?
За то, что его жизнь сейчас протекала в благоприятном русле, Бернини в свое время пришлось заплатить. И довольно дорогую цену. После той злополучной дуэли с братом папа рассердился на него куда сильнее, чем виделось всем вокруг. На людях Лоренцо продолжал пребывать в статусе баловня Урбана, на самом же деле папа наложил на Бернини штраф в три тысячи скудо и вдобавок на месяц лишил его аудиенций. В те дни Лоренцо был словно парализован внутренне, ничего подобного до сих пор ему переживать не случалось; он не мог ни работать, ни отдыхать. И лишь своей матери он обязан снизошедшей на него милостью Урбана. Она обратилась за помощью к брату папы, кардиналу Франческо Барберини, с просьбой воздействовать на Урбана, чтобы тот смягчил наказание ее сыну. Урбан выдвинул условие – Лоренцо должен взять в жены Катерину Терцио, красавицу и девушку благочестивую, дочь прокуратора при папском дворе. Братца Луиджи на время спровадили с глаз долой, в Болонью, где он руководил стройкой церкви Сан-Паоло Маджоре.
– Чего ждешь, Лоренцо? Что с тобой сегодня? Ты какой-то не такой!
Стоявший у лётки Луиджи нетерпеливо дожидался знака. Лоренцо рассеянным взмахом руки велел начать выпуск металла, но не успела раскаленная лава устремиться из лётки, как прежние раздумья опять унесли его прочь. Перед глазами вновь возникла Кларисса, сцена их последней встречи с упрямым постоянством повторялась в воображении: вот она, услышав его вопрос, опускает глаза, молчит… Может, княгиня связана обетом?
А он сам? Что с ним? Просто минутный порыв влюбленности – или же настоящая любовь? В жизни Лоренцо всегда было так: если ему вдруг нравилась какая-то женщина, стоило лишь протянуть руку, как он получал желаемое, но была ли в его жизни любовь, настоящая любовь, испепеляющая сердце? Нет, ничего подобного ему не выпадало. Не являлась исключением и Констанца. Там речь шла лишь о вызове его мужскому самолюбию, Констанца не лишала его ни сна, ни аппетита. Тем в большее смятение приводили Лоренцо чувства, обуявшие его с момента встречи с Клариссой. Потребность видеть эту женщину, обладать ею – эмоции, нахлынувшие на Бернини в момент их встречи после долгой разлуки, были чем-то мимолетным, но ему казалось, что под их покровом дремлет какое-то иное, более глубокое чувство, лишь пробуждавшееся в нем сейчас. И стоило Лоренцо вспомнить княгиню, начать думать о ней, как его охватывали непокой, странное, лихорадочное возбуждение, схожее с тем, что одолевает нас с началом тяжелой болезни, – по ночам он долго лежал без сна, а за столом забывал о еде. Была ли это любовь?
Вечером, собираясь отправиться на розыски Клариссы, Лоренцо в своем роскошном одеянии обливался потом ничуть не меньше, чем днем в литейной мастерской. В римских переулках сгущался неподвижный воздух; хотя солнце давно зашло и на небе прочерчивался блеклый серпик туны, удушливая жара не отступала. Своей жене Катерине Лоренцо заявил, что отправляется на ужин в папский дворец – им, дескать, необходимо обговорить с Урбаном кое-какие детали относительно сооружения склепа. Но вместо того чтобы верхом отправиться на Квирннал, Бернини пешком последовал на пьяцца Навона. Смех его детей до сих пор стоял у него в ушах, и, чтобы до встречи с Клариссой отделаться от этих вызывавших укоры совести напоминаний о безоблачной семейной жизни, Лоренцо решил пойти длинным путем – через Санта-Мария-сопра-Минерва. Представляя себе изумрудные глаза княгини, ее неповторимую улыбку, Бернини размышлял, как начнет разговор. Ведь все решает первая фраза – в любви, как и в искусстве, многое зависит от внезапного озарения.
Лоренцо уже переходил пьяцца Колледжо Романо, как вдруг раздумья его были прерваны возмущенными криками. И тут же в неверном свете ущербной луны Лоренцо заметил группу охваченных злобой мужчин с палками в руках, устремлявшихся из боковой улочки прямиком к статуе папы Урбана – творению самого Лоренцо. Это был даже не совсем памятник, а просто глиняная копия изображения Урбана для склепа, выставленная перед зданием Коллегии. Без долгих раздумий Лоренцо выхватил шпагу и направился прямо к разъяренной своре.
– Ба! Кого вы видим? Кавальере Бернини собственной персоной! Ну что же вы? Живо тащите сюда свое долото – вас ждут новые заказы! Новые бюсты!
Этого горлопана Лоренцо узнал не сразу. Вокруг него, будто волки вокруг вожака, сгрудились остальные. То был монсеньор Чезарини, секретарь конгрегации по делам архитектуры, запомнившийся ему своими нагловатыми манерами.
– Что означает ваша вылазка, монсеньор?
– Вообще-то сейчас ему уместнее заняться не бюстами, а спасителем в приделе Святого Петра, – продолжал издевки Чезарини. – Рядышком со своим разбойником Урбаном, как и подобает! Давайте, ребята, – скомандовал он своим приятелям, – кончайте с ним!
И не успел Лоренцо сообразить, что к чему, Чезарини поднял железный прут. Бернини инстинктивно пригнулся, однако удар предназначался не ему, а скульптурному изображению папы. С обнаженной шпагой Лоренцо бросился между Чезарини и статуей, будто на карту была поставлена жизнь самого понтифика. Не обращая внимания на остальных бандитов, тоже занесших дубины, Лоренцо с криком бросился на вожака, обеими руками ухватил его оружие, и, прежде чем Чезарини успел опомниться, выбитый у него из рук железный прут со звоном покатился по брусчатке мостовой. Чезарини нагнулся за ним, но в то же мгновение нога Бернини прижала его руку, а острие шпаги ткнулось в шею.
– Посмей только тронуть скульптуру, – прошипел он, – и ты, считай, покойник!
– Пощадите, кавальере! Помилуйте меня! Именем Господа заклинаю вас!
С расширившимися от ужаса глазами Чезарини смотрел на него. Лоренцо видел, как судорожно дергается его кадык. Не выпуская противника из виду, Бернини искоса огляделся. Убедившись, что остальные злоумышленники опускают оружие и начинают пятиться, он понял, что опасность миновала. Кавальере наградил Чезарини смачным плевком в физиономию.
– Убирайся отсюда! – рявкнул он и поддал ему пинка под зад.
Монсеньор шлепнулся на мостовую и, будто запуганный бездомный пес, на четвереньках пополз к своим дружкам.
Лоренцо, дождавшись, пока банда исчезнет в переулке, из которого вынырнула, убрал шпагу в ножны. Повернувшись и глядя на глиняное лицо папы, Лоренцо вновь услышал голос Чезарини, словно голос призрака, доносившийся из окутавшего площадь мрака:
– Ха-ха-ха! Давай, спасай свою статуэтку, кавальере Бернини! Пусть Урбан тащит ее с собой в преисподнюю. Час назад дьявол забрал его душу. Ха-ха-ха!
Не успело смолкнуть эхо выкрика Чезарини, как Бернини сообразил, что произошло. Папа Урбан скончался. Его покровитель, человек, вложивший ему в руки долото, проявлявший о нем заботу, покинул этот мир.
Холодные щупальца ужаса сковали грудь Бернини, а затем и все тело; рука, только что крепко удерживавшая шпагу, вдруг затряслась, когда он невольно протянул ее к статуе.
– Отец, – прошептал он, и горячие слезы потекли по его лицу, – зачем ты покинул меня?
Обняв холодный и шершавый торс папы, Бернини гладил его, будто пытаясь вдохнуть жизнь в бездушный и мертвый материал, как делал это своим искусством; он целовал лицо Урбана, его чело, щеки.
И тут произошло необычайное: сквозь пелену слез Лоренцо вдруг увидел, что черты лица святого отца изменились, глаза сузились, рот искривился в сардонической усмешке, и в одно мгновение скульптор заметил в хорошо знакомых ему чертах, не раз воплощаемых им в бронзе и камне, не всегдашнюю благосклонную суровость, а подлую, злобную, гнусную ухмылку. Бернини почудилось, что все заботы и хлопоты папы о нем были всего лишь сплошной чередой обмана, будто папа только теперь, в свой смертный час, показал ему свое истинное лицо, продолжая насмехаться над ним уже из потустороннего мира. Постепенно охвативший Лоренцо страх сменялся холодной бешеной яростью.
– Ты что же надумал? Бросить меня в беде! Подонок! Как мог ты так поступить?
Вне себя от гнева, он схватил брошенный Чезарини железный прут.
– Так ты надумал умереть? Вот тебе за это! – вопя, ударил он изо всех сил по статуе. – Подыхай! Подыхай! Подыхай!
Лоренцо продолжал сокрушать своим импровизированным оружием скульптуру до тех пор, пока статуя понтифика не превратилась в груду черепков, пока не сбил себе в кровь руки и, обессиленный, не опустился на землю подле своего сокрушенного детища. И зарыдал, содрогаясь всем телом, как ребенок.
9
В палаццо Памфили царило нервозное оживление. И четверти часа не проходило, чтобы не раздавался стук бронзового молотка на двери. С утра и до самого вечера слуги выкрикивали имена прибывавших сюда представителей высшей римской знати: кардиналов и епископов, прелатов и аббатов, банкиров и чужеземных посланников. Все жаждали засвидетельствовать свое почтение донне Олимпии, с необыкновенной учтивостью принимавшей визитеров. Кое-кто из них удостаивался бесед в гостиной донны Олимпии, затягивавшихся иногда не на один час, после которых визитеры выходили, погруженные в многозначительное безмолвие, либо возбужденно перешептываясь. Дело в том, что семидесятилетний кардинал Памфили считался одним из наиболее вероятных претендентов на папский сан, и хозяйка этого дома предпринимала все для обеспечения его избрания папой.
Папа Урбан скончался 29 июля 1644 года. Десять дней спустя был созван конклав для завершения интерима. Кларисса вошла в вестибюль палаццо как раз в тот момент, когда донна Олимпия провожала своего деверя на закрытое заседание конклава в Сикстинской капелле для избрания преемника Урбана.
– Ступайте с Богом! – напутствовала его Олимпия. – Да свершится воля Господа, и я смогу поздравить вас с папской тиарой. Я не хочу более видеть вас кардиналом.
– Если бы все зависело только от меня, – ответил Памфили, сжав ее руки в своих, – то я без колебаний назначил бы папой вас!
Было видно, что прощание с ней стоит Памфили усилий. Однако донна Олимпия сама открыла двери и сама препроводила его на улицу. Вернувшись в вестибюль, донна Олимпия, явно не ожидавшая увидеть Клариссу, смутилась, хотя тут же овладела собой.
– Помолимся за то, – сказала она, – чтобы решение конклава оказалось верным!
– Я так надеюсь, что будет избран кардинал Памфили. Тогда твоя семья станет первой в городе.
– Речь не идет о благах семьи Памфили, – назидательно произнесла в ответ Олимпия, – а о благе всего христианского мира.
– Но подумай о своем сыне! Какие перспективы откроются для Камильо, если на папский престол взойдет его дядя!
При напоминании о сыне глаза донны Олимпии на мгновение посветлели, на губах появилась нежная улыбка.
– Урбан согрешил перед Богом и миром, причинив великий вред. Нам лишь остается уповать на то, что его преемник проявит большее благочестие и больший разум. Но тебе, Кларисса, в эти дни лучше не покидать палаццо. Период заседания конклава – опасное время.
В тот же день Олимпия велела забаррикадировать главный вход во дворец досками – на случай нападения. Тогда же были срочно упакованы все ценные вещи, находившиеся в доме – золото, серебро, фарфор, гобелены и картины, – вынесены через черный ход, погружены на мулов и перевезены в монастырь, где ее деверь служил настоятелем. Ибо, кроме сброда, мародерствующего в переулках Рима в период вакаций, массу хлопот доставляли и пьяные наемники, сражавшиеся на стороне Таддео Барберини с герцогом Кастро. После пятилетней войны был заключен неустойчивый мир, условия которого не устраивали ни одну из враждовавших сторон, и теперь оставшиеся не у дел наемники промышляли по городу в поисках легкой добычи.
Клариссе, как и в те далекие времена первого визита в Рим, пришлось провести следующий месяц, сидя взаперти в палаццо Памфили. По несколько раз в день она молилась в часовне палаццо, призывая святую Агнессу исцелить ее больного супруга от недуга, а ночами разглядывала в подзорную трубу звездное небо. Часто при этом ей вспоминался синьор Борромини. Кларисса мучилась вопросом, предпринял ли он необходимые шаги для выполнения данного ей обещания. Но еще сильнее ее терзал вопрос об исходе заседания конклава. С одной стороны, она болела за свою кузину и ее родственника, которого, откровенно говоря, терпеть не могла, с другой – каждый новый день в заточении был непереносимее предыдущего.
– Римлянке, – вбивала ей в голову донна Олимпия, – на улицах города делать нечего. В особенности в такое время.
– Хоть я и не понимаю, к чему подобные меры, – ответила ей Кларисса, – все равно рада, что знаю об их существовании. Всегда лучше знать, что позволено, а что воспрещено.
– Чтобы потом нарушать запреты? – недоверчиво допытывалась ее кузина.
– Чтобы самой выбрать, как поступить, – ответила Кларисса.
– Выбрать самой? – наморщила лоб донна Олимпия. – Это лишь порождает у женщины греховные помыслы.
– А если ее запереть в монастыре, разве она будет свободна от греховных помыслов?
– Ты думаешь, что Бог слеп и не замечает, когда мы не считаем нужным опустить на лицо вуаль? – покачала головой Олимпия. – Нет, чтобы услужить Господу, каждой женщине надобно вести себя как монахиня.
Вздохнув, Кларисса решила покориться судьбе. Тем временем нервозность Олимпии с каждым днем возрастала – сплошные страхи и надежды. Сможет ли Памфили заполучить тиару?
Конклав, казалось, никогда не кончится. Что ни день, назначались новые кандидаты, чтобы тут же вновь исчезнуть, уступив место иным. На помощь призывали провидцев и астрологов, с ними в палаццо проникали и противоречивые слухи. Влияние Урбана не уменьшилось даже с его смертью. Из всех заседавших в Сикстинской капелле кардиналов сорок восемь принадлежали к числу его креатур. Никогда еще в конклаве не было столь многочисленной оппозиции. Тем не менее им не удалось сделать папой своего человека, кардинала Сакетти, – поданные за него голоса день ото дня уменьшались, что лило воду на мельницу Памфили. Однако за Памфили закрепилась слава испанофила, что настраивало против него кардиналов-французов. Таким образом, ему отчаянно понадобилась поддержка Барберини, а как ее добиться?
– Памфили – человек честный, – с ноткой недовольства заявила донна Олимпия, расхаживая взад и вперед по гостиной. – Его прямодушие всегда мешало ему.
– Но может ли кардинал прикинуться другим ради того, чтобы быть избранным? – полюбопытствовала Кларисса.
– Иногда и на то есть воля Божья. Папа Сикст, к примеру, был человеком весьма образованным, однако еще кардиналом ему приходилось изображать из себя невежду, и все ради своего избрания на престол.
В один из сентябрьских дней – Олимпия как раз удалилась для беседы с кем-то из родни Урбана – Клариссе наконец представилась возможность на несколько часов вырваться из заточения. Когда она вышла на улицу, у нее было такое ощущение, словно после суровой, долгой и пасмурной зимы она вдруг увидела на небе солнечный луч. Как прекрасно полной грудью вдохнуть свежий воздух, а не смрад плесени, пропитавшей стены палаццо!..
Олимпия заявила, что до самого вечера будет вести переговоры с прелатами ради достижения взаимопонимания с Барберини. Таким образом, в распоряжении Клариссы оставалось полдня. На что их потратить? Ни секунды не раздумывая, она решила пойти в собор Святого Петра. Кто знает, может, ей посчастливится встретить там синьора Борромини, да и для молитвы место вполне подходящее, ничуть не хуже любой другой церкви Рима.
Кларисса пересекла пьяцца Навона и свернула в переулок, ведущий к Тибру. Как же Олимпия всегда все преувеличивает! Ну и где же мародеры и пьяные наемники? Куда бы Кларисса ни бросила взор, везде видела ремесленников да торговцев, мирно занимавшихся своими делами. Лишь на маленькой площади в конце переулка, там, где несколько крестьян торговали овощами, у портняжной лавки собралась толпа. Но и в этом не было ничего особенного, там стояла статуя паскино – острого на язык уличного артиста. Этот потемневший от времени и непогоды мраморный торс знал каждый – фигура была усеяна приклеенными к ней записочками: в них римляне выражали свое отношение к происходящему в городе, которое в открытую выразить не решались. Оттуда доносились взрывы хохота.
Заинтересовавшись, княгиня подошла поближе. Какой-то коротышка-аптекарь с очками на носу вслух читал записочки.
– А тут кое-что имеется про донну Олимпию! – выкрикнул он и стал поправлять свои очки.
«Почему ее зовут Олимпия? Потому что она «olim» была "pia"».
Кларисса прислушалась. Неужели речь идет о кузине? Пока аптекарь и его аудитория корчились от смеха, она попыталась разобрать заключавшуюся в этой коротенькой фразе игру слов. «Olim» означало «прежде», a «pia» – «благочестивая». Даже скромных познаний княгини хватило, чтобы понять соль. Да, но что хотел этим сказать автор записки? Неужели… Рассерженная Кларисса подошла к мраморному изваянию и решительным жестом сорвала записку.
– Это непозволительная дерзость! Донна Олимпия – порядочная женщина!
– Порядочная женщина? – переспросил аптекарь. – Такая же порядочная, как Клеопатра!
И снова толпа взорвалась хохотом. Кларисса уже ничего не понимала.
– Хитрая бестия, и к тому же ханжа, каких свет не видывал! – высказал свое мнение портной, высунувшись из окна. – Сначала отравила своего муженька, а потом и к деверю в постельку лезет!
– Только во славу Христа, разумеется! – добавил чей-то голос.
– Чтобы Памфили знал не понаслышке, как в раю ангелочки распевают, если станет папой!
Кларисса лишилась дара речи. Больших скабрезностей ей в жизни не доводилось слышать. Олимпия отравила своего мужа? Да как смеют эти люди заявлять такое во всеуслышание! Завидев на противоположной стороне двоих мужчин – по виду стражников, – она уже хотела позвать их, чтобы положить конец разнузданной клевете, но прежде чем раскрыла рот, высоченный детина, судя по всему, кузнец, вытянув руку, показал куда-то вверх. Вдали к небу поднимался столб белого дыма.
– Вот, вот, вот, – забормотал какой-то калека-умалишенный.
Аптекарь, упав на колени, сложил руки в молитвенном жесте.
– Habemus Papam! Deo gratiam! Хвала Господу!
В одно мгновение на маленькой площади стало тихо, словно в церкви. Все, раскрыв рты, уставились на поднимавшийся вверх столб дыма, будто не веря тому, что видят.
Первым опомнился точильщик.
– Вперед, к палаццо Памфили! – призвал он.
Схватив нож побольше, он перебросил на спину свое нехитрое устройство и устремился вперед.
Призыв точильщика был воспринят как боевой клич. Домохозяйки бросали свои корзинки, крестьяне – овощи, которыми торговали, и все толпой устремились вслед за точильщиком.
– К палаццо Памфили! К палаццо Памфили!
Казалось, весь Рим зашелся этим тысячеголосым криком. Кто-то на бегу толкнул Клариссу, отшвырнув ее к каменной стене. Мужчины, женщины, дети устремлялись из своих домов, впятером, вчетвером, десятками, целыми семьями. Клариссу обуял страх, что ее собьют с ног, растопчут… Людскую массу, обезумевшую, неуправляемую толпу, эти перекошенные злобой лица несло к пьяцца Навона. Кларисса попыталась найти убежище в каком-то тупике; протекавшая мимо толпа разбухала, росла, как узенький ручеек во время наводнения превращается в полноводную реку, сметающую все на своем пути.








