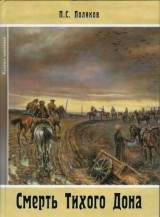
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц)
Стихли цари чудок, по рюмочке водочки хватили и поряшили об заклад побиться. Поставил Наполивон царь золоты часы, хреномер называются, с золотым цапком, прадед мой донскую шубу, а царь русский шапку Мономаха. Завспорили они и гинярал Кутузов, который тут же приключилси, руки им разымал. Ну, допили они чай и поехал Наполивон царь в Париж, а деда мово дед Явграф Естигнеевич на Дон, домой рванул. И прямо в Черкасский городок. К Платову-атаману. Обсказал яму, как всё в Питере было. Осярьчал Платов-атаман здорово. «И какой, – шумить, – чёрт надоумил тибе с энтим чудаком, с задиралой энтим, спорить? Ить он и в самом деле таперь воевать полезить. Ну, однако, чудак утихомирилси и приказал, штоб осмотрели казаки оружию свою, штоб сёдла в порядок привяли. К походу, возможное дело, готовиться придется.
Не прошло тому много времени, сидить это деда мово дед и на балябу в Мишкиной протоке сазанов ловить. Когда глядь – скачить по бугру казак, а на пике у яво тряпка красная трепется. Враз понял прадед мой, што война это зачалась. Прибег домой, подсядлал гнядова и на сборный пункт поскакал. Как она вся война проистякала, тут рассказывать я ня буду, чай, и сами знаитя. Тольки зашел, значить, Наполивон в Москву, засел в Кремле и сидить. А Платов-атаман выступил, было, с дедом мово деда в поход, да выступить-то выступили, а вот на хуторе Сямимаячном и зацепились. А почяму зацапились, да потому што свярнули они на том хуторе к жалмерке одной переночевать, а была она мастерица мед варить. Вот не хуже Натальи Ивановны, Ликсей Михайловича супруги. Пьють это они у той у жалмерки мед – неделя проходить, зачинають яво обратно пить – второй недели как не бывало. И вот подлятаить к жалмеркиному куреню кульер от самого от царя Ляксандры Павловича. Атаману Платову пакет, а деду мово деда письмецо. И вот што там написано было:
«Дорогие мои, атаман Платов, гинярал, и дружок мой Явграф Евстигнеевич!
Сапчаю я вам, што неустойкя у мине вышла. Во-взят побил Наполивон воинству россйискуя. А ежели вы пьянствовать не броситя, то и до вас доберется. Помагайтя, ради Христа. И с тем – до свидания.
Аляксандр самодержец»,
и прочее.
Ну тут, конешно же, Платов атаман и деда мово дед царю русскому враз ответ строчуть:
« Вашвяличества!
Дяржись, не боись. Зараз выступаем!
Платов-атаман и Кумсков Явграф,
ст. урядник и кавалер.»
Как пошли тут наши, как двинулись, как зачали они тех французов бить, как зачали их волтузить, ужасти и обсказать. И месяца тому не прошло – осталась от Наполивона войска одна звания. И свелел тут Платов-атаман прадеду мому на Вислую речку иттить, Наполивону путь-отступлению отрязать. Зашел это деда мово дед вот так вот, вроде от лясочку, зашел с полком своим к самой переправе, вышел на берег, глядь – скачить тройка, а в ей сам царь францусский Наполивон сидить. Выскочил тут прадед мой на ту дорожку с казаками, выскочил и правую руку поднял:
– Стой, – шумить, – вашвяличества, погоди чудок! А ишо скажи ты мине – чия войска сильней и кто кого подолел?
Вынул тут Наполивон, молчака, золотые часы-хреномер, с цапком золотым, вынул и деда мово деду отдаёть:
– На, говорить, Явграф Евстигнеевич, признаюсь – проспорил.
А у самого – слёзы.
И стало туту деду мово деда того Наполивона жалко:
– Чаво ты, – спрашиваить, – кричишь?
– А как же мне не плакать, – отвячаить яму Наполивон, – как не убиваться, ить посадють таперь мине на Святуя на Елену, на остров тот, на отсидку, а жане моей с дятишками и исть нечего будить.
Доброго сердца деда мово дед был, возвярнул он Наполевону те часы-хреномер с золотым цапком вместе.
– Бяри, – говорить, – яжжай домой, в плен тибе не возьму. Да пока тибе англичани не посадили, отдай те часы жане. Нехай продасть, да в нуждишке за те деньги дятишкам своим чаво купить. – Да ишо из тороков фунта на чатыре кусок сала вынул – Наполивону отдал: – Во, – сказал, – бяри и ета, пожуй в дороге сальца донского. А то все твои союзники таперь табе и хлеба куска не дадуть. Это не мы – казаки. Культурные они дюже – у нищих торбы и те ворують.
И велел деда мово дед Явграф Евстигнеевич Наполивона-царя в плен ня брать, а отпусть яво домой с миром. Проспорил человек, и того яму хватить.
Насыпались посля тово на прадеда мово и Платов-атаман и царь Ляксандра Павлыч, да когда ответил деда мово дед царю русскому, што сидить на ём шапка яво Мономахова тольки потому твердо, што казаки французов побили, крыть яму нечем было, стих он, бросил ругаться, да и говорить:
– Ну, слухайтя суды ты, Платов-атаман, и ты, дружок мой, Явграф Евстигнеевич – за то, што побили вы, казаки донские, Наполивона-узунпантера, царскую мою слову вам даю в том, што остается вся ваша земля донская за казаками на веки вечные. И мы, цари русские, будем вперед вам – казакам, перьвые заступники.
Деда мово деда тут же в вахмистры произвел, а Платова-гинярала в графья пожаловал. Вот с тех пор стала она, Донщина, и вовсе наша, и никто ей владать, окромя нас, казаков, права не имеить.
Ольховский хохол тянется за головешкой, чтобы прикурить цыгарку и улыбается деду-Долдону:
– Оцэ гарно рассказав. Як бы сбрихав, так бы сроду нэ выйшло.
Клиновский мужик пристально глядит на Долдона:
– А что же это, мил человек, по-твоему выходит, что только казаков и благодарить надо за то, што французы побиты были. А наши-то, русские, спрошу я тебя, иде же они были?
– Иде были? – дед-Долдон, удивленный таким незнанием дела, крутит головой. – Х-ха, да в отступлении были, вот иде.
– Чудяса ты рассказываешь, вот што.
– Ага, обидно табе, браток, вот ты и егозисси. А чудяса, правильное твое слово, – мы, казаки, тогда произвяли. Да ты што, в чудяса не веришь, што ля?
Теперь уже не молчит и Микита:
– Так як же вин може нэ вириты, колы в ных же, в Клиновци, колы ще там тэж мэлныця була, ихний мэлнык таки чудиса творыв, що хоч куды. А ну, гарнийш сам нам про ных расскажи.
– Это што, про Прокопа-колдуна, што ли?
– А про кого ж, як нэ про його. Мужик усаживается поудобней:
– А ить верное твое слово, што Прокоп колдуном был, ну вся причина вовсе не в нем была, а в Фёкле, в жене его, она тоже колдовать умела.
Дед-Долдон недоверчиво смотрит на клиновца:
– То ись, как это так – в Фёкле? Это в бабе-то вся дела? Быть того не могёть!
Мужик хлопает себя ладонью по колену:
– Ну да, в Фёкле! В ей весь вопрос! Жил у них работник один, Силантьем звали. Да. Так вот, работник этот двух детей родил, а на третьем помер!
У слушателей захватывает дух. Все переглядываются. Дедушка крякает от удовольствия и подталкивает локтем сына:
– Работник? Мужчина? Да чтобы он двух родил, а на третьем помер? Да ты вперед окстись, чем такое говорить!
Клиновец только кивает головой:
– А вот и родил! А скажу я тебе сейчас, мил человек, што сама энта Фёкла так всё приспособить умела, такое она слово знала, что когда приходил ее чиред дитя родить, то могла она, потому-што с нечистой силой зналась, схватки энти, боли бабьи родильные, на другого человека перенесть.
Да! Вот, значит, нанялси к ним Силантий, а был он с Линовки мужичок, бобылем жил. И годками уж не дюже штоб молодой. Ну ничего он про мельника с мельничихой не слыхал до того и не знал. Вот и подрядился. А хорошо ему, мельник всево дал – и пшеницей, и мукой и деньгами, и просом, и половой. Всем ублаготворил. А подряжал он его от Николы зимняго до того же Николы на другой год. На год целый, выходит. Вот и работает Силантий на той мельнице. Только видит он – будто хозяйка вроде затежелела. Ну, дело его маленькое, он к этому без внимания. Дальше больше, пришло ей время рожать. И рази тут не скажи она то, свое тайное, слово? Да, сказала она то свое слово тайное, а Силантий как раз на гумне был. Как схватило его пониже живота. «Батюшки! – кричит – Помираю. Света бела не вижу!» Ухватили его мужики, в хату приволокли. Пропадает человек, и вся тут. Криком кричит. А хозяйка – та пироги печь зачала. Да, поставила их в печь, што-то там еще по мелочи перестирала, и вот тебе, мил человек, идет она в горницу, ложится на свою кровать, и только того и сказала: «Ох!», – и разродилась, а у Силантия боль в животе, как рукой, сняло. Полежал он еще с недельку, похворал, поднялся весь белый, как тот упокойник, поднялся, глядит на хозяйку и глазам своим не верит: она, как родила, взяла то дите свое, накормила, да и пошла кизеки месить. И ни в одном глазу! А мельник, вроде как от радости, што дите у него родилось, Силантию полбутылки водки купил. Ну, прошло всё то помаленьку, и слава Богу. Только проходит это год, али трошки побольше, примечает это Силантий, што у хозяйки пузо-то вроде как опять глаже стало. И што главное – зачал он замечать, бытто в животе у няво вроде што-то ворухается. Рассказал он обо всём одному мужичку нашему, а тот запряг – да в Ольховку, к попу съездил. Рассказал. Посмеялся поп, да и всё. И вот, мил-человек, опять пришло время той Фёкле рожать. Хлоп! – лежит Силантий на соломе, и – Богу душу! Криком кричит, стоном стонет. А хозяйка на гумно пошла, хлеб молотить. И так тут Силантия разобрало, што зачал он с душой расставаться. Когда – вон она, хозяйка, бежит с гумна, да в кровать. И в тот мент дитя родила. И Силантий враз отошел. Полегчало ему. А хозяйка встала, дите обмыла, и пошла свиньям корму давать. Пролежал Силантий две недели хворый, всё на живот жалилси. Купил ему мельник опять же водки бутылку, да тем дело и кончилось.
Работает Силантий и дальше, да всё с оглядкой. Обратно к попу знакомца своего спосылал. Помял поп бороденку свою в кулаке, да и говорит: «Суетное это духа томление, боле ничего. Суеверие, его же каждому христианину поборевать надо». Тем поп и кончил. Больше разговаривать не схотел.
Так. Прошло еще годика с полтора. Глядит Силантий – а хозяйка опять подобрела. Идет он к мельнику и говорит ему: «Добрый человек, Богом тебя прошу, отдай ты мне, што я у тебя заработал, да отпусти ты меня. Уйду я на Волгу». А тот – «Ни в жисть. Доработай, говорит, до Николы зимняго, как рядились, тогда и отпущу». А дело поздней осенью было. И показалось Силантию, што хозяйка-то ишо на первых месяцах ходит, што никак ей не раньше как в январе аль в феврале родить. И остался. Не ушел, как думал. Когда так, к концу ноября, еще в энтом году снегом страсть как всё позамело, пошел он, Силантий, с мешком, с пятериком, по лестнице, а его и схватило. Да как! Аж в глазах круги. Грохнулся он об пол, с лестницы сорвался, а мешок тот на него. Услыхали люди, принесли его, да в хату, а там уж и хозяйка на кровати лежит. Замучилси Силантий, замучилси, да к утру и помер. А хозяйка в одночась мертвое дитё выкинула...
А в селе-то промеж людьми давно уж говорок шел. Покликали враз пристава. Приехал пристав, люди ему всё, как есть, и рассказали. За доктором послали. Осмотрел тот Силантия, да, осмотрел, выходит из хаты, а я как раз возле стоял. И спрашивает его становой, что за причина смерти была. А доктор разводит руками и ему в ответ:
– Верьте или не верьте, дорогой мой Авдей Андреевич, а умер ваш Силантий от родильной горячки.
– Г-га-а-ах ах-са-ха... – из темноты выскакивает сидевший позади деда-Долдона молодой парень и, обегая костер, подсаживается к рассказчику. – Ох и уморил! Ну и брехло! Да нету ничего подобного на свете! Брешут всё люди, я вам говорю!
Ольховский хохол смотрит на него совсем серьезно:
– А шо, чи ты справди нэ вирыш? Хиба ты и в чёрта чи в домового нэ вирыш?
– В чёрта, в домового? Да я ни в сон, ни в чох, ни в вороний глаз не верю.
Мельник, до того молчавший, откашливается:
– А повирыш ты мэни, колы я тоби ось зараз скажу, що у оциеи мэлныци домовой е?
– Никогда!
– Ага! Николы? Да? А я тоби говорю, що прыйдэ вин и сьогодни, як и завжды вин цэ робыть – в пивнич. И промиж мишков заховаэться. Панэ, Сергий Ллексийовичу, скажить вы мини, скильки тэпэр часив?
– Три четверти двенадцатого.
Мельник смотрит в упор на молодого парня:
– Ага, ось ты мэни нэ вирыш, а скажи, чи пидэш ты по оцией лэсныци, що до ковшив вэдэ, а зийдэш по другой, що з горы до драчкы на долыну вэдэ?
На мгновение парень смущается, но быстро берет себя в руки и отвечает:
– Ну ясное дело – пойду.
Фомка-астраханец, собственно, уже далеко не парень, только выглядит он еще совсем молодо в длинной своей рубахе, подпоясанный каким-то обрывком веревки, в замазанных дегтем, но ловко сидящих сапогах с забранными в них посконными штанами. В движениях он быстр, говорит открыто и весело. С военной службы вернулся Фомка ефрейтором, работал в Царицыне грузчиком, подавался и в Астрахань на промыслы, да получился у него там скандал с тремя матросами каспийского флота. Крепко избитый, но со славой всё же подолевшего троих и с кличкой «Астраханец», вернулся он в свою Клиновку. Когда случилась та история с ихним мельником, был он в Астрахани, и лишь по возвращении узнал, что после того, как, пожав плечами, уехал пристав, вдруг услыхал истошный бабий крик: «Да бейтя их, окаянных!», – кинулась толпа мужиков на мельника. Был он тут же убит кольями, а бабу его прикончил кто-то подвернувшейся ему под руку пешнёй. Становой и версты отъехать не успел, как вернули его в Клиновку снова, к двум изуродованным трупам и горящей лихим огнем мельнице. Суд приехал. Трех сосласли в Сибирь. Сожженная дотла мельница долго еще дымила черными головешками, так ее больше и не отстроили. А весной прорвало плотину. И ездили теперь клиновцы молоть свое зерно к панам Пономаревым за семь верст. Сельчанам своим убийство мельника Фомка-астраханец не забыл, и глубоко затаил злобу на всё село за убийство дяди.
– Так пидэш, чи ни?
– Говорят – пойду!
– Ага, добрэ. Тикы пидожды трохы, я пиду мишки прыбэру, щоб ты та на гори нэ споткнувся.
Мельник тяжело поднимается и уходит. Долго ничего не видно и не слышно, но вот не спеша приближается Микита к сидящим у костра, тихо вздыхает:
– Ох, Боже ж мий, Боже. Боюся я за тэбэ, Фомо. А ты, як-що нэ пэрэдумав, з молытвою иды, – мельник тушит фонарь и ставит его на землю, – а ты мусыш бэз вогню – поняв?
– Понял, чаво тут много понимать!
Быстро поднимается Фомка и, подтянув одним движением своим штаны, <идет к мельнице>. Все напряженно следят за его едва видной тенью. Вон, сливается она с темной пастью двери и исчезает. Крякнув, садится мельник на землю, но не проходит и минуты, как нечеловеческий рев заглушает шум бегущей по застопоренным колёсам воды. Все вскакивают, Семен в страхе прижимается к отцу. Тот быстро вынимает спички:
– Что там еще за чертовщина, а ну-ка, Микита, подай сюда фонарь.
А из мельницы, снова заглушая все шумы, слышится какой-то грохот, видно, что-то тяжелое скатывается по внутренней лестнице. Помольцы мчатся за несущим фонарь мельником. Фомку находят лежащим под внутренней лестницей с разорванной рубахой и окровавленной головой, стонущего и в диком испуге озирающегося. Перенесен в помольную хату, обследованный на переломы и ушибы знакомым с этим делом дедушкой-Долдоном, который спешит успокоить:
– Тольки трошки обкарябалси, да голову зашиб. Засохнить, как на кобеле.
Понемногу приходит в себя Фомка. Всё еще тяжело дыша, с трясущейся нижней челюстью, рассказывает Фомка откровенно, что прошел он помаленьку вдоль всю мельницу и уже ухватился за перило второй, внутренней, лестницы, уже поставил было ногу на первую приступку – ан, держит его кто-то за рубаху...
– Остановился я, хочу это вторую ногу на ту же приступку постановить, а такой во мне страх, аж употел я. Вздумал я «Отче-наш...» прочесть, а язык и не поворачивается. Ну, всё-таки стал второй ногой на ту ступеньку. Хочу это левую ногу еще ниже, на вторую, подаюсь вроде всем телом трошки ниже, ан держит «он» меня слева за подол рубахи. Рванулся я всем корпусом, рванулся, а рубаха слышу – т-р-р-р, порвалась. Во, глядите, от подола аж до подмышки, почитай. И загудел я вниз, и вроде памороки мне отшибло.
Нижняя челюсть у Фомки все еще вздрагивает, на лицах стоящих кругом его помольцев и страх и растерянность. Только вот с дедушкой что-то неладно – подмигнул он отцу и показал глазами на мельника.
Дед-Долдон смотрит испытующе на Микиту:
– А почяму же тибе-то он не ворохнул?
– Николы вин мэнэ нэ ворухнэ. Знае вин, що його поважаю.
Фомка выпрямляется на кровати, в комнату вбегает мельничиха, протягивает ему полбутылку водки:
– Бога вы вси нэ боитэсь. А и домового займаты нэ трэба. А ну, потягны, Фомо!
Фомка пьет, как лошадь, огромными глотками, лязгает зубами по стеклу, капает водкой за ворот рубахи. С трудом спасает мельничиха остатки водки.
– Ну-ну, ты и бочку выпьешь. Хватэ! А вы вси йдить тэпэр спаты. Бильш тэатрив нэма. Выбачтэ, – обращается она к дедушке, – алэ ж цэ нэ е порядок.
Первым поворачивается и выходит из хаты дедушка:
– Верно баба говорит, пошли домой.
Весь следующий день гудит хутор от разговоров о ночном происшествии. Бабушка зажгла в комнате лампадку и серьезно предлагает завтра же привезти из Ольховки священника и отслужить молебен с водосвятием. Мотает дедушка головой и шепчется о чем-то с отцом. Вечером, по предложению отца, приглашают на ужин деда-Долдона. По-молодому входит тот в столовую, отыскивает глазами образа и истово на них крестится:
– Здорово дневали!
– Слава Богу, – хором отвечают ему все в комнате.
Гость садится возле бабушки. Ужин проходит без излишних разговоров – за едой не гуторят! Только когда уже всё со стола прибрано и приносятся наливка, чай и мед, начинается беседа. Как всегда, начинает бабушка:
– Ишь, дитя-то во-взят перепужали. Грех один с вами. И всё этот Никита. Ну, признавайтесь, што вы там понадумали.
Дедушка осторожно пригубливает из рюмки:
– А ты, Наташа, не сердись, мельник-то наш, сама знаешь – хохол, никак москалей терпеть не может, особенно же хвальбишек. Вот и сунул он вчера ночью в перило внутренней лестницы, в дырку от сучка, зубок от граблей. Фомка в темноте-то и зацепился...
Первым хохочет дедушка-Долдон, наконец-то, всё сообразив, вторит ему Семен, бабушка сердито смотрит на сына и мужа, на смеющуюся сноху и сама начинает улыбаться:
– Вот ведь греховодники. Всех вас, а особенно Никиту, Бог накажет. Разве ж можно с нечистой силой шутки шутить.
Дедушка смеется еще слаже:
– Да где же она, сила нечистая твоя, Микита, что ли? Только вот Сергею теперь убыток – нонче в самую рань Фомка-астраханец несмолонные мешки пшеницы на воз положил, да и был таков.
И дедушка-Долдон усмехается:
– Пройдёть таперь слава про вашу мельницу, найдутся такие, што и ездить к вам перестануть. Кому охота с нячистой силой возиться.
– Ить верное твое слово, – бабушка смотрит округлившимися глазами, – таперь на всю округу разговоров.
– Во-во! И я знавал один такой случай, што в нашей Березовской станице случилси, мальчонкой я ишо был, так об нём вся, как есть, войска наша Донская говорила.
Дедушка предчувствует удовольствие, но считает нужным подзадорить:
– Что-то не упомню я такого случая.
– Тю! Как так не упомнитя, – и дедушка-Долдон отпивает глоток, – што вы, Астаховых ня знали, што ля? Дед ихний ишо под Силестрию ходил. А внук яво, вон он, в чине войскового старшины в Усть-Медведице живёть. Так вон энтот, што под Силестрией был, Пятро Поликарпыч, был он с Иван Семенычем Сянюткиным дружок, водой не разольешь. А было у них так – тольки што выдастся какой случай подходяшший, вот они и вместе. И по случаю тому водку глушуть. А были они ишо и в кумовьях. И рази не случись одного разу бяда – как-то подвыпили они чудок покрепше у жалмерки одной, што сама водку изготовляла. Иван Семеныч посля того до дому дополз, а Пятро Поликарпыч иде-сь посередь хутора в канаве заночевал. Силов яму до дому добраться не хватило. А время – осянью. Грязишша, слякоть, дошш мелкотить, словом, простыл к утру Пятро Поликарпыч в итой канаве. А когда проснулси утром, когда принясли яво хуторцы домой, понял он, што последний яво час приходить, и велел он поскорей Иван Семеныча позвать. Прибег тот:
– Штой-то, кум, а?
– Помираю!
– Тю на тибе! Брось, опохмялись, оно всё, как рукой, сымить.
– Не, не сымить. Чую – край мой подходить. И просю я тибе, дай ты мине, какую ни на есть, дружескуя наставлению, пока поп не пришел.
– Слухай суды, кум, – тут наклонился Иван Семеныч к помирающему и зачал штой-то ось яму на уху шаптать. Не успел как следует и обярнуться, глядь – а кум яво мертвый ляжить. За долголетнюю службу в упокойники произведен. Ну, сами знаете – сбеглись казаки со всяей станицы, бабы рев подняли, попа покликали. Всё по порядку справили. Проляжал Пятро Поликарпыч, как положено, три дни в курене и понясли яво на кладбишшу, а отец Илларион службу править. И как дошел он до «последняго целования», глядь, а Пятро Поликарпыч, упокойничек, сидить сабе в гробу и глаза протираить. Да как гаркнить:
– Стой, отец Виссарион! Отпуск мине с того свету вышел. Батюшки мои, чаво тут началось! Как сыпанули бабы и казаки с кладбишши. Только один поп осталси, будто к земле прирос. Стоить, побелел весь, а губы у яво синие. Ну, с поповского поста свово не сошел, хучь и трусилси от страху. Казак был он, поп-то наш хуторской, правильный поп. Однако, как-то в понятию пришел, махнул тем казакам, которые посмелей были и в ближней канаве в укрытию засели, махнул им, подошли они с опаской, вытянули Пятра Поликарпыча из гроба и домой предоставили. Выпили там с ним по одной и вспрашивають яво об том, да как же ето всё с ним приключиться могло.
– А так могло приключиться, што должон я таперь куму мому на всю жизню мою благодарность поиметь. Научил он мине, как на том свете орудовать надо.
– Ну?
– Вот те и ну! Помер это я – луп глазами, ляжу я вроде на ливаде аль на бакше. Тут же рячушка тикёть, а возле ей арбузы да огурцы произростають. А дух такой легкий, аж душа радуется. И захотелось мине пить. Подполз я на пузе к той речке, лег поспособней, глотнул разок-другой – Господи Иисусе Христе – она! Белая головка! Вот вам хрест святой – не бряшу. Та-ак! Выпил я ишо чудок, цоп за огурец, хряп – а он малосольный. Глянул туды-суды, куст какой-то стоить, поднялся я, подошел к няму, а на ём жареные пироженчики с капустой произрастають. На посном масле. И только я того пироженчика откусил, тольки разок всяво и жавнул, глядь – идёть архангел Гавриил, один он из всех архангелов казак, да, идеть это в полной форме, в есаульских погонах и при шашке.
Стал я, как полагается, и отрапортовал:
– Вашсокблагородия! Урядник Астахов, по случаю смерти, в вашу распоряжению прибыл.
Вынул это он из обшлага мундира списочек, поглядел да и вспрашиваить:
– А какой ты станицы?
– Трех-Островянской!
Ну, и осерьчал же он. Как зачал шуметь. Кабы, говорить, не был бы я на архангельской службе, я б, говорить, и ня так ишо покрыл. Вовсе не ты помереть должон, а вахмистр Астахов, станицы Березовской. Обратно они там всё, как есть, перепутали.
– А што ж мине делать прикажете?
– Воскрясай, – отвячаить, – и вся недолга!
Не поспел я круг сибе оглянуться – тю! – стоить отец Виссарион и молитвы свои гудеть. Вот она какая дела была. Научил он мине, в счет станицы, на том свете сбряхать. Вот и отпустили мине оттуда.
Опосля того не только кумовья, вся станица пьянствовала. Сам архиерей приехал на живого упокойничка поглядеть, никогда, говорил, в жизни моей не видал, штоб упокойнички водку так глушили. И так тот архиерей по тому случаю сам набралси, што с отцом Виссарионом, полькю-бабочку в садах танцевал. Из наших казаков был он, архиерей-то. И обо всём, как есть, Пятру Поликарповичу поверили, ну, штоб жареные пироженчики, да ишо на посном масле, да штоб на кусту они росли, никак никто в понятию взять не мог. И так и поряшили: сбрехал об тех пироженчиках.
Долго все смеются, только бабушка не на шутку рассердилась:
– И не грех ли тебе, старый ты человек, такие присказки про тот свет рассказывать? Погоди, вот сам туды попадешь, враз тебя там в ад предоставят, будешь за брехню сковородки раскаленные до скончания века лизать.
– Наталия Ивановна, да Боже упаси! Да кого хотишь в станице, кто постарше, вспроси, все табе подтвярдять, хто не забыл. Правду я вам истинную рассказал.
– Правильно ты это говоришь, ежели есть у человека какое-нибудь пристрастие, к вину или иному чему, тут, брат, и не такие чудеса случиться могут, – поддакнул дедушка.
– Ага! А я-то к чему же разговор вел? Да хотитя я вам ишо про одну пристрастию расскажу, а штоб хозяйкя ваша не сярчала, об том свете и словом не упомяну.
Бабушка сердиться долго не умеет:
– Говори-уж, Бог с тобой.
– Ну, так слухайтя – когда родилси он, сосед мой, да, когда он родилси, Африкан Гаврилыч, ничего такого особенного не случилось. Соседский кобель, верно, раза два-три брехнул, да у Марь-Матвевны, у кумы моей, телок, в кухне ночевавший, топленое молоко опрокинул и новый обливной горшок разбил. А так, штоб знаков каких особых или предзнаменований небесных, нет, такого мы, старики, не запомнили... Родилси он, как тогда говорили, в месяце генваре, стынь стояла страшная, морозы – во какие! – давили. Окрестили его, как по-закону надо, кум яму по дедушке имя дал, цымлянского на крестинах выпили, погуляли, как надо, словом, всё в порядке полном произвяли.
Зачал он расти, в понятию входить стал, и рази не поимей он пристрастию! И к чаму бы вы думали – да к каше! К пшенной али тыквенной. Бывало сварить бабушка Аграфена Тимофевна, энта Аграфена Тимофевна урядника Шумилина дочка, што с Чиру ее взяли, да, сварить она кашу, поставить ее где-нито простыть, глядь – а Африкашка уже и ложку облизал. Всё во-взят поел.
От той, от каши, стала у яво пуза расти, как у нашего отца протоиерея. Все хуторские рябяты над ним смяялись. Архипузнаком дражнили. До того, анчибел, дошел, по соседям стал ходить, под кашу подлабуниваться. Вот не стерпела одного дня бабушка Аграфена Тимофевна, не стерпела, убралась, полушалок персидский надела, энтот, што ишо дед ее из турецкой кампании принес, да, надела полушалок и вечером, задами, штоб люди не видали, к бабке-ворожке пошла. Куском холста ей поклонилась, сямитку денег дала.
– Погляди ты, просить, Христа ради, што Африкану нашему в роду написано. Ить на весь хутор страма нам через эту яво пристрастию.
Глянула ворожка в карты, покачала головой, да и отвячаить:
– Идитя вы, Аграфена Тимофевна, домой, няхай сердца ваша зазря не болить. Потому через ее, ту самуя кашу, быть яму в чести вяликой и станить он через ние не тольки на весь хутор, на всю станицу, да – на всю, как есть, войску Донскуя перьвым человеком.
Окстилась бабушка от удивления, однако ишо и в церковь сходила, отцу Панкратию пожалилась. Наложил он на нее эпитимию за мысли суетные, да, а яму велел пару утей принесть, какие пожирней, любител он на утей был во какой! Зато за здравие раба Божия Африкана просвирку вынул и на обедне яво помянул.
В семье всем будто лекше стало. Однако ж от каши так Африкана и не отвадили. И дале ел он ее, как и раньше – и с маслом, и с молоком, и так. И на дяйствительну службу пошел, и в Балканский поход яво снарядили, а обыклость свою не бросил.
Вот, пиряшли это, конешно, наши Дунай речкю, пиряшли ее, турков побили, Силестрию взяли, под Шипку пришли. Тут зима их и захватила. Да такая снежная и холодная, хучь воевать бросай. Сотня, в которой Африкан Гаврилыч служил, в болгарской дирявушке на квартиры стала. А за дирявушкой той – вроде как ливады, за ливадами – лес. А за лесом, в горах, турки позасели. Видимо и нявидимо. Свому Богу молятся, ночами костры жгуть и Болгарию казакам отдавать не соглашаются.
А когда сбиралси Африкан Гаврилыч в поход, когда снаряжали яво, купил ему отец коня. В Сальские степи к знакомому калмыку ездил. Конь, на глаз, не дюже, штоб вострый. Мохнатый, росту малого, не поймешь, масти какой был. Сказать, муругий, нет, не муругий, мышастый, так нет, не мышастый. Словом, одна сумления, прости Господи. А и сами вы знаитя как она, дела-то, с нами казаками в Российской империи была. Служи на всём на своём, покамисть тибе не пристукнуть. Слава табе казачья, а што жизня собачья, про то и не заикайси. Ну, однако, когда сотня рысью шла, дюже от ниё Африкан не отставал. Глядишь, ан, к вечеру и догнал своих. Вот на таком коне и ломал он службу царскую.
Тут вот, рази и не подойди то время, не свяршись те сроки, об которых бабка-ворожка говорила. Идёть это одного утра Африкан Гаврилыч, идёть к колодцу и песенку потанакиваить:
Вкруг огню турки сидели
И на ём чавойсь-то грели,
Трубки длинные курили,
Про донцов, нас, говорили...
Да, идеть это он, ведёть коня, потянул носом – ху, т-ты ж! – никак кашевар пшеннуя кашу варить? Аж вовсе повеселел. А кухня сотенная в соседнем дворе стояла. А дворы у болгар, да ишо в войну, ух, Господи, об загородке и ня думай. Всё, как есть, што и было, храбрая войска наша попалила. Тольки дошел это Африкан Гаврилыч к колодцу, коня напоить хотел, тольки это вядро потянул, хро – табе: трубач трявогу заиграл.
Казаки из мазанок, што тот горох, посыпались. Коней сядлають, оружию опоясывають, строиться зачали. А турок из лесу в конном строю выходить. Самыя янычиры, султановы головорезы отборные. Не поспел Африкан и глазом моргнуть, а кошевар ухватил котел, хлоп яво, да и вывернул в снег. Штоб, в каком там случае, казенное добро ниприятелю не досталось. Да и с порожней кухней от врага и супостата уходить-то куда способней! Да. Вот та пшано вся, как есть, и вывалилась. Снег таять под ним зачал. Пар от яво, как дым от гранатного разрыва, пошел.
Схватил сядло Африкан Гаврилыч, коня подсядлал, цоп сумы перемётные, подскочил к каше – не пропадать же добру даром – нагреб ее полные сумы, да за сядлом в мент и приторочил. Как сотня построилась, как в атаку на турков пошла, толком посля и рассказать он не мог. Тольки глядить это Письменсков Левонтий Платоныч, сотни Африкановой командер, глядить это он – вся сотня в атаку на турков, как по-шнуру, идёть, а Африкан саженей на пятьдесят вперед умчел.
Оглянулси Африкан назад, оглянулси – Господи Исусе Христе! – сотня сзади яво черти где по сугробам скачить, а турки – вот они.
А конь – как останел! Преть! Глаза кровью налились, храпить. Аж папаху ветер Африкану с голове сшиб. Прочитал он побелевшими губами «Живый в помощи...», прочитал молитву, луп глазами, а турки вот они – во! Саданул он перьвого пикой, так тот об землю и вдарилси. Выхватил, було-к, палаш, гля – а конь яво весь турецкий строй наскрозь проскочил. Повярнул он яво кое-как назад, повярнул коня-то, да за турками – ги-и-и-и!
Догнал какого-то худошшаваго, да палашом яво с коня и ссадил. Так тот и покатилси. Сам суды, а голова – вон куды. Тут на Африкана трое насело. Да рази конь его, Африканов, на дыбошки не встань! Встал конь на дыбошки, да как сиганеть, да и подмял под сибе турецкого командера. Смяшались турки. А етот мент сотня им в лоб вдарила. Доскакала-таки. Повярнули, було-к, турки уходить, а Африканов конь за ними. Скачить перед ним здоровенный турок, к луке припал, а в руке у яво знамя ихнее трепетёет. Догнал яво Африкан, стебанул палашом по башке, знамю энту тольки – цоп! И вырвал ее у турка из рук. Турок обземь, а Африканов конь турецкий строй ишо раз наскрозь прошил. Обярнул яво Африкан, поднял на дыбошки, да как зашумить:








