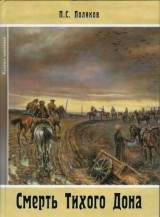
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 46 страниц)
Вахмистр замолкает, дядя Андрюша хлопочет возле бутылок, тетка Анна сияет, оглядывая стол: сидят за ним мужчины – молодец к молодцу, бороды порасчесали, усы торчком, лица сурьезные, кабы были вот такие вот возле царя, никогда бы он от престола свово не отказался. А што теперь про Россию гутарят, так всё это спокон веков нам известно, сроду она бунтовала, царей убивала, князей, министров. А вон таких, как Иван Грозный и как Петро Первый, тех слухались. А как попадется ей какой добрый да смирный, так яво и уходокают. Тетка наклоняется к бабушке:
– Ты мине прошлого разу про лихорадку спрашивала. Вот самое перьвое, цыганский заговор: «Господи Иисусе Христе! Помилуй нас. Не я хожу, не я лечу, а сам Христос. Лихорадки-лихоманки отпуститя раба Божия, – тут имя хворого сказать надо. Вы, гнетучки, знобучки, трясучки, перестаньте яво мучить. Вас семьдесят семь, заплачу вам всем. Машке, Дашке, Гашке, Палашке, Феньке, Сеньке, Дуньке, Груньке, Акульке и всем вам, шестидесяти шести младшим сестрам». И, как прочтеть цыганка тот заговор, враз ей яйцо в воде дать надо. Воду ту тот хворый выпить должен, а яйцо цыганка с собой береть и кидаить яво в степь тогда, когда семьдесят семь верст от того места уйдеть, потому в том яйце хворость та. И тогда потеряить она хворого, и сроду яво не найдеть боле.
Но ясно видно, что бабушка что-то не особенно цыганам верит, смотрит на тетку Анну, будто сомневается, и спешит сказать ей свой собственный рецепт, проверенный ею самой. Когда еще девкой она была, слыхала от бабки-ворожки:
– Суровую нитку взять надо и к дереву какому пойтить, всё одно к дубу ли, к вязу ли, аль караичу. И две ветки ниткой той связать. А когда вяжешь – приговаривать: «Ты меня, лихорадка, держишь, а я тебя привяжу. Когда бросишь, тогда отвяжу». И так до трех разов говорить. А к дереву тому иттить, штоб никто не видал и никак и ни с кем не разговаривать...
А на другом конце стола продолжал вахмистр:
– А солдатня энта в один голос: мир без анексиев. А как всё у солдат у энтих началось? Вперед в Питере, на Выборгской стороне, фабрики забастовали. А за ними на Васильевском острове. И всё будто потому, што у народу хлеба не было. И пошли бабы на улицу. Толпами. И зачали кричать: «Хлеба! Хлеба!». Петроградское городское управление захотело было всё дело снабжения города в свои руки взять, собрались на заседание, а полиция, – видать, ряшили там, што это непорядок, народ хлебом снабжать, – да, пришла полиция и всех их переарестовала. Вызвала тут Дума великого князя Михаила и зачал он с царем по телефону говорить, только царь ни-ни, молчить, видно, узнал, што Дума великого князя диктатором хотела исделать. И тут царь Думу указом своим разогнал. В Петрограде же так народ прямо и говорил, што это ему царица так присоветовала. А в городе стрельба на улицах зачалась. Солдаты Литовского полка взбунтовались и командира своего убили. А за ними Волынский полк бунт поднял. И разгромили они окружной суд, Главное артиллерийское управление и арсенал. А в арсенале сорок тысяч винтовок. И разобрала те винтовки какая-то красная гвардия, сорганизованная из рабочих. Тут Председатель Совета Министров князь Голицын со всеми министрами в отставку подали, от ответственности в кугу схоронились. И получилось, што в столице нашей власти никакой нет. А царь молчал-молчал, да и прислал манифест, што дает он ответственное министерство. А Дума ему: «Отрекайся!». А он решил в Петроград ехать. Ехал-ехал, и на станции «Дно» делегаты от Думы: «Отрекайся». И вот тут подгадили терцы из конвоя, вместо того, штоб арестовать энтих делегатов да к стенке их постановить, молчали. Тоже охранители престола, присягу приняли, называется. А с Петроградом всякое сообщение прекратилось. Кинулись все снова к великому князю, да не взялся он, Керенский будто бы заявил, што все против царя и монархии. И зачали солдаты и матросы офицеров бить, тысячи побили. Самосудом. Да, ишо трошки про тот приказ номер первый, стояли наши на фронте одно время рядом с пехотой генерала Барковского. И там казакам солдаты тот приказ приволокли, немцы им его в окопы кинули за два дня перед тем, как привезли его из Петрограда. Вот тут вы и подумайте, откуда всё идет и через кого? А обратно об солдатне: в ночь на первое марта разбили запасные полки царскосельского гарнизона ренсковый погреб Шита... Перепились там и стрельбу открыли. Поскакали наши казачки туда, да как взяли их в плети, так враз они делегатов во дворец прислали: верноподданические свои чувствия изъявлять. Эх, руки твердой не было, вот и секрет весь. И только один знал, что он делает, это тот же самый Ленин, которого немцы к нам прислали, да, думается мне, и на свою голову. Да, ну а дале – зачал тот Керенский по фронтам мотаться и уговаривать в наступление идти, потому союзнички наши того от нас, несмотря на страшную нашу нужду, требовали. Тоже дураки такие, што от земли не подымешь. Вон и во Франции солдаты ихние бунтовали, да так они их прижали, што разлюли малина. А у нас развалу помогали. Ну да чихнут они от этого, да поздно будить. Об чём же это я? Да, уговорил Керенский, и пошли две наши армии на Юго-Западном фронте в наступление. Те пошли, которых большевицкая пропаганда не тронула. Лучшие, что остались. И полегло их тридцать восемь тысяч и тыща триста офицеров. И зачали остатки тех армий разбегаться, да как – один ударный батальон, что дезертиров ловил, у одного Волочиска насбирал их за одну ночь двенадцать тысяч. А покель суд да дело, перебили они своих офицеров, жителев грабить зачали, женщин насиловать. И как Керенский не уговаривал, Северный фронт наш так и не двинулся. А на Западном фронте тоже пошли, взяли три ряда неприятельских окопов, остановились, и – назад! И та же картина: грабежи, убийства, дезертирство, офицеров на штыки поднимают. На Румынском фронте тоже двинулись, сто орудий забрали, и вдруг телеграмма от Керенского: остановить наступление. Вот таперь и шумять энти в Совете: мир без аннексиев и контрибуциев. А тут ишо слушок прошел, што все, кому сорок лет, домой пойдуть. Вот и поперли они все самотеком по домам. В одном Питере их полторы сотни тысяч насобиралось, черный рынок открыли, торгуют сапогами, папиросами, водкой, грабють, ночами обыски, то ись грабежи делають. И взять их никак невозможно, Совет над ними руку свою держить. Вот и дують они самогон, и за Советы голосують...
А бабушка тетке шепотом:
– Для дела этого, для привороту, летучую мышь поймать надо. И бечь тогда с ней к муравейнику, положить ту мышь в тот муравейник и горшком прикрыть. И дня через два обратно туды прийтить. К тому времени муравли всю эту мышь, как есть, пообгложуть, одни от нее косточки останутся. Вот косточки те собрать нужно, и энти из них выбрать, што на них вроде, как крючечки. И крючечки энти завсегда с собой носить. И как завидишь того, што тебе мил и дорог, а ты ему те крючечки, так, штоб он не видал куда, ни то за одежину зацепи. Отбою от него посля того не будет...
Ах, всё же вахмистра интересней слушать:
– Вот так и получилась у нас, у казаков, полная мозгов затмения. Ить ишо по-перьвам, когда тольки царя скинули, а Миколай Миколаич обратно главным командующим стал, што он в приказе своем написал, а то, што признаёт он новуя власть и нам велит ей подчиняться. Ить это же не кто-нибудь, не Ванька-Каин какой, а сам великий князь Кирилл Владимирыч был, што красный бант нацапил и со своим морским экипажем к Думе явилси верность революции доказывать...
Бабушка притягивает к себе за рукав тетку:
– Скольки разов я табе говорила, што самое это простое дело на целый год наперед погоду знать. Возьми ты луковку, разрежь пополам и выйми из обоих половинок дольки-чашечки, двенадцать штук, и поклади их на подоконник от левой руки к правой и кажной той долечке имена месяцев дай: январь, февраль и так дале, все двенадцать. И посля того в каждую дольку соли до половины насыпь. И как утром в те чашечки глянешь, так враз знать будешь, который месяц дождливый будить. В которой чашечке боле соли растаяло, в тот месяц и дажжа боле всего будить, а тот самый сухой, в котором соль вапче не растаяла. Вот запиши потом, как в какой чашечке было, и будешь на целый год наперед погоду знать.
А вахмистр как-то зябко жмется и говорит дальше:
– Большавицкие же пропагандисты особенно к нам – казакам, подьяжжать стали. И вспрашивають и нас: на кой чёрт нам за францусский аль там английский капитал воевать надо и головы наши за них класть? А офицеры наши, спанталыку сбитые, молчать, и получилась у казаков к ним вроде как недоверия. А русские офицеры, генерального штабу, те, почитай, все красные, молодежь на четверть с красными бантами шшеголяют. Вон Брусилова-гинярала возьмитя, давал яму царь Георгия, так он при всем народе царю свому руку целовал, а потом, как тот же самый царь спросил яво, што ж яму таперь делать, одно тольки и сказал: «Отрякайси!». Энтот же самый Брусилов солдатам почетного караулу посля революции руку подавать стал, а они и глаза вылупили: стоять все по команде «смирно», ружья «на-караул» держуть, а он к ним с рукой лезить. Я, мол, таперь табе тоже товарищ! Видал я ету комедию своими глазами, и плюнуть мне захотелось: вот так холуй в гиняральском чине...
А бабушка невозмутимо продолжает своё:
– А когда скотиняку какую продашь, завсегда ты чудок волосьев от хвоста ее отрежь и под образа поклади. Никогда тогда скот в дворе твоем не переведется. Да, а вот ишо, штоб молотники у тибе никогда не хворали, обязательно, когда жито косишь, завсегда перьвый сноп сторчака посередь поля станови. И будуть тогда молотники твои, как тот сноп, крепко на ногах стоять. Поняла, хворости у нас никак не было! Иного мы в наше время боялись: силы нечистой. Вон и Алексей мой покойный, как на Кавказе служил, чего тольки не нагляделси и не наслухалси. Там, в Терских казаках, коли женского полу дите родится да некрещенным помрет, ежели окстить его не успеют, то воскрясает то дитё и в русалку оборачивается. И живуть те русалки в стипе, а в особый, в русальный день, голые, как мать родила, возля болот сбираются, круг болот тех пляшуть, и не дай Бог никому в тот день мимо того болота иттить, до смерти того человека русалки те зашшекотять. А кто за пазуху полыни положить, тому ничего не будить, русалки духу полынного не терпять. И все они страсть какие красивые, только с лица, как мел, белые, а волосья до пяток, и живуть с ягод лесных, с ежевики да с травы, и в болотах хоронятся...
Слышно что кто-то отворяет ворота и въезжает во двор. Дверь распахивается и появляется на пороге сам предводитель дворянства Мельников. Будь то архангел Михаил с мечом и в латах – не произвел бы он такого впечатления. Первой приходит в себя бабушка:
– А-а! Гостёк дорогой! Заходи, заходи, нечего косяки подпирать, они у нас и так крепкие.
Мельников делает церемонный поклон:
– Хоть, как говорится, незваный гость хуже татарина, всё же, приняв во внимание, что единение чисто-русских... – Простите мне, что так врываюсь, но сделать это почел я необходимым, ибо время никак не терпит. С тех пор, как под давлением гнусного скопища мерзавцев, именовавших себя Государственной Думой, вынужден был отречься от престола наш государь-император, ничего мы больше не слышим, кроме нечленораздельного рёва: «Свобода, свобода!». До дурноты, до одури, до помешательства. Гнусную, грязную, неграмотную толпу воров, жуликов, карманщиков, пропойц, бездельников и убийц открыто подбивают на преступления и измену отечеству, а немецкий агент некий, по воровской кличке именующий себя Лениным, немецкий агент из сифилистических дворянчиков, а с ним жидок из Америки по имени Лёва Троцкий. А мы – сидим сложа руки и ничего не предпринимаем. Пулеметы на эту сволочь нужны, картечь на этот сброд, свинец! Чтобы загнать проснувшуюся зверюку в ее вековую берлогу. И не только тех уничтожить, кто бунтует, убивает офицеров, грабит и насильничает, но и всех тех, кто всенародно, на улице, лобызался при вести об отречении государя и императора нашего, видевшего вокруг себя лишь ложь, предательство и измену. Пул-ле-мё-о...
Вахмистр вдруг краснеет и перебивает Мельникова:
– Я даже дюже прошу вас мине простить за то, што встряваю посередь вашего разговору, ну одно гребтится мине узнать и вас вопросить: а кто же с тех пулеметов стрялять будить?
Мельников, видимо, ошарашен таким вопросом:
– То есть, как это так – кто стрелять будет? Ясно, как день – верные долгу и присяге войска!
Дядя Андрюша пожимает плечами:
– А где же они, эти верные долгу и присяге?
Мельников окончательно закипает:
– Где? В первую голову – казаки! Сначала в плети сволочь эту, в плети, в плети!
Взяв рюмку меж пальцами, делает ею атаман круги по столу и, не взглянув на Мельникова, говорит совершенно спокойно:
– А иде ж вы таперь таких казаков найдетя, господин полковник?
Слова атамана приводят Мельникова в ярость. Захлебнувшись, сначала не может он ничего сказать, вдруг вскакивает со стула, роняет стоящую перед ним тарелку с пирожками на пол и кричит:
– Во-первых, не господин полковник я, а ваше высокоблагородие, а во-вторых, коли уж желаешь ты со мной говорить, то потрудись встать!
Только вскинув глаза на позеленевшего, с налившимися кровью глазами, Мельникова, так же спокойно отвечает ему атаман:
– Ну, коли уж на то пошло, то тута, в хуторе нашем, ежели кого стоя и спрашивать, так только мине, атамана хуторского. Вы, господин полковник, на Дону, а не в вашей Саратовской губернии, и не с мужиками, а с казаками гутаритя.
Мельников падает на стул, мама подбегает к нему со стаканом воды, разливая ее себе на мундир, едва он выговаривает:
– Т-т-ак, э-т-то ч-т-то же такое? Попал я на большевистский митинг, что ли?
Атаман только качает головой:
– Во-во! И этак думають они людей найтить, которые с ихних пулеметов стрялять учнуть. Вряд што у них получится.
Мельников жадно пьет воду и бормочет:
– П-пугачевщина! К-катастрофа... погибла Россия...
Двери неслышно открываются, на пороге появляются два старика-казака. Сняв фуражки, крестятся они на иконы, с достоинством кланяются:
– Здорово днявали. Разряшитя взойтить, часн?я компания?
Старикам пододвигают стулья, потеснившись, усаживаются они к столу и взгляды их, как завороженные, останавливаются на бутылке с водкой.
Семен решает исчезнуть. Уходя, слышит он слова вахмистра:
– Ить это же, вашсокблародия, котел закипевший. И того и гляди взорвется. А вы нам – плети! Плетью обуха не перешибешь. Тут с понятием подходить надо и во вниманию взять скольки нас, казаков, и какие и мы стали...
* * *
О всём подробно расспросив гостя, качает головой Гаврил Софронович, дедушкин друг, и тихо говорит Семену:
– Так-так... кабы дед твой живым был, иная бы линия тут у нас пошла. А ты мине про Дон таперь послухай: как зачалась по Расее завирюха, как забунтовали солдаты супротив царя, Бог с ним, глупой был человек, у бабы у своей под подолом сидел, да, так вот, как всё зачалось, то перьвым долгом выпроводили казаки наказного атамана графа Граббе из Черкасска. И собралси там Казачий Союз и созвал он Донской Войсковой съезд, в апреле месяце, шашнадцатого числа. И выбрал тот Съезд Исполнительный Комитет, и послал тот Комитет по всем станицам и полкам приказ: избирать на Круг, на парламент наш, дилягатов. И всколыхнулси и взволновалси Дон наш, батюшка. И послал дилягатов на Круг, и двадцать шастого мая открылись засядания того Кругу в перьвый раз посля 1723 года. Сто девяносто четыре года не имели мы, казаки, права в России открыто голос свой подавать, а таперь сами, всенародной душой, за собственное дело взялись. А в Петрограде посланные Кругом представители Союза Казачьих Войск исделали, штоб через него голос всех двенадцати казачьих войск подавать. Не грабили, не убивали, не насильничали, не расстреливали, а хату нашу по старинным планам перестраивали. Восьмнадцатого июня выбрал тот Круг наш вольными голосами нашего усть-медведицкого казака Усть-Хопёрской станицы, генерала от каваллерии, кавалера двух Георгиевских хрястов Ликсей Максимыча Каледина. И сказал придсядатель Кругу: «Прерванные волею царя Петра Первого в лето 1723 заседания Круга продолжаются!». Понял ай нет, в чем загвоздка, а в том, што до того году были мы самостоятельные и таперь, почитай, посля двухсот лет, обратно праву свою получили, сами в руки взяли. И таперь надея у мине одна на шистьдясят полков наших да на восемьдесят батарей, да на все отдельные сотни и команды, а их боле полутора сотен. Вот ежели сбиреть их всех Каледин на Дон, то и бояться нам нечего. А немцев нам тоже бояться нечего, не враги они нам. А нам – плетни по границе поплести, потому холопы они там были, холопами и останутся. Так, Семен, ну иди, иди, рябяты тибе дожидають...
На старом излюбленном их месте, у канавы, давно уже дожидаются его хуторские друзья. И первым спрашивает Семена Петька:
– Ты про бабку Шилиху слыхал? Про энту, што христославов на принимала?
– Нет, а что с ней?
– А то, што ведьмачила она. Силу нечистую признавала. К примеру – пойдеть в лес, целую, как есть, осину сама с корнем из земли выдереть и несёть домой одна такуя дерево, што ее и шесть казаков не подымуть. Черти ей нясти помогали. А то в свинью оборачивалась и по хутору ночью бегала. И слову такую знала, што коровы молоко давать переставали, одно знають, бягуть со дворов, рявуть дуром, бяда на весь хутор и тольки. А хто ночью в одиночку по хутору шел, кидалась та свинья на няво, здоровая, зубы, как у кракадила, кидалась и до смерти искусать норовила. И пришли с фронту на побывку браты Песковатсковы, а они ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай не верють, фронтовики. И пошли они одного разу ночью по хутору в чириках, штоб слыхать их не было. И наскочила на старшого брата та свинья – передом он шел, а младший чудок вроде поотстал. А старший брат тольки цоп ту свинью за ногу переднюю, вертится она, а младший брат подскочил да за заднюю. И поволокли ее к пенькю, и к тому пенькю у правления переднюю ее ногу гвоздем прибили. И пошли домой спать. А когда утром вышли, а свиньи нету, тольки кровишша, и скрозь по улице след прокладен. А тут бягить Манькя Усова и шумить: «Эй, бабка Шилиха помираить». Побегли браты по тому кровавому следу и в курень бабки Шилихи он их привел. А тут уж и атаман пришел. Глядять – ляжить бабка Шилиха на кровати, а из правой из ее руке, тряпкой замотанной, так кровишша и тикеть, так и бьеть, как тот фонтан. Понял, в чём дела – ить гвоздь-то, свиньей когда она бегала, ей в правую переднюю ногу забили. Глянули казаки, и хотели ее тут же кольями убить, да атаман не свелел. «Нехай, сказал, ляжить, поглядим, што будить». А она месяц ляжить, другой, кровишша с ней тикеть, а помирать не помираить. Извялась вся, как шкилет стала, тут рази не догадайси дед Афанасий, взял он осиновый сук, исделал из яво клин, вошел с казаками в курень бабки Шилихи и клин тот осиновый под матку вбил. И тольки он тот клин под матку молотком вбил, захрипела Шилиха, зявнула раза два и померла...
* * *
Двор Анания Григорьевича выметен чисто, полы в курене вымыли с кирпичом, заслали половиками, окна и щеколды протерли так, что горят они на солнце, дверные ручки тем же кирпичом оттерли, всё в полный парад привели.
Убили на австрийском фронте младшего сына его Гришу, осталась вдова с двумя сыновьями, а старший сын, хранит его Бог, доси еще живой. Прислал он письмо из Пскова-города, что на торжество прибыть никак не может.
Во дворе Анания Григорьевича будут сегодня внука его, которому как раз годик сравнялся, в первый раз на коня сажать. Столы для гостей поделали посередь двора и с удовольствием наблюдают собравшиеся гости за бабьей суетой и за тем, как растет на столах то, что хозяину Бог послал. А послал ему Бог для всего хутора богатое угощение.
Кончилась бабья суета, вытирая фартуками руки, стали они по бокам крыльца и вынес дед Ананий Григорьевич внука своего Онисима на балкон-галерею. Одет он в полную казачью форму, шаровары с лампасами, гимнастерка, ремни на нем белые, мелом натертые, при шашке, специально по росту нового служивого сделано. Сегодня же, в первый раз в его жизни, острижен он и зачесали ему чуб, как казаку Войска Донского и полагается. Погончики приладили ему урядницкие, с разведческим просветом. Сам дедушка вышел в полной форме Атаманского полка, при шашке с серебряной портупеей, с орденом святого Георгия четвертой степени и при трех медалях. Погоны у него вахмистра, заслужил он их еще тогда, когда сложили казаки песню – в семьдесят седьмом году. Сапоги на дедушке и на будущем служивом начищены до ослепительности, фуражки надеты набекрень. Обвел дедушка взглядом двор свой и светло у него на душе стало: почитай, весь хутор сошелся, а впереди всех, блестя погонами офицерскими, при крестах и медалях, три офицера Пономаревы. Ить это же честь ему какая!
На специально расчищенной площадке уже стоял подседланный боевым седлом рыжий жеребец, за старостью лет давно уже переведенный на плуги и бороны. Почистили его и скребком, и щеткой, и расчесали и хвост, и гриву так, будто на смотр самому Войсковому Атаману приготовили. Копыта рашпилем в порядок привели, с вечера овсеца всыпали, вот и стоит он шустро, косясь добрыми старческими глазами на приближающегося к нему деда с внуком. Под уздцы держит его другой внук, мальчонка лет пятнадцати, тоже одетый в полную форму, а с другой стороны коня стоит второй брат его, Игнашка, и в руках у него пика для Онисима, новая, только вчера сделанная.
Одним взмахом крепких рук сажает дед внука своего в седло, получает он от Игнашки пику и ведет дед коня, три раза обойдя вокруг двора. Оба двоюродных брата будущего воина идут по сторонам коня, не дай Бог служивый на землю жмякнется. И полными страха глазами следит за всем готовая каждую минуту закричать от ужаса мать Онисима, но никто о ней не думает, не ее это дело, нонче сын ее, с первым днем ангела, принимается в казаки-служивые, и бабам тут мешаться никак не положено.
видно всем, что страшно нравится ему сидеть выше всех меж мягких, лишь слегка похрустывающих, подушек седла. Слава Богу! Вся процедура проходит без происшествий, только один какой-то старик не выдержал:
– Эй ты, куженок! Не дяржись за луку, за уздечкю, за уздечкю норови...
Но уже вывел дед коня на середину двора, скинул фуражку и поклонился на все четыре стороны:
– Господа старики! Принимаете ли вы внука мово, Онисима Малодельскова, в казаки?
– Приймаем!
– В час добрый!
– А куды ж яво, сукина кота, дявать?
Надел дед фуражку, кинулась залившаяся слезами мать к новому казаку Войска Донского, взяла из рук его пику, сняла сына с коня, прижала к груди и еще пуще расплакалася.
И рассердился дед:
– Нечего тут зазря сопли распущать. А ну – утрись!
Громко разговаривая, смеясь и шутя, размещались гости по лавкам, и встал атаман с полным стаканом цимлянского, поднял его высоко над головой, погладил левой рукой бороду и обернулся к хозяину:
– Проздравляю тибе, Ананий Григорьевич, с тем, што одного внука твово приняли мы ноне на службу Войска Донского. Дай яму Бог шшастя, чинов-ордянов и полные амбары. А тебе, Настасья, одно говорю: блюди и дале сына свово, дасть Бог, будить он табе на старости подмога, штоб послужил чесно, и во здравии и многолетии дослужилси до чинов гиняральских.
Грохнуло и раскатилось по всему хутору: «Ура!». Засмеялся чему-то Онисим – поймал, наконец, какую-то казявку.
Выпили все за будущего служивого и пошла по столам казачья беседа, быстро опустели бутылки, исчезли и пироги, и пироженчики, как хмылом взяло жареных кур, нигде больше не видать ни свинины, ни телятины, ни ягнятины. Пропало со стола, начисто подмели гости доброе угощение и запросили то взвару, то нардеку, то кваску, то сюзьмы. А дед Аникей Степанович заиграл старинную народную песню, которую охотно подхватили хуторяне:
Ну и горд наш Дон, тихий Дон наш, батюшка.
Бусурманину он не кланялся,
У Москвы, как жить, он не спрашивался.
А с Туреччиной по потылице
Шашкой вострою век здоровкался...
* * *
Керосиновая лампа стоит на большом, покрытом самодельной скатертью, столе, выцветший ее, зеленый, засиженный мухами абажур собрал весь свет под себя и потонули углы комнаты, а с ними и тускло мерцающие киоты икон, в густом полумраке. Дверь заложена засовом, окно закрыто снаружи ставнями, изнутри плотно задрапировано толстой занавеской. Стоящая у стены кровать с едва белеющими высокими пирамидами подушек застелена широким, сшитым из разноцветных треугольников, одеялом. В комнате душно. Видно, что пуховая перина высоко взбита, и спать под ней – принимать муки мученические... Но таков уж порядок и обычай, и возражать против него никто и не вздумает.
Жалмерка Настя увидала Семена, когда шел он по улице и попросила его зайти к ней и написать письмо мужу ее Грише, на фронт, в действующую армию. А получилась там с Гришей неустойка: вот уже целый год, как не приходит он на побывку, в наказание за то, что, подцепив в каком-то польском фольварке гуся, попался с поличным. Привели его поляки к командиру вместе со смертельно перепуганным гусем. Скинули поляки шапки и заявили командиру:
– Пане плуковнику! Пшепрашам, але тэн козак у Юзефа гэнзя вкрадл!
Лицо полковника залилось багровой краской. Вынул он из кошелька золотой, отдал полякам и, выпроводив их, крикнул:
– Эй, дежурный, вахмистра!
Вытянулся вахмистр перед командиром, войдя в халупу, и лишь искоса взглянул на провинившегося. Бросил командир окурок папиросы:
– Забери его и научи, как гусей красть, а потом попадаться. А в отпуск домой он у меня до тех пор не поедет, пока вину не загладит. Идите!
Счастье Гришке привалило: не отдал командир его под суд, а, придя в конюшню, набил ему вахмистр морду, да так, что посинел он, как турецкий баклажан. Вот теперь и выглядывает жинка его понапрасну, вот и куликует одна-одинешенька со старухой-матерью.
Принесла Настя меда из ледника, налила чайную чашку, положила перо и бумагу, достала чернильницу, полную дохлых мух, и просит так письмо написать, чтобы, ежели подсунет его Гришка командиру вовремя, отпустил бы он его на побывку. Ить у них одной пшеницы семь десятин засеяно!
– Ну, говори, что писать.
Будто давно заученное наизусть, диктует Настя тихим, грудным голосом:
«Ляти, письмо, возвевайси, никому в руки не давайси, тольки дайси тому, кто мил сердцу мояму!
Посылаю я вам, дорогой наш супружник Гриша, поклон до земли сырой низкий, а ишо кланяется вам маманя моя Анна Сергеевна и сосед наш дедушка Поликарп Иваныч, жана яво, бабушка Сирахвима...
А урожай у нас в етом годе обломный. Никак бы нам не управиться, да спасибо Атаман, обирягаить он нас, жалмерков, и косим мы, и молотим, и возим всем хутором враз, всех он на работу выгоняить вместе. А и те казаки, што на побывку пришли, и они дни и ночи спину гнуть вместях с нами. А поморились мы ис матирей твоей во-взят, упроси ты командира твово, нехай хучь на молотьбу тибе отпустить. Скажи яму, што жана твоя Настя с хутору Песковатского, где и яво отец с матирей проживають, а мы яму по бабушке роднёй приходимся, нехай сроду раз уважить.
А телку нашу, што в прошлом годе у нас завялась, продали мы, денег надо было, новые колёса на арбе поделали и хомуты два купили, старые во-взят порвались, а ни я, ни мать, скольки мы их шилой не ширяли, ни до чего не доширялись, пришлося новые покупать.
Свиней, слава Богу, три у нас. Будить Ликсей Кумсков в полк ехать, пошлю табе мясы жареной, подсвинка зарежу, а сала у нас ишо летошняго много, хватаить, и сала табе пошлю, и каймаку».
Хутор давно уснул, тишина кругом полная, лишь звенит голос казачки:
«...И с тем, дорогой Гриша, няхай будить над тобой Покров Богородицы, и бирягись ты там от всяво, и никого не забижай зазря, знаешь, как оно потом другим концом бьеть тибе же.
И с тем остаюсь супруга твоя и жана...».
Только в конце третьего, мелко исписанного, листа нашлось место для подписи. Слегка наклонив голову, внимательно глядя на кончик пера, тихо шепча, повторяя нужные буквы, долго и старательно выводит жалмерка свою подпись: Настя Гуштина!
Отложив перо в сторону, будто вилы это, которыми нагрузила она целую арбу снопов, облегченно вздохнув, вытирает Настя запотевшее лицо уголком головного платка, схватывает стоящий на столе кувшин, быстро наливает и себе, и Семену меда, выпивает свою чашку одним духом, заставляет и его выпить так же свою и наливает снова полные чашки. Прижав чашку к губам, медленно всасывая пьяную влагу, смотрит она неподвижным взглядом. Вдруг обхватывает его обоими руками за шею.
Никто еще в жизни так его не целовал! Первым желанием его было вырваться и бежать, попробовал он, было, подняться и не смог. Всей грудью прижалась к нему Настя, впилась в его рот горящими губами, да так, что и дохнуть он не может. Но вдруг, оттолкнув его от себя так, что ударился он головой о стену, шипит:
– Уходи! Уходи отцеля, а то зараз кричать учну!..
Страшно удивилась тетка, найдя Семена в его комнате спящим. Родные его уехали еще вчера с вечера, а она, проводив их, отправилась спать, и всё бы хорошо было, не приснись ей под самое утро сон: будто тот подсвинок, что продала она его на прошлой неделе, стоит посередине гостиной и говорит человеческим голосом: «А мине бы таперь кваску испить!». Всполошилась тетка, лампадку зажгла, замоталась по куреню, тем разбудив гостя. Бегом отправился он домой, подойдя к пруду, разделся на ходу, с разбегу бросился в совсем еще холодную воду, плыл, успокаиваясь и бормоча: «Дура стоеросовая, с ума сошла!».
* * *
В Гурове церковное торжество: сравнялось ровно десять лет от дня постройки церкви, и поэтому решил отец Савелий, пригласив все соседние хутора, отслужить молебен с водосвятием.
Понаехало казаков видимо-невидимо. Кто знакомых в Гурове имел, сразу же заворачивал к ним во двор, а кто дальний был, тот распрягал прямо посередь улицы или где под вербами, бросал быкам или коням сена, открывал стоящий в задке специально привезенный кованный сундук и перебирался из дорожной пыльной одежды в парадную форму своего полка, надевая вычищенные сапоги и обязательно, несмотря на жару, калоши. Так полагается. Для форсу. Ну а бабы, дело известное, таких кофт, таких юбок, таких платков и шалей понавынимали, да так разрядились, что глядеть на них – не наглядеться. И Пономаревы все приехали, даже тетя Агнюша с детишками. А Муся-то, Муся, глянул на нее Семен и глазам своим не поверил, вовсе она взрослой барышней стала, надела по случаю торжества форму своего Института благородных девиц, да как пошла посередь улицы, так не было того казака, казачки или старика древнего, чтобы не обернулся и сразу же не спросил: «А чия же ты есть, красавица?».








