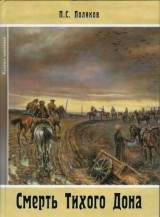
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
В той вэчир пожалилась вона нибыто голова в нэи разболилась, та й пишла дэсь писля десятого часу в свою кимнату. А гости трохы посыдилы, та й спаты пишлы. А мы вси возрадувалыся, слава Тоби, Господы, хоч сьогодни трошкы выспаться можна будэ. Тыхо-тыхо в паньскому доми стало. Тикы я та Оксана, горничная, в столовой серебро збыралы та порядок робылы.
А тут ти часы вдарылы. И тикы зачалы воны одзванюваты, зачулы мы такый крык з той мэльзэлыны, такый страшный дивочий голос, нибыто хтой-сь живу людську душу на адськы мукы кынув. Окамэнилы мы двое посэрэд столовой, як ти соляны стовпы, и слова вид страху сказаты нэ можем. И в той мэнт вскочив наш пан, як був у ныжнёму бильи, а за ным пани, тикы в тому, як його, в пеньюари, а блэдна, як та стинка, и оба нас пытаються:
– Кто это кричал? Откуда?
А показалось мэни, що голос той з мэльзэлыны був. И побиглы мы вси туды, як раз мымо тиеи кимнаты, у який вы зараз спытэ. А як раз до вашои двери и дверь та, що на мэльзэлыну вэдэ. Прибиглы мы, глянув я, й обмэр – стоить посэрэд той кимнаткы столык малэнькый, на йому зэрькало вэлыкэ, кныжкамы пидпэрто, справа и злива вид зэрькала свички горять, а панночка наша тут же, биля столыка, як той билый голуб, що його громом вдарыло, на полу в одний рубашци лэжить, тилькы на плечах шаль тэплый накынутый. Лэжить и нэ дышить, а блидна, як смэрть. Схопыв ии пан на руки, пидняв и понис додому. Мэнэ видразу за ликарэм послалы, аж вин в Ольховци, всього с пивверсты вид нас. Заприг я Ласточку в лэгки сани, та за дохтуром, за двадцять мынут його прывиз. Побиг той до пана, а я – у кухню. А Оксана там на табурэти сыдыть и тикы однэ шепче:
– Мэртва... мэртва... мэртва.
А сльозы в нэи, як той дощик, тэчуть...
Мабуть, в тому зэрькали молода панночка щось побачыла, що впала вид страху мэртва. Ось тоди й приказав мэни пан тэ окно дошкамы забыты. А й рик нэ пройшов, як пани-маты Женина, мабуть, з тоскы померлы. Видтоди пан кожного дню, кожну нич кого-нэбудь з гостэй в хати задэржуе. Боиться пан, я вам говорю, страх йому одному оставатысь.
* * *
Вечерний чай подали в небольшой комнате напротив библиотеки. Не столько пили, сколько о политике спорили.
– Как вы Столыпинскую реформу понимаете? – спросил сосед-помещик у хозяина.
– Столыпинский аграрный закон? Пожалуйста! Вкратце – с 1897 года по сей день два с половиной миллиона дворов вышло из общины и получило свою собственную землю, всего более 16-ти миллионов десятин. Крестьянский банк, особенно с 905-го года занявшийся скупкой помещичьих земель и потом продающий ее крестьянам в рассрочку или сдающий в аренду, с 1889 года по нынешний день скупил 18 миллионов десятин земли. Как видите – крестьянское безземелье медленно, но верно идет к концу.
– Баловство это одно. Слишком уж мы мужикам кланяться начали. Нет того, чтобы помещика поддержать, кредиты ему открыть, за мужиками ухаживают, – Обер-Нос затягивается папиросой и замолкает.
Хозяин дома, бросив короткий взгляд на него, продолжает:
– А вот как продаются у нас сельскохозяйственные машины – в 1900 году было их продано на сумму в 28 миллионов рублей, в 1908 – на 61 миллион, а в прошлом, в 1913-м, на 109 миллионов.
Пристав и тут возражает:
– Ах, не одни тут мужички покупали. И помещики, и немцы-колонисты.
– Хорошо, прекрасно, пусть и те, и другие, пусть на одну треть помещики и немцы, а две-то трети, безусловно, мужики. Да – и сеют они пшеничку и вывозим мы ее в год на 750 миллионов рубликов. Вон в прошлом, правда, очень урожайном году, собрали мы ее пять с половиной миллиардов пудиков-с. Жиреет мужичок наш, жиреет.
Обер-Нос ворчит:
– И прибавьте – продавали мы ее ни почем...
– Зато теперь сдерете вы за нее сколько захотите, да, а вот, например, картошечка – уродилось ее у нас один миллиард четыреста тридцать три миллиона пудов, сахарную свеклу сеем мы на семистах тысячах десятин, на четырехстах тысячах десятин разводим хлопок и имеем его тридцать четыре миллиона пудов в год. Нефти добываем 560 миллионов пудов, чугуна 283 миллиона, а железа 247 миллионов пудиков. Хватит и на пушки, и на снаряды, да с количеством рабочих в пять миллионов человек.
– А куда рабочие эти повернут, вовсе это еще не ясно.
– Никуда особенно они не повернут, кроме как в армию или к станку. Как сами вы из газет знаете, единение власти с народом полное, студенты, рабочие, курсистки, улица, на коленях перед Государем на Дворцовой площади стоят и «Боже-царя» поют! И вообще, бросьте вы каркать. Возьмите банки наши акционерные. В 1899 году имели они баланс в один миллиард триста восемьдесят миллионов, а теперь – шесть миллиардов, да, а сахарку мы 80 миллионов пудов в год делаем, по восемнадцать фунтов на душу населения. В начале этого столетия в сберегательных кассах имели мы триста миллионов вложений, а теперь один миллиард семьсот миллионов. Это ли не доверие народа к власти? Эх вы, а еще полицейский пристав!
– Вот в том-то и дело, что пристав я, немного побольше вижу и знаю, чем другие. На одной статистике патриотизм не развожу.
– Ах, оставьте! Разнервничался, гоняясь за пьяными клиновцами. Крепнет, крепнет наша матушка Русь, правда, с трудом, но прочно. И поэтому не боюсь я никак этой войны. Резервы имеем мы колоссальные, армию в десять миллионов солдат выставить можем и прокормить, и вооружить. А вот что через годик немцы с австрийцами запоют...
Рыжий помещик потягивается на стуле и тоже возражает:
– А как вы думаете, Вильгельм-то всего этого не учел? Как вы полагаете, немецкий генеральный штаб из дураков состоит, что ли?
Хозяин хохочет:
– Да Бог с вами, этак вы мне докажете, что немецкий генеральный штаб собственноручно австрийского эрц-герцога укокошил, лишь бы нас потом побить. Да для немцев вся эта история в Сараево, вся эта австрийская истерика, полная неожиданность. Еще раз говорю вам: долго немец не устоит...
Ужин окончился часу в одиннадцатом. У себя в комнате Семен читал Жюль Верна. За чтением не заметил, как прошло время, и вдруг, будто кто-то невидимый толкнул его: огонь свечи вытянулся так, что, того и гляди, от фитиля оторвется. Странно, окно закрыто, закрыта и дверь! Положив книгу, прислушался он к полной, звенящей в ушах тишине. Весь дом спит мертвым сном. Непонятное беспокойство охватывает его и становится ему жутко. Низко скользнув с подушки, натягивает одеяло до самых глаз. Свеча по-прежнему горит каким-то неестественным, недвижимым, мертвым светом. Но вот внизу, в далекой столовой, медленно раздаваясь по всему дому, начинают отзванивать часы: раз... два... три... одиннадцать, двенадцать... Г-гомм – прозвенело в последний раз, и, будто умерло всё в доме. И лишь тут вспоминает он, что вход на мезонин рядом с его дверью. И в тот же момент совсем явственно слышит, как там, за стеной, в левом углу потолка, видимо, в начале лестницы, ведущей с мезонина вниз, ставит кто-то ногу на верхнюю, первую, ступеньку. Тупо, но совсем ясно слышно:
Топ!
И через секунду снова, ниже:
Топ!
Семен не дышит больше, замер, лежит мокрый от страха:
Топ!
Гораздо ниже, уже на середине лестницы:
Топ!
Это она, умершая Женя, она это:
Топ!
Шаги вдруг прекратились, она стоит у выхода, страшное, жуткое, бесконечное ожидание... а что если она сейчас откроет дверь?
И вдруг – топ! – один шаг назад. Наверх! Второй... медленно, с усилием, тяжело и глухо. Всё выше и выше, дальше и дальше.
Топ! Едва слышно, совсем наверху, скорей, прошуршало, чем прозвучало в последний раз, заглохло, кончилось.
Не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, лежит он, парализованный, лихорадочно прислушиваясь и следя за вдруг ожившим, прыгающим по стене, трепетно и неровно горящим огнем свечи.
Бум-бум-бум-бум. Четыре раза бьют часы внизу, в столовой, это четыре четверти, и вот он, совсем низкий тон:
Бамм!
Час ночи! Время, когда нечистая сила прекращает свои хождения по земле. Неприятный, странный вкус во рту, мокрая рубашка, взмокшая простыня. За стеной, там, где спит отец, явственно слышен его кашель. «У-хх, слава Тебе, Господи! Пронесло!».
* * *
Часов в одиннадцать отправляются все по кривым и пыльным улицам Ольховки в другой ее конец, где, тоже в саду с длинной аллеей тополей, ведущей к дому с четырьмя облезлыми колоннами, встречает их на покосившемся деревянном крыльце Александра Ивановна, как всегда, бледная и томная, одетая в темное, очень идущее ей платье. Невысокая и томная, встречает она гостей, ни на минуту не спуская глаз с сына своего Алешеньки, мальчика восьми лет. И он бледен и нежен, и он одет в темный бархатный костюм. Оба они являются полным контрастом к отцу этого семейства – Александру Ивановичу, высокому, неладно скроенному да крепко сшитому, с огромным красным, прославившим его на всю губернию, носом.
Александр Иванович, Обер-Нос, всем вечно недоволен, состоит в Союзе Русского Народа, по его мнению, император Николай Второй правит слабо, распустил народ, на дворянство российское не опирается. России, кроме ежовых рукавиц, ничего не надо. А они партии понавыдумали, Думы, парламенты. Казаков тоже притянуть покрепче, а то и они балуются, но держать их наготове, чтобы могли они при надобности хоть пол-России перепороть, чтобы не увлекались там разными социализмами.
Скуп он невероятно, одевается неряшливо, бурчит на чрезмерные расходы на кухне. Здоровому человеку, считает он, кроме хорошего борща да каши, ничего не надо, а не баловаться разной ерундой, за которую купцы наши три шкуры дерут.
После обеда, состоявшего из постных щей и жаркого из говядины, идет Семен на половину хозяйки. Здесь так светло, чисто и уютно.
Был отец хозяйки крупным помещиком, но разорился, и умер от удара. Осталась сиротой еще совсем молодая Саша, и взял ее Обер-Нос из-за необычайной ее красоты, привез в Ольховку и похоронил в двух комнатах большого деревянного дома, зимой отапливавшегося лишь наполовину.
Получив на тарелочке каких-то очень вкусных домашних печений, усаживается Семен рядом с Алешей, и оба они начинают рассматривать прекрасно иллюстрированное издание пушкинских сказок. Семен не утерпел и шепотом рассказал о своих ночных страхах.
– Александра Ивановна, я и сейчас ее боюсь, я туда больше не пойду, я домой пешком убегу, можно мне тут у вас остаться? А то папа там снова ночевать будет...
– Ну, конечно же, скажу я, что тебе здесь, у нас с Алёшей интереснее, чем со взрослыми.
Поужинав рано, отправились в детскую, зажгли лампу, ели орехи и пастилу, пили чай с вареньем и слушали сказки Андерсена, пока под чтение тети Саши не уснули крепко и спокойно.
* * *
Проведя еще одну ночь у Мельникова, отпросился у него отец на день раньше и поехал домой, захватив сына от Обер-Носа. Вот она и Клиновка. Хаты здесь стоят так, как кому понравилось их ставить – и вдоль, и поперек улицы. Вчера прошел дождь, а после того крепко припекло солнце, середина улицы, нещадно взрытая колесами телег, будто вспахана огромным плугом, вся в кочках, колдобинах. Плетней, заборов почти нигде нет, хаты кривые, крыши покосились, солома на домах и катухах раздергана ветром, ворота, где они есть, стоят открытыми, жерди на них либо поломаны, либо оторваны. Вот она – голь-матушка. Здесь не видно ни души, лишь с другого конца села доносится нестройное пение:
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья...
Отец встрепенулся:
– Ага, гляди, да ведь это у них проводы новобранцев.
– А что такое новобранцы?
– Эх ты! Да это же по-русски то, что у нас называется – служивые. И говорят они, что не на службу они идут, а что забрили их.
– Как так – забрили?
– А это у них еще из старины, когда таким вот новобранцам в первый раз в жизни космы в порядок приводили, стригли и брили, принимая в армию.
Вывернувшись из проулка, попадают они прямо в густую толпу перед кабаком. Площадь гудит от пьяных голосов, криков и смеха, бабьих причитаний, пиликанья гармошки и треньканья балалаек. Разноцветные платки и юбки баб, мужичьи рубахи, кафтаны, посконные штаны, почти все они либо на взводе, либо вовсе пьяны.
Заплачуть братья мои, сестры,
Заплачить мать моя, отец.
Еще заплачить дорогая
С которой шел я под венец.
Гульба, видно, достигла высшей точки, лица красны и исступлёны, глаза мутные, блуждают бессмысленно и тупо. Вдруг возле самого кабака, взорвав и без того бурлящую, как котел, площадь, хватив сразу в две гармошки, охнула и ворвалась в народ «барыня».
Эй, барыня-барыня,
Сударыня-барыня.
А барыня угорела,
Много сахара поела...
Два мужика, один в красной, другой в белой рубахе, и с ними три волчками крутящиеся бабы, расчистили себе место для танца. Подскакивают еще молодые парни, толпа наседает поближе, сбивается к кабаку, проезжим неожиданно открывается возможность проскочить дальше, да не тут-то было!
– Сто-ой! Трр. Кто ты есть, добрый человек? Тпр-ру-у-у! Лошади останавливаются, к ним подбегают три мужика, один из них сразу же хватает правого коня под уздцы, второй, заскочив слева, хватает узду другой лошади, а третий, подбежав к отцу, глядит ему прямо в лицо, и выражение глаз его из сосредоточенно-злобного постепенно становится улыбчивым и веселым.
– Гл-ля-аа! Бр-ратцы! Сам Сергий Ликсевич к нам на проводы новобранцев прибыл. Э-эй, нар-ро-од! Господин капитан Пономарев в гости пожаловал!
Державшие лошадей подскакивают к отцу и тоже широко улыбаются. Кланяются чуть не в пояс:
– Премного вас за честь благодарим. Откушайте с нами водочки, с ребятами нашими, што за царь-отечество погибать идут, – и обернувшись к толпе: – Ти-и-шшаа! Нар-род православный, сам барин Пономарев к нам препожаловал.
Отец шепчет что-то ему на ухо, и тот орет снова:
– Брр-раты-ы! Их благородия нам, по случаю войны, три ведра водки становит!
Бабьи и мужичьи голоса сливаются в оглушительном крике:
– Ур-ра-а!
На крыльце кабака появляется какая-то фигура, в красной рубахе, посконных штанах и сапогах бутылками. Это кабатчик. Пробившись сквозь толпу, подбегает он к экипажу, останавливается у передка, быстро кланяется в пояс и моментально выпрямляется. Отец вынимает пачку ассигнаций из портмоне:
– А ну-ка, Матвей, вот тебе на всю честную компанию. Матвей поворачивается и хочет идти, но стоящие возле экипажа три мужика моментально хватают его за руки, сразу же вырывают деньги и, подняв их высоко над головами, машут ими в воздухе:
– Нна-р-ро-од! Вид-да-али! В-о-о! Для наш-шего бр-рата! Ишо раз «ура» его благородию!
– У-ра-а-а!
Один из мужиков подхватывает кабатчика под руку.
– А таперь пошли мы все вместях, штоб без обману. Знаем мы тибе. Выноси народу водку под нашим глазом.
Едва протиснувшись через толпу, исчезают все в дверях кабака.
– Премного вам, батюшка-барин, благодарны. Вовек мы этого не забудем, што удостоили вы нас, необразованных... – и он тоже молниеносно кланяется в пояс, чуть не ударив лбом о колесо: – Народ, сами видите, гуляет нонче. Ить с Клиновки нашей, поди, десятка два завтри на Царицын повезем. На станцию «Лог» поедем, во какое дело. И Ванюша, сынок мой, знаитя вы яво, он к вам на мельницу сроду пшеничку молоть возит, идет. Забрили. – Мужик всхлипывает и вытирает нос рукавом рубахи, поднимая синие, тусклые от старости, замутненные слезами глаза: – Слышь, барин, а скажи ты мине, ну чего энтому германцу надоть? Што, у нас свово горя мало, што ли?
А с крыльца кабака уже раздают поблескивающие на солнце бутылки «белой головки». Народ жмет к входу в кабак, начинается давка, поднимается такой крик и гам, что лошади испуганно прядут ушами, нервничают.
– Ишь, чёрт лысай, два раза норовит!
– Тю, гля, вострая какая, и она, мокрохвостка, туды же лезет!
– Стой не разбей, туды твою в гриву!
– Да куды-ж ты прешь, в гроб, в спасение...
– Тащи, пока пристав с запретом не прискакал. Ить от дню набилизации пить боле не приказано!
Кабатчик подбегает снова и протягивает отцу бутылку водки:
– Вашсокларродия! Выпейте и вы с народом!
Страшно понравился тут отец Семену. Схватив из рук кабатчика водку, повернул он бутылку в левой руке, ударил в ее донышко ладонью правой, быстро и ловко, так как это и мужики делают, пробка летит высоко в воздух, а отец, став во весь рост в экипаже, кричит в толпу:
– За здоровье ваших новобранцев. Чтоб всем им живыми домой вернуться!
И, приложившись прямо к горлышку, пьет водку, как воду.
Мужчины приходят в восторг:
– Ну, вот это булькотить!
– Правильный барин!
– Видать, выпить не дурак!
Говор, смех и шутки, снова навизгивает гармошка:
И-э-эх, рассукин сын, камаринский мужик,
З-загалил... иё, по улице бежит...
Отдав недопитую бутылку кабатчику, садится отец на сиденье и смотрит на сына:
– К «Камаринской» не прислушивайся особенно... выраженьица есть неудобоваримые для возраста твоего, впрочем, в самой распатриотической русской опере «Камаринская» эта ведущим мотивом...
Взмахнув кнутом, трогает отец лошадей.
– Ур-ра-а барину? У-р-ра-а!
Отец машет снятой с головы фуражкой, тарахтя и прыгая по ухабам, катится экипаж всё дальше и дальше. Вот и последняя изба. На заваленке сидит какая-то древняя старушка, быстро-быстро перебирает она пальцами оборку кофты, смотрит перед собой, ничего не видя и не замечая текущих по щекам слёз. Не замечает она и экипажа. А вслед ему несется пение сотни голосов, визг баб, звон балалаек, пиликанье гармошки.
З-заплачуть братья мои, сестры,
Заплачить мать моя, отец,
Иш-шо заплачитъ дорогая,
С которой шел я под венец...
Но всех перебивает разухабистая и звонкая:
И-эх, барыня угорела,
Много сахару поела.
Барыня, ты мая,
Сударыня, ты мая!
– Папа, а почему тот мужик тебя капитаном назвал, разве ты во флоте служил?
– Так это же по-русски, а по-казачьи это есаул. Всё, что у нас своего осталось, у казаков – чины. Понял?
* * *
Сегодня первый взявшийся сазан чуть не утащил с собой удочку, лишь в последний момент, схватив ее, подсек сазана и выводил и, подхватив сачком, вытащил на берег.
Бралась и плотва и, увлекшись поплавками, не заметил он как, поднимаясь все выше и выше, стало солнце в дерево. Клев кончился, пора сматывать удочки, звать гоняющегося по камышам за лягушками Жако и отправляться домой. Быстро взбежав на крутой склон, видит он своих разуваевских друзей, тоже возвращающихся с рыбалки. Они ловили в пруду, повыше плотины. Все казаки прекрасно знают, что кому принадлежит, и собственность чужую уважают крепко, никогда не запашут чужого пая, не угонят скотину, не увезут стога сена или копны люцерны, не пустят коней на чужой луг. Но вот насчет рыбальства дело совсем иное – по воскресеньям всем хутором, без всякого спроса, отправляются они на пруд господина есаула и ловят рыбу, совершенно не заботясь о правопорядке, по их мнению, рыба-то, она – известное дело – Божья! Ну так какие же могут быть разговоры! А к тому же, признаться надо, что в пруде ее столько, что хоть и целое Войско Донское на этот пруд рыбалить явится, и тогда всем хватит.
– Ге-эй, Семка, здорово ночевал?
Гришатка, по-прежнему чубатый, курносый и белобрысый, первым видит Семена и бежит к нему навстречу. Ого! – да они, почитай, все тут: Саша, внук Гаврила Семеныча, Мишка Ковалев, Мишатка и Петька, а последним прибегает Паша. У каждого в руке либо ведерко, либо кукан с уловом. Все тут же усаживаются в холодок под вербами – солнце начинает здорово припекать, а здесь, опустив ноги в воду, можно еще и поразговаривать. Первым выпаливает новость Петька:
– А мой братеня письмо с войны прислал.
– Да ну? А что пишет?
– Прописал он нам, што в Пруссии энтой вместе с конем чуть не утоп, спасибо, соскочить успел, а конь, как был с седлом, с сумами переметными, со всем, как есть, в один мент в той болоте на дно пошел. Тольки забулькатело да хлюпнуло, и враз сравнялось так, будто коня там и не было. Кинулись, было, казаки того коня вытаскивать, да чудок сами не потопли. И пишить он нам, што страсть одна война эта. А коня яму так жалко, ну так жалко, ху! Знаешь, ты коня яво, помнишь, как скакали мы летось. Ишо тогда платка я не поднял. На нем я скакал, помнишь, – рыжий, здоровый, правда, трошки вроде чижолый был. Ну, брату мому и мине вроде как третий брат он у нас считался. Как прочел то письмо папаня, так и заплакал, и маманя тоже, ну, и я закричал...
Петькин голос обрывается, сам он глядит в сторону и всем ясно видно, как, скатясь по щеке, медленно сбежала в траву светлая слезинка. Все ребята молчат, смотрят под ноги, тихо. Мишатка кладет руку на плечо Петьки и старается повернуть его к себе:
– А ты не кричи. Другого коня брательнику твому купитя, ишо получше энтого, слава Богу, што брательник твой выкрутилси.
– Да-ть так и папаня гуторють, тольки страсть как коня нам того жалко. Говорю вам, он у нас в семье как третье дите был. А другого покупать нам ня надо, из лизерьва там брату мому коня дали, пишить, што неплохой, тольки нашего Чертогона никаким другим не заменить.
– А што ишо пишить?
– А што он писать могёть – вон и Кумсков писал, вон и Сулин пишить, все они об одном: конец бы ей, войне, да домой. Тольки нельзи этого исделать, покель царя Вильгельма не побьють. Так начальство говорить. А брательник просить, штоб маманя яму две пары новых пагленок послала. Ить зима идёть. Всем кланяться велел и табе, Сёма, с отцом-матирей.
– Вот спасибо, ты ответь ему, что и мы все ему кланяемся.
Горя глазами, как двумя раздутыми угольками, рассказывает Гришатка:
– В хуторе Гурове один ранетый казак домой пришел, нам всем от брательника, от Ивана, поклоны привез, а мине каску немецкую. Кто хотить, можеть поглядеть прийтить. Ох, и красивая, черная, наверху вроде пики у ей прилажено, поди, из чистого золота, должно, тыщи каска такая стоить. Папаня ее в переднем углу на гвоздик пониже икон повесил. Нехай народ глядить. А твои браты пишуть ай нет?
– Нет, мы еще ничего не получали.
– И очень даже просто. Ить офицерья они, им делов поболе, чем нашим ребятам. Папаня мой говорил, што на войне там времени для писанины много нет... эх, домой пора, маманя пораньше приттить велела.
Все поднимаются, как по команде, вытаскивают из воды куканы и по очереди протягивают Семену руки:
– Покамисть! А ты когда в Камышин?
– Послезавтра едем.
– Когда вёрнисси, и войне конец будить. Обратно в Куричью Балку поедем.
Забросив голову назад, ударив ногой по траве так, как это норовистые кони делают, Паша сначала пятится боком, бьет еще раз в теплую землю голой пяткой, и с места берет наметом:
– А ну – хто перьвым в хуторе!
Гремя ведрами, мотая в воздухе длинными таловыми удилищами, мелькая черными пятками, понеслась вся компания по широкому лугу. Тяжело поднявшись, то и дело оглядываясь, идет Семен домой. Вон, далеко, совсем уже возле первых дворов, мелькнула Гришаткина фуражка и исчезла за слогами на алферовском гумне.
* * *
Под вечер на хутор приехали братья Задокины, крепкие хозяйственные мужики из села Липовки, которых отец давно знает. Старик Задокин, их отец, уже совсем седой, но еще живой и расторопный мужик, вырастил двух сыновей, хотел их к крестьянству приспособить, да как-то так вышло, что получили они интерес к торговле, стали прасольничать, сбили деньжата и, говорят люди, что ездят они теперь в Москву, возят туда скот, скупая его за Волгой. Что побывали они за два года до войны в Лондоне и в Гамбурге, и планы имеют большие.
Старый Задокин ругаться пробовал, по-хорошему отговаривал, да как показали ему сыновья толстый пакетик перевязанных суровой ниткой сторублевок, так и замолчал. А в помощь по хозяйству нанимал двух работников. Братьев же Задокиных встречали все с уважением, и ни на что народ так не дивился, как на их одежду. Носили они серые, английского сукна, костюмы, брились аккуратно, усы подстригали коротко, зачесывались по-городскому, и прозвали их Липовскими лордами. Говорили, не торопясь, умели выслушать собеседника, не перебивая, вели себя с достоинством, чёрт побери, и откуда у них всё это взялось? Не мотались ли они ребятишками без штанов по Липовке, как и все остальные? А теперь, поди-ка ты, иной и барин таких пальто не имеет!
Разговорчики эти братьев нисколько не смущали. Посмеивались они в усы и говорили без улыбки:
– А нехай брешут, кому охотка. Ить и брехунам как-то себя оправдать надо.
Вот эти братья Задокины и приехали.
Солнце уже к западу клонилось, когда подкатил казанский тарантасик с парой бойких сибирских лошадок к черному крыльцу пономаревского дома. И мать, и отец приняли гостей радушно, велено было ставить самовар, стол для чаепития вынесли в сад, под вишни, погодка-то уж больно хорошая, на вольном воздухе оно сподручней. И расселись все вокруг стола, заставленного всем тем, что послал Господь на казачьи хутора для христиан православных. Стоящие на столе разносолы исчезают быстро, не раз приходится посылать Мотьку, как по-новому выражается отец, за подкреплениями. Поставлен уже третий самовар, солнце припекает, гости разомлели, чай – кипяток, пот льет градом, и лежащие на коленях полотенца мокрыми стали, чаёвники не успевают вытирать выступающий на лицах пот. Ух, благодать – о какая! Слава Тебе, Господи!
Наконец выпита последняя чашка, перевернута на блюдце вверх дном и недогрызенный кусочек сахара положен сверху – знак, что гости чая напились. Всё со стола убирается, братья закуривают трубки, а отец достает папиросы, набитые любимым его табаком «Султан-Флор». Все предаются отдыхновению от трудов праведных, а в курятнике поднимается страшный переполох – кухарка гоняется там за какими-то петухами, никак не желающими понять, что по такому случаю решено их принести в жертву.
Лишь выбив свою трубку о каблук, окончательно придя в себя и отдышавшись, прерывает молчание старший брат Петр Задокин:
– А мы, господин есаул, Сергей Алексеевич, к вам по делу.
– Ну, и признавайтесь в чем оно, дело ваше.
– А как известно вам, занимаемся мы с братцем торговлишкой. По части скотинки. Всё больше ездим в Камышин, оттуда через Волгу в слободу Николаевку, а там у одного нашего человечка троечка лошадок припасена. На ней и прошныриваем мы степи заволжские. А там, в степях, тоже люди живут и им пить-есть надо, и они обороты кое-какие делают, но пока еще всё больше по старинке, дальше носу свово не видят. У того народца, наших и иных разных вер, вот у них, скотинку мы, когда зима заходит, и кормить ее не всякому сподручно, и покупаем. И сгоняем ее поближе к той Николаевке, да, пока Волга замёрзша, на этот бок скотинку перегоняем, ну а потом по чугунке в Москву. Дело это прибыльное. И вот порешили мы с братцем, особенно теперь, когда война началась, расширить его. Потому думаем мы с братом Михайлой так: коли уж что-нибудь делать, так уж без того, чтобы зазря кишки свои по бездорожью растрясать, а чтобы настоящий антирес получался. Камышинский воинский начальник, господин полковник Кушелев, дай ему Бог здоровья, присоветовал нам куда и к кому в губернии сходить надо, и с чем сходить сказал. Вот воинской службы нести мы и не будем, а по снабжению армии работать станем. Спроворили мы это дельце, да и господина полковника не забыли. И вышло у нас так, что и мы армии нужны, и что господин полковник нам нужен. И от нас ему польза. Вот оно, слава Богу, всё по-хорошему и устроилось. Одно только теперь у нас: делами-то заняться мы решили, а когда копеечки наши подсчитали – ан, глядь, нехватка у нас получается. И большая. Посоветовались мы с отцом, туды-сюды поприкинули, и вот порешили к вашей милости обратиться, не ссудите ли вы нас деньжатами? В заём, под предбудущий антирес. А мы значит, как зимнюю кампанию нашу проведем и скотинку ту в Москве продадим, когда ей настоящая цена будет, так сразу же тогда и к вам, должок назад предоставим, и тот антирес, который сами поимели, и вам уплатим. Скажем, вышел у нас заработак рупь на рупь, столько же и вы получаете, вышло на рупь по полтине – и вы полтину вашу так же, как и мы, имеете. Вот и просим мы у вас тысячонок с двадцать, более нам не надо, а с меньшим связываться расчету нам нет... – старший Задокин говорит с достоинством, медленно, глядя то на отца, то на брата, и, окончив, вытирает с лица вновь проступивший пот: – Ух, благодать-то какая, душе радость!
Уже по выражению отцовских глаз видно, что просьбу Задокиных он исполнит. Так оно и есть. Расспросив братьев подробнее об их планах, пожалев, что сам он инвалид и ни в какие дела вступать не может, тут же обещает дать нужные им деньги, скажем, в среду на следующей неделе, так как выезжают они в Камышин в понедельник утром, там у него деньги в Казначействе на текущем счету лежат.
За ужином сидят долго. Братья Задокины в шутливом настроении, рассказывают о своих приключениях в Москве и за Волгой, и, совсем разболтавшись, не щадят и собственного папашу:
– Старик он у нас с норовом, свой, отцовский, аторитет блюдет, одно ругается да выговаривает, да учит, как поступать, что делать, как и куда повернуться надо. И порешили мы папашу нашего проучить, штоб дюже не задавался. Для этого однажды пригласили папашу с нами в Москву-матушку поехать, в церквах Богу помолиться, на царя поглядеть, в Кремль сходить, в Царь-колокол позвонить, с Царь-пушки пальнуть. Словом, столько ему наговорили, что дал он нам свое согласие. А должны мы вас упредить, с тех пор, как родился он, дальше Липовки нигде не был. Шестой десяток пошел, а он по железной дороге не ездил. Как стерег мальчишкой скотину по нашим буграм, так и дожил до седых волос, кроме тех бугров ничего не видавши. Вот и повезли мы его сначала в Камышин. Приодели там, как полагается, штаны ему черные, жилетку, рубаху, спинжак купили, новые сапоги справили, никак он в ботинках ходить научиться не мог, всё осклизался. Часы ему с цапком купили, марки «Павел Буре», стальные, топором их бей – не разобьешь. Погрузили его во второй класс и везем в Москву, как цацу. И, поди ж ты, сразу он во вкус вошел: шумнём мы в вагоне проводнику, чтобы он нам со станции кипяточку принес, ан, глядь, не прошло тому много времени, и папаша наш покрикивать начинает. Денег от нас потребовал, в жилетный карман пятерку сунул, форсить зачал. Ну, думаем, погоди. В Москве, в хорошей гостинице, сняли номер на троих, для экономии, это папаше понравилось. Наутро переморгнулись с братом и действовать начали. А должон я вам сказать, что с большим он недоверием к нам был, боялся впросак попасть, что мы над серостью его мужичьей номер какой выкинем. И что бы мы не делали, за всем он в оба глаза глядит и лишь после того, как хорошо приглядится, лишь тогда действовать начинает. Да, вот утром встал я, подошел к рукомойнику, руки под кран подставил горстью, да так, не дюже громко, и говорю:
– Ваня, пусти-ка водицы!








