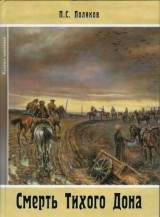
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц)
И высыпали из куреней девки одна другой краше. И так они всю улицу видом своим взвеселили, что даже солнце возрадовалось, выглянуло из-за облака, чтобы на них получше наглядеться, да, увидав их, так и осталось стоять на небе до тех пор, пока всё то девичье половодье не вошло в церковь. Глянув на них, глубоко вздохнули замужние казачки, поправили платки, шали и полушалки и высоко подняли головы, не хуже, как те кровные, норовистые кобылицы. И подкрутили служивые казаки лихие усищи свои и тверже дали шагу в лакированных сапогах своих. И чаще засеменили сухенькими ножками древние старики, пыля по середине улицы. И глубоко вздохнули и вспомнили старое доброе время хуторские бабушки. Набилась церковь народом так, что ежели бы даже и сам войсковой атаман приехал, так и он бы до середки не дотискался.
Добрых два часа служил отец Савелий торжественную службу. А когда подошло время к причастию, вышел он на амвон и предложил всем, как есть – Бог простит, что не говори – удостоиться принятия святых Тайн по тому случаю, что большой это ноне праздник в хуторе, и потому еще, что страшные дела вокруг нас совершаются. «Ибо теперь, сказал он, как никогда прежде, не ведаем мы ни дня, ни часа суда Божия». Покорно став в очередь, причащались все. Причастив паству свою, приступил батюшка к молебствию, заиграло солнце золотыми лучами своими на ризе его новой, озарило чудок вроде сединой побитые кудри его, высоко, под самый купол, поднялся дым кадильный и чудно зазвучали слова молитвы:
«Святителю, отче Николае, моли Бога о нас...
Моли Бога о нас, святителю, отче Николае, яко мы усердно к Тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших...».
Окончив молебствие, вышел отец Савелий, осенил крестом всех молящихся и заговорил с амвона так, будто про сенокос или об рыбальстве:
– Братия и сестры, станишники и станишницы. Привел нас Господь Бог наш еще раз купно помолиться перед Престолом Его. Порадуемся же тому паче и паче, ибо зашли времена страшные, наступили дни искушения и узрили мы падение трехстолетняго трона и уход всеми оставленного императора, сумевшего в благородных прощальных словах своих показать нам, что был он человек хороший и чистый, а потому лишь погиб, что за великой любовью своею к России и к царице, жене – матери детей его, не узрил, не понял всей силы надвигавшейся над головой его бури. Не осудим его, памятуя, что сердце царево в руце Божией и что удел таких, как он, – удел праведников и мучеников. Помолитесь за него, за детишек его и супругу, жену суетную, и обратитесь взором и помышлением своим в собственный наш курень, казачий. Слыхали вы, что послал нам Бог мужей мудрых, что после почти двухсотлетнего перерыва, насилием злого царя Петра содеянным, созвали они старинный наш Круг и выбрали на нем нашего усть-медведицкого казака в атаманы. Понадеемся, что наделит его Господь мудростью змеиною и верностью Дону-батюшке, что скличет он, атаман наш, всех казаков своих силу нашу ратную домой, на Дон тихий. Ибо чую я, грешник, что заходит над нами туча грозная и, может это статься, что и нам придется, как предкам нашим в Азове, твердо стать за Дом Пресвятой Богородицы. Помните вы, сами знаете, что в осаде Азовской осталось защитников его полчетверти тысячи, а и те все переранены были. И, усумнясь в силах своих по дальнейшей городской защите, решили они тогда лучше в открытом бою лечь костьми в поле чистом, чем погибнуть в городских развалинах. И, отслужив последний молебен, попрощались они друг с дружкой в церкви, так же, как и у нас, посвященной святому Николаю, вышли в степь на вылазку и узрели неприятельские рвы и завалы порожними. Мать наша, Пресвятая Богородица, покрыла Азов-город Покровом своим и отвела от него силы вражые. Крикнув из последних сил, кинулись те бойцы азовские на садившихся в корабли турок и набрали полону и добычи столько, что и счесть тогда не сумели. Взяли в плен пашей турецких и знамена енычерские, и пошли, и поставили монастырь, и атамана своего избрали игуменом.
Спокон веков блюдет нас Богородица, мать и защитница наша. Не сумлевайтесь же, помня сидельцев азовских, но вооружитесь духом ихним и врата адовы не одолеют вас.
Взяв крест в обе руки, поцеловал его отец Савелий сам, и пошел народ ко кресту тому прикладываться. Будто и они все брали на себя клятву сидельцев азовских. Истово крестясь, выходили чинно из храма и сказал дед Листрат то, что весь хутор думал:
– Хороший поп у нас! По-нашему, по-казачьи с амвону гуторить. Иной какой архирей, али гинярал полный, никогда против яво не устоить!
А в церковной ограде давно уже столы накрыли, уставили их вареным и жареным и расселись за ними хуторяне и гости и, разоблачившись, присоединился к пастве своей отец Савелий. В первый раз это сегодня, что после доброго угощения и выпивки никто не завел песни, а перекатывался волной меж сидящими разговор негромкий и тревожный, и уже там и тут слышно, как крепко станишники заспорили.
Вон, раскрасневшийся от выпивки урядник говорит хуторянам:
– И скажу я вам, што революция эта всех, как есть, врасплох застала. Таперь которые министры и гиняралы за головы хватаются, да как же это так, говорять, проморгяли мы такую делу? Иду я это одново разу в Питере по улице, стоить какой-то, видать, бывший барин, стоить, пальта у яво расстегнутая, ветер полы яму рвёть, дощ на яво капить, а он, как дурной, сам с собой говорить: «Катаклизьма... катаклизьма...».
Вот-те, думаю, и катаклизьма. А почаму нас, фронтовиков, никто не вспросил? Почаму отменили приказ пяхоту с Питеру убрать, а казачий конный корпус туды ввесть? Ить всю энту катаклизьму ихнюю городская сволота исделала. Вот и подурели все. Алексеев-гинярал и тот шумел: светлые дни революции. Вот те и светлые, когда пьяные солдаты и матросы офицеров сотнями по улицам понабили...
Какой-то старик наклоняется поближе к уряднику:
– А царь-то, он што ж глидел? Хозяин он ай нет в дяржаве своей?
– Х-хоз-зя-ин! Да вот он-то как раз всё и проморгал. А когда узлом к гузну у яво подошло, послал он Иванова гинярала с отборными полками и полную полномочию яму дал... а тот подошел к Царскому Сялу, а царь сам со Ставки выехал, и тольки до станции «Дно» доехал, а там яво и зашшучили.
– Да хто же это могёть самого царя зашшучить? А иде же конвой яво был?
– Поди, бядняк, к жане с дятишками хотел...
– А вы суды слухайтя, подойдя к Царскому Сялу, услыхал гинярал Иванов будто против няво полк какой-то идеть, испужалси, будто братскую кровь проливать не хотел, и отступил в Вырицу, а с ним восемьсот солдат, всё, што у няво осталось. А остальные полки яво расстряслись, как те индюшата в стерне, железнодорожники скрозь рельсы пораскидали, вот и получилось, што один яво полк, Тарутинский, на станцию «Александровка» пришел и там яво обманом разоружили, а другой, Бородинский, в Луге оказалси, и ехать яму никуды не возможно. А остальные полки промеж Псковом, Лугой и Двинском позастрявали. А энти, из Думы, – к царю. И одно: «Отказывайся, будя, поцарствовал». Два раза гиняралов своих вспрашивал, а што на это казаки скажуть, а те яму: «Отрякайся, и казаки про тибе слухать не хотять».
Старик, сосед урядника, вскакивает:
– В-восподи! Да когда же нас вспрашивали?
Урядник усмехается:
– А ты, дед, сядь! Таперь никто никого не вспрашиваить, а хто умееть – тот и действуить. А они одно – катаклизьма...
А вот ишо и Керенский энтот, в прогрессивном он блоке. И энтих прогрессивных, вроде сказать, вперед идущих, тоже мы обнюхали. Одно слово: жулики и обманаты, ловкачи, вроде энтих на ярмонке, што людям глаза отводють...
– Да што же это такое, ить у царя, шутка сказать, десять миллионов солдат, чатыреста тыщ офицеров, и никто за няво не заступилси?
– Ну, солдатам за яво заступаться никак не приходилось. А остальные, те, што возля царя кормились, как зачалась энта светапредставления, катаклизьма ихняя, все, как есть, в кугу полезли. Сволоча.
– А иде ж казаки были?
– Ха, казаки! Все, как есть, казачьи полки перед революцией на фронт угнали. А старую гвардию, ее всю в боях с немцами перевели. А в Питере батальоны пяхотные, из энтих мужиков, у которых сотни годов тольки одна думка и была, как бы до земли дорваться. А што немец, што француз – один им чёрт. Вот и поперли они грабить и арестовывать, да как! Сам видал: вядуть матросы одного, испрашиваю их, за што вы человека взяли, а они мине: «А он за Радзянку». Повернулси я иттить, а там ишо какого-то штрюцкого пяхотные солдаты волокуть, вспрашиваю их: «За што вы яво забрали?», а они в один голос: «Он против самого Радзянки!». Как орудують!
– Так вот оно почему царь со «Дна» не поднялси.
– Тю-у-у! Да он перьвый телеграмму царю послал, штоб отрякалси тот. А когда царя убрали и Миколай Миколаич главным командующим стал, то долго он не засиделси, тольки и всяво, што с Кавказу до фронту доехал, а тут яво и спихнули. Крутнулси он круг сибе и об одном просил, штоб яво в Крым к жане пустили, под юбку ее хорониться. Вот те и великий князь! А тут энти большевики газетку исделали, «Известия» называется. И в газетке той какой-то Нахамкис написал, што каждый солдат, каждый гражданин праву имеить кажного риакционного гинярала на месте сам убить. Поняли, куды это повернуто? На гиняралов, как на зайцев, охотиться всем право давалось.
– Да ты случаем не брешешь? А какие же это гиняралы риакционеры?
– Пойми ж ты, садова голова, не в том дело – риакционер али нет, а в том, што кажный кого хочет убивать могёть, без суда и следствия. Ить в одном Питере боле тыщи офицеров солдатня побила. И одно оруть: долой баронов, фонов и прочих шпиенов И тут же сто пятьдесят гиняралов правительство из армии, с постов ихних, поскидывало. Да, и зачали пяхотные офицеры красные банты цаплять. Со страху.
– Што ж, пропала Расея, а, как ты думаешь?
– Как же иначе думать свелишь? В городах солдаты винные погреба разбивають, перепиваются, в вине тонуть, а как выскочить такой пьяный на улицу, так и бьеть, кого хотить. Скольки баб поперепортили, скольки помешшиков побили, поместий сожгли, скота порезали! И новый русский Распутин явилси, по фамилии Ленин, немцы яво в запломбированном вагоне как шпиена к нам прислали, большавицкий он вожак, одно знаить на митингах орёть: землю должны мужики брать силой, ничего не дожидаясь. Вот и пошел пожар по всей Расее, да такой, што даже Керенский ужаснулси, да как зашумить на фронтовом съезде 29-го апреля: неужели русское слободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Жилею, што не помер я два месяца тому назад, кабы тогда помер я, то с мечтой, што раз и навсягда для Расеи загорелась новая жизня, што умеем мы без хлыста и палки уважать друг дружку!
– Ага, припякло!
– Значить, правильно говорится, што до тех пор стоить Расея, пока мы ее плетями порем.
– Н-да, вот сам таперь и прикидывай. Ить недаром же сам Пуришкевич, монархист, предложил Думу к нам на Дон перевести и у нас же Учрядиловку собрать, под защитой казачих плетюганов, штоб обратно, как ишо при царе Алексее Михайловиче наш Межаков, так и теперь казачьими руками русским власть ихнюю становить...
– Дыть это же Содом!
– Не, не Содом, а дом веселый. И кончить его тот, хто снова всю Расею под плетюган, а либо под пулю поставить... И как бы ученый я был али гинярал, или аблакат, другая бы дела была, ну всё одно считаю, што таперь Каледину полки все, как есть, наши надо на Дон собрать и свою думку зачинать думать...
– То ись, какуя же это свою думку?
– А такуя: Москва сибе, а мы, казаки, сибе!
* * *
«...Одна, две, три, четыре пять, шесть, семь, восемь, девять...», – Семен стоит у ограды, отделяющей чистый двор от скотного, и считает клиновских баб, перебегающих по мостику от мельницы. Быстро, горбясь, кутаясь в платки, прикрывая лица рукавами, чуть не рысью, минуют они дом, заворачивают меж ледником и каретником и спешат туда, к саду, полному антоновки, белого наливу, ранета, бергамотов.
Урожай в этом году обломный. Чуть не каждый день ходил он с бабушкой в сад, сколько раз заботливо осматривала она деревья, сколько раз посылала его то за Матвеем, то за Микитой, еще один шест принести, подпереть еще одну, слишком перегруженную плодами, ветку. Подвязывала и сама, веревочками и мочалками, боясь, что поломаются они под тяжестью помутневших, налившихся соком антоновок...
«...Десять, одиннадцать... двенадцать... тринадцать... пятнадцать...».
Отец – нога у него опять разболелась – вышел на балкон и смотрит, не спуская глаз с дефиле клиновских баб, полуодетых, грязных, нечесанных, босоногих, баб, тянущих с собой то мешки, то корзинки, то, за полной бедностью, продранное и кое-как стянутое мочалкой решето.
«...Шестнадцать... девятнадцать... тридцать... тридцать шесть...».
Второй Спас сегодня. Еще с раннего детства запомнил Семен этот день. В их доме, как и по всей Донщине, соблюдался бабушкой порядок этот твердо: никто фруктов нового урожая не ест до тех пор, пока не поедет она на Второй Спас в Ольховку, в церковь, и не освятит там мед, яблоки, груши и виноград. Кто же позавидует на хорошее яблоко или грушу, да сьест до этого дня, всем родственникам его, што померли, не дадут ангелы Божие никаких фруктов на том свете испробовать. Вот и на этот раз приготовила бабушка всё, как положено, завернула в белую скатерть и стояли плоды, Господом людям посланные, в ожидании освящения... и дождались!
«...Сорок... пятьдесят... шестьдесят...».
Еще позавчера пришли поздно вечером два казака, посланные хуторским атаманом, и сообщили, что, как дознались в Разуваеве, порешили клиновцы как раз на Второй Спас обобрать сады Пономаревых, а подговорил их к тому Федька-астраханец. Предложил атаман прислать десяток казаков с плетюганами, да глянула бабушка на образа, перекрестилась и сказала:
– И не подумайте, нехай идут, у кого совести хватит.
Ошиблась бабушка. Ничего с совестью не получилось.
Почитай, половина Клиновки была им должна. То сена, то соломы брали, то ржи, то пшеницы, а то и деньгами. А как и не дать – придет такой, ободранный, босой, переступает робко с ноги на ногу, мнет шапку в руке, скинув ее еще у мельницы и пройдя весь двор с непокрытой головой:
– К вашей милости, Сергей Алексеевич. Сами знаете, какое наше хозяйство, жана ипеть хворая, мать на печи лежит, рематизьмой скрутило, а трех детишков правдать надо...
И такими глазами смотрит, хоть и знает отец, что навряд назад что получить придется, смущается, путается, говорит ерунду, потому что страшно всё это ему неприятно, и, в конце концов, зовет сына:
– Слышь, пойди-ка ты вот с Иваном к мельнику, скажи ему, чтобы отвесил он пятерик ржи...
Мужик мнется и дальше, глядит в землю и лишь молниеносно пробегает взглядом где-то выше глаз отца:
– Вашскоблародия, батюшка-барин, Сергей Алексеевич, мине бы хучь с пудик мучицы пшенишной, с пудик бы...
На дворе давно захолодало, лунки за ночь подмерзли, только к полудню стало оттаивать, а он, Иван, гляньте только на него, босой, с черными, грязными, в мозолях и ссадинах, ступнями, стоит, будто примерз к земле, и чувствует отец, что все равно не сойдет с места, пока не выпросит всего того, что ему нужно. И поэтому начинает отец страшно куда-то торопиться:
– Да-да, скажи Миките, скажи, пятерик ржи да пудик крупчатки. Да, а мешки-то у тебя есть?
– Есть, есть мешочки, захватил я, батюшка-барин, захватил. Век Бога молить будем... по гроп жисти...
Отвесив чуть ли ни земной поклон, трусит мужик вслед за панским сыном, трет заскорузлыми ладонями глаза, бормочет что-то про Богородицу, про то, что беспременно в предбудущем году весь должок возвернет он, сполна назад отдаст, лопни глаза, да, а ему, Семену, такую теперь самоловку сплетет, какой во всей округе не сыскать. Мастер он этого дела, что-что, а самоловки плести первый он в Клиновке. Ей-богу!
«...Шестьдесят одна... две... три...».
Как ошалелая, выскочила из дома Мотька. Была она у мамы. Забежала мама в гостиную, упала там на диван, прижала платок к глазам и зашлась в плаче. Вошла к ней бабушка, и вихрем вылетела Мотька на балкон:
– Г-га! Дывысь! Клиновськи сучкы понабиглы! Чуже добро грабуваты!
Будто кнутом полоснуло по бегущим через двор бабам:
– Х-ха-а! Холуйка хохлацкая, а што, все урыльники хозяйские посполоскала, офцерская блядища!
– Подлюки бисови, стервы прокляти!
Быстро поднявшись со своей приступки, втолкнул отец Мотьку в кухню и захлопнул за ней дверь. Размахивая корзинками, грозя кулаками, взбешенные и раскрасневшиеся, уже готовы были бабы кинуться в дом и расправиться с «панской подтиркой», да увидав, что большинство их подружек уже там, в саду, услыхав там и смех и хруст ломаемых веток, поняв, что делёжки поровну все равно там не будет, а попадется каждой лишь то, что сама она отбить сумеет, молча бросились вслед за своими товарками.
«...Шестьдесят четыре... пять... шесть!». Шестьдесят семь баб насчитал Семен и, когда исчезла последняя за ледником, побежал к матери.
Немного успокоившись, сидела она рядом с бабушкой на диване, нервно перебирала пальцами совершенно мокрый платок и, глядя мимо всех, шептала:
– Да что же это такое, Господи, да что же это такое...
Отец шагал из угла в угол, тяжело хромая, и только тогда перестал, когда прикрикнула на него бабушка:
– А ты што, господин офицер, в маятники нанялси, што ли? А ну-ка сядь да сам в сибе приди. То ли еще будет!
Под вечер бабушка и Семен отправились в сад, в ужасе остановились они, и в первое время не могли произнести ни слова: будто ураган прошел, будто град побил всё живое, будто саранча уничтожила всё растущее, будто вандалы хозяйничали, намеренно стараясь принести как можно больше ущерба. Только несколько верхних веток осталось на деревьях. Обломанные, совершенно без листьев, ободранные, валялись ветки кучами, так, что и пройти теперь по саду невозможно было. И так все деревья изувечены, что ясно стало: сада этого больше не восстановить. Долго, молча прижав платок ко рту, будто опасаясь, что закричит она от страшной боли, стояла бабушка. Повернулась уходить и заметила вдруг, что в канаве, откатившись под лопухи, лежит маленькое красное райское яблочко. Медленно подняла она его, отерла платком и поцеловала.
– Пойдем, пойдем отцель, внучек. Дома я каждому от яблочка по дольке дам, пусть съест, как причастие примет. Последнее оно из саду нашего...
* * *
Мотькин отец приехал, будто снег на голову упал. Как был в грязных сапогах, с шапкой на голове, так и вошел прямо в столовую, где как раз накрывала Мотька стол для вечернего чая. Ни с кем не поздоровавшись, ни на кого не глянув, прямо обратился к дочери:
– А ну, Мотрино, збырайси. Одягайси, та й поихалы. Досыть тэбэ паны иксплютувалы.
Лицо мамы покрылось красными пятнами:
– То есть, кто же это дочь вашу эксплуатировал?
– А хто ж, як нэ вы!
Медленно поднявшись с кресла, вырос вдруг отец посередине столовой, дико блеснув глазами, указал Мотькиному отцу на дверь и прохрипел:
– П-ш-шол вон отсюда, хам!
Будто глотнув особенно большую галушку, глянул тот на отца, вдруг сгорбился, схватил с головы шапку и начал пятиться к выходу:
– Та вы ж, панэ, нэ той, нэ сэрчайтэ! Та хиба ж вы нэ знаетэ, що воно и як? В Совити мини сказалы про иксплютацию, щоб враз доньку привиз, а нэ то бида мини, барскому прыхвостню, будэ.
Ударив обоими кулаками по столу, вдруг заголосила Мотька на весь дом:
– Никуда я до тых хамив нэ пойду, тут зостанусь, тут...
Долго уговаривали Мотьку. Плакала она, плакала мама, плакала и бабушка, а отец ее, усевшись за стол, положив себе шапку под ноги на ковер, пил уже чай, дул на блюдце, аккуратно откусывал сахар и говорил тихо, дребезжащим голосом:
– Послидни врэмэна заходють. Посгубылы люды совисть... нэма царя, нэма й правды!
Вечером уехала Мотька.
Проснулся Семен от какого-то странного шума, будто мышь скребется или кто-то снаружи по окну тихонько пальцами перестукивает. Затаив дыхание, услыхал снова по-прежнему осторожный стук. Быстро открыв окно, едва разобрал темную фигуру, прислонившуюся спиной к стенке. И сразу же угадал Мотьку.
– Ты откуда взялась?
– Панычку, скорий одягайтэсь, бо клиновцы вас заарэштуваты хотять. За оту вашу оружию, що вы на стинках понавишалы, нибыто збыраетэ вы всэ цэ проты народу. Воны мусять зараз, ще до зари, тикы ще нэ выдно, за вамы приихаты. Хотять так вас забраты, щоб козаки в Разуваиви нэ узналы, бо казакив бояться воны, а як увэзуть в Клиновку, а потим до нас, в Ольховку, думають, що казаки вийной на ных черэз вас нэ пидуть. Тикайтэ, сховайтэсь, а я побигу, казакив сбулгачу!
Едва выговорив последние слова, исчезает Мотька в акациях. Ни минуты не раздумывая, наскоро одевшись, выскакивает Семен в окошко, пробегает к лесу, спускается к реке, идет вброд и выходит на островок под старую вербу. Тут его и аэропланами не найти.
Тихо, совсем тихо, еще толком ничего и не видно, но чу, что это там такое, будто вода булькает, будто в краснотале и камыше шум какой-то, ах, радостный визг, и горячий Буянов поцелуй прямо в нос хозяину. «Фу, будь ты неладен, разыскал, нечистый дух. Лежи тихо и не двигайся!». Прижав друга своего к боку, прислушивается Семен, но спят еще речка, и лес, и степь, и бугры, и ничего, кроме онемевшего от счастья Буяна, не слыхать...
Ага! А это что такое – ну, конечно же, от Клиновки, это ясно, слышен нарастающий перестук колёс, так и есть, всё слышней и слышней, вон, прогрохотали телеги по мосту, взлаяли Сибирлетка и Полкан... Но что это? От Разуваева через луга всё слышней и слышней, всё явственней мягкий топот копыт прямо к плотине. Узкая она, видно, пошли по ней кони гуськом.
Вслушиваясь внимательней, решает Семен, что проскакало не меньше десятка конных. Любопытство одолевает его так, что, забыв о Буяне, бросается он вброд, пробирается снова сквозь прибрежные заросли краснотала, быстро обувается и идет к дому так, чтобы в любую минуту можно было исчезнуть в камыше или в лесу. Страха он не чувствует, кажется ему, что всё это лишь продолжение той игры в индейцев, которой занимались они в последний раз месяц тому назад с казачатами из Разуваева и Мусей, Шурой и Валей. Лишь теперь замечает он, что посветлело небо, что уже хорошо различить можно белеющую мелким песком тропинку, темнеющий строй деревьев, а вон и уже совсем хорошо слышны голоса от мельницы. Остается пробежать через гумно и забраться на чердак половни, там окошко есть прямо во двор. Ох, вон они: посередине двора стоят три подводы, прижавшись к ним спинами, плотно сбились друг к дружке три солдата и пятеро мужиков. Семь человек конных казаков окружило их со всех сторон, а двое стоят рядом, держа в руках опущенные к земле прикладами винтовки. Окошко разбито, можно прекрасно всё слышать:
– А таперь, – атаман в седле, как влитой, – яжжайте вы домой по-добру по-здорову, покель я не осярьчал. Совет ваш клиновский нам не указка. Ишь ты, дитё несмышленое заарестовать захотели. А против вашего народу никто тут никаких оружиев не сбираеть, а трахвеи эти ихние, которые они, кровь на фронтах проливаючи, от врага достали. Понятно, ай нет? И эти трахвеи, штоб они вам глаза не мозолили, я зараз в Разуваев забяру. Ишь ты, вострые какие, чужое подбирать. А ежели вы, да посля того, што вы с ихним садом исделали, ишо какуя дурнуя намерению эаимеитя, дяржитесь тогда! Шутить ня буду. А вот ети две винтовки, што вы с собой приволокли, у нас останутся. Ишь ты, гярои, против дитя с винтовками вышли. А таперь – вон отцель!
Один из солдат вдруг взрывается:
– Это ж контрреволюция! Разоружать нас никаких правов ты не имеешь! Я зараз всю Клиновку подыму... я...
Ага! Да это же Фомка-астраханец. С расстегнутым воротом, с красной повязкой на рукаве, машет он руками, как ветряная мельница, и рвется его голос, полный ненависти. И тогда осадил коня атаман. Стоявшие рядом с ним конные раздались в стороны и, взмыв в воздухе, сверкнула выхваченная из ножен шашка и опустилась к правому стремени. А конь стоит, будто вкопанный. Тихо стало у мельницы, будто подавившись, замолчал Фомка. Бросив короткий взгляд на соседа слева, коротко приказал атаман:
– Ану – обыскать яво!
Как восковая кукла, слишком уж как-то безучастно стоит обыскиваемый и даже бровью не поводит, когда вытащили у него из кармана шинели заряженный наган.
– Ну-кась, Софроныч, и энтих всех!
У остальных оружия не оказалось. Атаман прячет наган в карман.
– Т-та-ак! Как говорится – на семи сидела, а девять вывела! Понадеялись вы улову, да выводок в камыши ушел! А таперь – исчезайтя, покель я ишо добрый!
Не говоря ни слова, мужики суетливо, солдаты спокойней, но тоже с оглядкой, рассаживаются непрошенные гости по телегам, трогают лошадей. Только уже на той стороне речки поднялся Фомка в телеге и погрозил кулаком. Только хотел он что-то крикнуть, как и прокатился, будя хутора и степь, сухой винтовочный выстрел. Натянули постромки испуганные лошади, высоко задрав ноги в воздух, упал Фомка на дно повозки. Стрелявший казак спокойно оглядел винтовку и быстрым движением закинул ее за спину. Атаман потемнел лицом:
– Ты што, взаправди?
– Иде там, тольки попужать!
Мужичьи телеги уходили всё дальше и дальше. Видно, как поднявшись в телеге, уселся Фомка, держась руками за товарищей. Дружно разразились хохотом разуваевцы:
– Ага! Таперь два раза они прикинуть, перед тем, как суды ехать.
Семен слезает со своего наблюдательного пункта, и сразу же, у входа в дом, чуть не задушила его мама:
– Нет-нет, не могу я здесь больше оставаться. Это же дикари, каннибалы. Нет... нет...
Заводя коней под навес, казаки весело переговариваются. Бабушка заторопилась тесто поставить, чтобы пышек напечь, Сергей выставлял кое-что, чем и горло промочить можно.
* * *
Собравшись у дяди Андрея, после долгих разговоров и прений порешили Пономаревы, что поедет бабушка на зиму в Разуваев, к тетке Анне Ивановне. Дядя Андрюша и тетя Вера переселятся к тетке Агнюше, туда и скот свой перегонят. Выждать надо, вон, говорят, скоро Учредительное собрание соберется, оно-то уж в порядок всё приведет. А Муся в Черкасск уедет, учиться надо.
С мужиками же в Клиновке и Ольховке дело вовсе дрянь. Вон Александр Иванович, Обер-Нос, так тот в Арчаду от греха подался. Прямо ему сказали, что не сносит он головы, если и дальше мужикам глаза мозолить будет. Забрал жену и сына и ночью уехал в одной «казанке», почти ничего из дома не захватив. Забил окна-двери, привязал к грядушке последнюю корову, остальную скотину распродал, и был таков. А Анемподист Григорьевич, тот, что библиотеку им продал, так он давно уже на Кавказе, к какому-то знакомому грузинскому кунаку-князю уехал. И правильно сделал – мужики, никого не спрашивая, сами все земли помещичьи позапахали. А Мельников, так тот в Москву укатил, там, как говорят, какие-то русские национальные силы собираются, монархисты ли, кадеты ли, кто их теперь всех разберет. А наши никуда далеко не отбиваются. Тут земля Войска Донского, нечего тут мужикам делать, пусть они у себя в России порядки свои наводят, а не у нас, казаков. Отец же решил в Камышин ехать, чтобы учебный год у сына не пропал.
И вот, когда уже укладываться хотели, приключилась с бабушкой история: пошла она утром рано в ледник, свежего каймаку принести хотела. Тут оно и стряслось. Сама она, прибежав в курень, рассказывала:
– Иду это я, только што хотела вертушку открыть, когда – глядь, а налетели грачи, оттуда, вроде от плотины, с севера сказать, налетели, да не два-три, а туча целая. И откуда их столько взялось? Да как кинулись они на те катухи, что соломой крытые, как саранча их пообсели и зачали с тех крыш клювами солому дергать. И такой грай, такой хай подняли, што уму непостижимо. А как выдернет один грач соломинку, так вскагакнет, и – в лёт! Обратно, на север. И нет его больше с той соломиной. Сроду я в жизни моей ничего подобного не видывала. Ох, не к добру это, не иначе, как предзнаменование о том, что налетят на нас какие-то рати черные, с севера налетят. И растащут, разнесут всё добро наше по соломинке...
Ехать в Камышин решили на двух подводах, одна с поклажей, а в казанском тарантасе сами они усядутся. Третью подводу грузили для бабушки, забирала она с собой все иконы и лампадки. Матвей вместе с ней поедет, он тоже в Разуваеве жить будет, только по делам к Миките-мельнику наведываться станет.
В последний вечер решили посидеть на балконе, благо, погодка выдалась теплая. И вот тут как раз, когда звезда вечерняя на небо взошла, вот тут и началось.
Первым взвыл Буян. Сидел он у каретника, в тени, почти и видно его не было. Тяжело и жутко завыл за ним Полкан, Кутёк, вот уже воет и Жучок, и последней подхватила Сибирлетка.
Сидевшие на балконе сначала попросту растерялись. Отец попробовал успокоить Буяна, и, близко не подпустив к себе хозяина, затрусил Буян к гумну, уселся там у канавы и завыл еще громче и отчаянней. Убежал подальше и Полкан, исчезли со двора и Кутёк с Жучком, и подали снова лишь голоса от опушки леса. Сибирлетка забежала за мельницу и взвыла оттуда протяжно, по-волчьи.
Легкой тенью прошла бабушка во флигель, зажгла там свечку и осталась одна в молитве.
Ничего не понимающая сидела мама, как горсточка отчаяния, нервно комкала платок и едва слышно шептала:
– Господи, да что же это такое, Господи...
А мельница не шумит. Остановили. Темно. Почему-то звёзд совсем не видно. Молчит степь, не слышно перешептывания акаций, но издалека доносится к хутору собачий вой. Тоскливый, протяжный, страшный. Только к полночи утихло всё, и никто на балконе с места не тронулся:
И полная отчаяния спросила мама:
– Сережа, да что же это значит?
Ответила не отец, а бабушка:
– Божье это предзнаменование. Чуют они, твари невинные, перемены, страшные перемены...
* * *
После приезда в Камышин завел Семен крепкую дружбу с братьями Коростиными.
Рассказали они ему о баталере, стал он здорово на митингах и собраниях выступать, стал разговоры с грузчиками, солдатами, рабочими вести, и до того у него дошло, что бросила его жена. Ушла к матери в Николаевку. «Мне, сказала, муж нужен, а не бунтырь какой-то. От новых друзей его у меня вся хата заплевана, как в кабаке, понакурено, самогоном за пять верст прет, ни днем, ни ночью покоя нет». Собрала манатки и ушла.
И у Ивана Прокофьевича тоже всё коловертью пошло: Марь Маревна в Петроград уехала, к Ленину, детей соседке отдала, полуслепой бабке, а сам Иван Прокофьевич в Совете вместе с баталером заседают. Шишки они там, и кабы не они, черти што в городе бы творилось. И больше всего дела у них с солдатами: пьют они дуром, хулиганят, грабят, насильничают, до того дошло, что жители сами особую стражу учредили, а то никак спать спокойно в городе невозможно, того и гляди ворвется пьяная компания, вся красными и пулеметными лентами увешана, и начнет контрреволюцию искать. А ищут в сундуках да в карманах...








