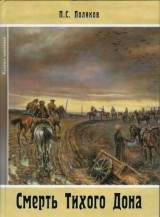
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
– Стой, стой, а што это за штука – кириллица? Да рази не все славяне православные? Какие же они тогда, к чёртовому батьке, славяне?
– Не все славяне в одинаковых условиях жили. Вон чехи и словаки, хорваты и словенцы, те все латинским алфавитом пишут, и многие из них папу римского признают. И поляки тоже. А сербы и болгары православные, и пишут они, как и мы, кириллицей. Так по-ученому азбука наша называется. Вот и получился в Петербурге разнобой – наши всех их под одну гребенку остричь захотели.
– А што, не правильно, што ли?
– Ты что же, хочешь всех твоему Богу молиться заставить?
– Ну Богу нехай они молятся какому хотят. Его всё одно нету. А вот в счет азбуки так это само-собой понятно. Одну для всех, и крышка. Чего тут рассусоливать. Всем один колер наводить надо. Да вы не серчайте, а расскажите, как оно дальше дело шло?
– Дальше западные славяне русским в глаза ширять стали, что Польшу в крови затопили.
– А чего они бунтовали?
Иван Прокофьевич чуть не вскакивает с места, но ответил спокойно и серьезно:
– То есть, как так – бунтовали? Да разве не была Польша самостоятельной, пока мы ее с немцами и австрийцами не поделили?
– Ишь куда зашел, то дело давнее.
– Вот те и давнее! Сроду поляки за волю свою бились. «Еще Польска не сгинела...» пели, свою собственную державу иметь хотели! Знаешь ты, как полякам под нами жилось?
– А чего им не хватало?
– Многого! Слышал ты о польском поэте Мицкевиче?
– Не приходилось. Про Пушкина, про того знаю.
– Ишь ты – Пушкина он знает. О нем мог бы я тебе много кое-чего, не официально-кадильного, рассказать, да не в нем сейчас дело. Так вот, в пьесе своей «Дзяды» так Мицкевич говорит: «Я знаю, что значит получить свободу из рук москалей. Подлецы! Они мне снимут кандалы с ног и рук, но наденут на душу». Понял ты или нет? А в другом месте той же пьесы говорит один русский: «Не удивляйся, что нас здесь проклинают, ведь уже целое столетие, как шлют из Москвы в Польшу только прохвостов».
– Так это же так при царях было. Мы же по-иному повернем. Об этом наша партия тоже разговоры имела.
– Это какая же партия? Прохожий оглядывается вокруг себя:
– Социал-революционеров, большевиков.
– А-а, вон ты какой, у вас – там Ленин верховодит.
– Он самый.
– И как же вы славянский вопрос решаете?
– У нас всем свобода. Живи каждый, как хочешь.
Глаза у учителя тухнут, всё ему ясно, но мысль свою доводит до конца:
– И после всего этого начали славянофилов в Австрии преследовать и арестовывать. С того времени стали австрийцы своим украинцам помогать, тем, что за независимую Украину.
Прохожий не выдерживает:
– Это хохлам, что ли?
– Если хочешь – то хохлам.
– Энтим мы тоже порядок наведем. Ишь ты – жили с нами тыщу лет, а теперь в кусты норовят.
– Как гляну я на тебя, плохой ты социалист-революционер, да еще – большевик. Сам же говоришь, что у вас каждый, как хочет, самоопределение вплоть до отделения...
– Х-ха! Так они всю нашу Расею растянут.
– Так твоя же партия, Ленин твой за это!
– Ленина ты не трожь, он, брат, голова! Знает, что к чему и когда, и куда поворотить надо.
– Вон как? Стало быть, нонче отделение, а завтра...
– А завтра – по обстановке. Понял?
– Ну, тогда обманщики вы все там!
– Да что вы на меня насыпались?
– Никто на тебя не накидывается. Гляди только, чтобы ты с партией твоей в душители славян не попал. Впрочем, доскажу я вам про славян: в 1877 году, после второго Всеславянского конгресса, началась у нас война с Турцией. Идеи всеславянства в гору пошли. Болгарию мы тогда от турок освободили, «Гей, славяне...» – гимн всеславянский – стал у нас наряду с «Боже царя...» распеваться. Славянофилы наши вовсе окрепли... и на этих идеях и вырос в Боснии студент Принцип, застреливший австрийского эрцгерцога. Вот и пришлось нам теперь за Сербию заступаться. И пошла писать губерния. Всё понятно?
– Уж куда понятней! Только не равняться с нами всем этим сербам и чехам, и какие там еще есть. Россия – вот сила! Всему свету голова! На все мы руки, хучь стих какой написать, хучь «Камаринскую» сплясать али «русскую»...
– Что касается «Камаринской», прав ты, а вот «русская» – то как раз и не наша, от вотяков мы ее переняли, только те ее медленней и размеренней танцуют.
Гость крайне удивлен:
– Коли б вы учителем не были, сроду бы вам не поверил, что наша «русская» от вотяков. Ну, а вотяки-то, кто они – да всё одно русские же. Главное, как говорится, норови в общий котелок.
– А ежели кто в котелок тот лезть не хочет, тогда что?
Прохожий молчит. Баталер поднимает голову и кивает на него:
– А по-ихнему, по-партейному – всех дави, и точка.
Костер затух. Учитель поднимается.
– Полночь уж, поди. Не пора ли и на боковую?
– И то дело, – баталер бежит с чугунком к протоке, приносит воду и аккуратно заливает костер. – А ты, добрый человек, где спать будешь?
– Я на вольном воздухе привышный. Вот тут, возле вербы, приспособлюсь.
Лодочник приносит ему полсть и рогожу:
– На-ка вот, так оно способней будет.
– Спасибо, друг, сроду я тебе того не забуду...
Внутри шалаша тепло, пахнет привядшей травой. Семен укладывается меж баталером и учителем. Сквозь открытый вход шалаша светят раскаленные добела звезды. Эк их разбирает! Закрывает глаза, хочет что-то сказать, и не успевает – в сон его кинуло!
Когда открывает их снова, видит в слабой предрассветней мгле стоящего у входа в шалаш баталера, красного, растрепанного и злого. И кроет он так, как ругаются плотовщики, пьяные матросы, до исступления доведенные капитаны буксиров:
– И топор, и полсть, и рогожу упер, бабушке его сто чертей! А ишо социалист, подлец, ворюга, в гроб тебе раков, матери твоей щуку в заднее отопление...
Гребли назад молча. Расставаясь с учителем у городского сада, замялся Семен:
– Простите, Иван Прокофьевич! Не расскажете ли вы как-нибудь о социалистах-революционерах-большевиках? Я о них пока что, кроме этого вот украденного топора, ничего не знаю.
Иван Прокофьевич хохочет на весь сад:
– Вот это – здорово! Кроме украденного топора – ничего! Эх, задам я вам сочинение на тему: топор, как средство и надежда русских прогрессистов. Впрочем, погоди-ка, соберется кое-кто у меня на днях. И один твой хороший знакомый будет. Нет, не спрашивай, это тебе сюрприз, все равно не скажу. Вот тогда и потолкуем!
* * *
В передней на вешалке висит казачья шинель с погонами урядника, стоят в углу шашка и винтовка, рядом с аккуратно завязанным мешком лежат набитые до отказу переметные сумы. Кто бы это мог быть?
Моська задыхается от волнения:
– Панычу, панычу, одын козак з хронту прыихав. Вид отця Тимофея пысьмо прывиз. Идить скорийш у столову!
Отец и мама уже за столом, рядом сидит высокий чернявый, до синевы выбритый, казак. Видно, что успел он себя привести в порядок – и чуб, и усы зачесаны аккуратно, гимнастерка свежая, сидит ловко, пояс затянут туго, с фасоном загнана в него рубашка. При его входе урядник вежливо поднимается, и отец знакомит их:
Это сын наш, звать Семеном, а это с хутора Киреева урядник Прохор Иванович Кумшацков, едет в отпуск, нам от отца Тимофея письмо привез... подводу мы ему на завтра нашли, а нонче заночует у нас.
– Премного вам, господин есаул, благодарен, а то срок отпуска больно уж у мине короткий, а дома дела такие: жена у мине померла, двое детишков осталось, а бабушка ихняя, мать моя, хворая лежит, почитай, уж год, нутрём жалится. А отец мой, летось, как пары пахали, простыл, да, как полагается, не отлежалси, и не выкрутилси. Царство небесное, никуды не денешься. Вот и пустили мине из полка на две недели, порядок в дому навести, дюже уж хуторской атаман командиру полка всё хорошо прописал, дай ему Бог здоровья. Дятишкам ладу дать надо. Должно, в хутор Рогачёв, в родню, отдавать придется... А жизня наша на фронте так проистякаить, как у тех пескарей, когда их в котле варють, знаете, как в песне играют:
Нам на службе ничаво,
Мяжду прочим – чижало!
Науку мы за ету за времю прошли добрую, кое-кто крясты пополучил, я вот урядника заработал, и, должен вам сказать, што здорово промежь нас такой теперь разговор идёть, што, ежели бы людей наших по-настоящему в дело пустить, да дать им всё, што положено, то побьем мы немца, а про австрийца, про того и говорить не приходится. Больно уж пестрая у няво братия в солдатах. Правда, мадьяры, те, што пяхота, што конница – хорошие вояки, а на остальных и глядеть тошно, как чудок круто подошло, враз руки поднимают. Немец – вон тот вояка! Солдат явно номерных полков наших гвардейских не хуже. И дистяплинка у них сурьезная. А у нас тольки и знають, што пяхоту с пустыми руками на немецкую проволоку гонють. Вот и осталось у нас таперь старых, хорошо обученных солдат на кнут, да махнуть. Должно, вскорости придется и нам, казакам, в окопы садиться. Тогда и от нас мало чаво останется. Недаром говорить таперь, што кабы русскому солдату да немецких генералов, то всю бы Явропу мы наскрозь прошли. А в щёт письма – заскакиваю я в штаб дивизии и шумит писарь, урядник Кумсков: «Приходи вечером, отпуск твой ишо не подписанный». Вертнулся я уходить, а один священник – цоп мине за шинель: «Далеко-ль, спрашиваеть, едете?». – «В Островскую станицу, говорю, в хутор Киреев». Ох, и возрадовалси же он, про вас мине рассказал, а я яму: «Как, говорю, ня знать, энто нашего мукомола-то...».
Урядник краснеется, и теряется до того, что проливает с блюдечка чай. Отец хохочет. Мы прекрасно знаем, что нас казаки «мукомолами» прозвали.
Ободренный общим смехом, урядник оправляется от смущения и тоже начинает смеяться:
– Уж вы не сярьчайтя, ваше благородие. Тут никуды не денешься. Вон родственничка вашего Обер-Носа взять, энтого ни чина, ни имя никто ня знаить, одно яму – Обер-Нос, и вся недолга.
Отдышавшись от смеха, смотрит отец на урядника и, улыбаясь, подмигивает:
– А ну-ка, говори, как на духу – а как тебя по-улишному?
– «Налыгач жевал».
Снова все хохочут, отец вытирает выступившие слезы и допытывается дальше:
– А как же это случилось?
– И оченно даже просто. Завспорил я с хуторцами, а ишо молодой был, до присяги, што всех их на коне моем обскачу. И порешили, што будет тот налыгач обкусывать, кто проиграить... Вот мине обкусывать и пришлось. С тех пор и пошел: «Налыгач жевал».
Отец обращается к маме:
– Наташа, что же нам там отец Тимофей изобразил?
Вынув письмо из карманчика платья, читает мама медленно и четко выговаривая каждое слово:
«Дорогие Сережа, Наталия и Семен!
Когда потянет меня на молитву Тому, кто дал нам жизнь и радость зреть творения Его, тогда включаю я и всех вас в просьбы мои к Всевышнему. Ибо смущается душа моя паки и паки, и всё больше вкрадываются в нее сомнения. А с колен поднимаюсь я облегченным и радостным, но сугубо оробевшим. Нет мне ответа на непонимание мое того, что творится, как это допустить можно, и что же мне делать и предпринять, чтобы уразуметь смысл всего, чему стал я свидетелем.
Знаешь ты, еще в юности моей послал мне Господь искушение в лице архиерея моего, вступив в препирательства с которым должен был я с Дона уехать... А ведь началось-то всё по-хорошему. Благоволил архиерей мой ко мне и, может быть, я это согрешил, когда в разговоре с ним, мудрствуя, помянул то, что святый Кирилл и Мефодий, веру Христову проповедуя, пришли к нам на Дон, и там, на Гремячем Ключе, получили тогда казаки первыми веру православную. А был он, архиерей мой, хоть и постник, и молитвенник, а в вере строг и крепок, прежде всего русским человеком, слугой царским, исполнителем всего того, что с высоты трона утверждается. Вскипел он после слов моих, особенно же о том, что о Москве тогда еще и помину не было, когда казаки веру свою христианскую непосредственно от учителей славянских приняли. И начал он сердито и сдавлением торочить мне старые розказни и сказки о бежавших на Дон крепостных, превратившихся вдруг в лихих наездников, о холопах и рабах, ставших радетелями организованной народной мысли и управления. Тут напомнил я ему, что казаки на степи жили гораздо раньше введения крепостного права, сиречь мужику и бежать-то незачем было, а второе, процитировал я ему места из «Домостроя», в которых прямо говорится, что смертным грехом считались на Руси не только танец и музыка, и охота с собаками, зверями нечистыми, но особенно лошадиные бега и скачки. И вопросил я его тогда: да как же мог тот, кто адских мук вечных боится, кто к лошади, как греху первейшему, и подойти не смел, вдруг, убежав из Московии, стать лучшим в мире наездником?.. Ах, кончилось всё удалением моим от службы. И ушел я на древний Яик, и вот отправился на войну, дабы с казаками моими разделить все тяготы их, несмотря на слезы матушки моей, думая, верою укрепиться. Проболтавшись же по Восточной Пруссии, исколесив Царство Польское, за все эти месяцы совершенно непонятного мне уничтожения людей, бессмысленных несчетных убийств, преступных распоряжений, ведущих лишь к новому уничтожению тварей Господних, предался я размышлениям, ища в прошлом объяснения всему тому, что здесь творится. А кроме того, узрил я и ложь страшную, Именем Того спекулирующую, Кто для нас превыше всего быть должен. Знаешь ты, что, потерпев страшное поражение в Пруссии, отступили мы из опустошенной нами земли, придумав после этого ничто более, как святотатство. Вожди наши и командующие, полагая, что вера крепко еще сидит в солдате, решили обратить взоры солдат туда, в небеса, ища помощи Божьей. И состряпали они для солдат иконку, а сделали ее по примеру нашей Донской Покрова, и изобразили на ней Матерь Господа и Бога нашего, в облаках восседающую и десницей своею воинству российскому путь на Запад указующую. А воинство наше, конечно же, изображено тут же в полном вооружении, которого тоже в действительности у солдат нет. Как и явления Божьей Матери солдатам, теперь на иконе той изображенного, конечно же, в действительности не было. Но легенду эту придумал кто-то в каком-то штабе, будто являлась она в лесах Восточной Пруссии солдатам Первого кирасирского полка, лейб-гвардейского, конечно же, табель о рангах и тут соблюдена. И только нам в полк иконку эту для казаков раздавать привезли, стали они меня спрашивать: «Батюшка, а почему немцы, те своим солдатам пулеметы и пушки, и тяжелую артиллерию дают, а нам иконки печатают? Это, говорят, не хуже, как в японскую войну было, японцы нас шимозами крыли, а мы молебнами отбивались». Смеются теперь казаки, говорят, что полки теперь называться будут так, например: лейб-гвардии Господа нашего Иисуса Христа, или – артиллерийская бригада во святых отца нашего Варсонофия.
И, всё это наблюдая, стал я в прошлом государства нашего копаться. Вспомнил наших духоборцев, молились они по-своему, жили по своим обрядам и не нравилось это начальству. И вот что писал о них екатеринославский губернатор Обер-прокурору Святейшего Синода: «Эти еретики ненавидят пьянство, и безделие, и ересь их, благодаря их примерному поведению, весьма опасна».
Вспомнил я нашего Донского казака Зимина, с его сектой немоляков. Учили они, что весна мира – от сотворения его до Моисея; лето – от Моисея до Христа; осень от Христа до 1666-го года, начала схизмы. А зима – от схизмы до конца мира. Их Сибирью переучивали. Как и других сектантов – молчальников, или бессловесных. Тех губернатор Пестель на раскаленные угли ставил босыми, горящую смолу на тело капал, говорить заставить хотел. Даже не промычал ни один. А иные, те, что не знали, когда, сколько раз, «аллилуя» петь надо, или как писать, Иисус или Исус, и те, что не тремя, а двумя пальцами крестились, ведь и их всех в Сибирь ссылали. Или молокане, от Екатерины их сейчас сотни тысяч расплодилось. Или секта псковского беглого монаха Серафима, или 26 московских лжепророков? А Серафим проповедывал: «в грехе святость», всё это я перечисляю для того, чтобы яснее тебе стало, почему появился у нас в Питере еще один, «в грехе святость» проповедующий. Силу забрал большую, разговоры о нем и у нас на фронте пошли, Распутиным его звать. Что-то вроде изувера Прокопа Лушкина, образовавшего секту евнухов и калечившего и мужчин, и женщин. А этот секту духовных евнухов состряпал. Вот они российские богоискатели, творящие своих божков по собственному подобию и хамскому пониманию. А ведь идет-то всё еще от Руси Киевской! А какова же наша официальная церковь была: уж на что царь Петр Первый крутенек был, а митрополита Московского в патриархи так провести и не смог, попы не допустили. По трем причинам: первая – говорит на варварских языках, он по-французски и по латыни говорил; кучеру разрешает сидеть на облучке, а не как положено – на передней лошади. И третье – борода недостаточно длинна. Борода! Та самая, которую Ломоносов высмеял, назвав ее «некрещённой» – отросла-то она только после крещения! Борода, которую прятали при Петре для того, чтобы положили ее после смерти в гроб и явился бы умерший на тот свет с бородой. А каковы же попы, были? В начале 18-го века в одной Москве было их четыре тысячи, приходов не имевших, а монахов без монастырей и того больше. Одним духом умели они пятьдесят раз «Господи, помилуй» сказать, и это всё. Бродили по улицам, хватали прохожих за полы, предлагая тут же, за мзду малую, молебен отпеть. Ловили их, пороли тут же, на площадях. Жадные были, завистливые, жалкие, нищие. При Петре и Николае Первом посылали их в армию, и гибли они сотнями в огне. Или отправляли к Остякам или Бурятам в Сибирь, где они, сами дикари, дикарям имя Божие проповедывали, и кормились. Скажи: могли такие попы воспитателями народа стать? А если и воспитывали, то по-своему: митрополит Иосиф перепорол 18 монахинь, Платон государственного чиновника Харитонова плетями угощал, двести шестьдесят монахинь им по монастырям кнутами бито, Нектарий, епископ Тобольский, за два года порол 1430 раз и палкой поучал, и не только деревянной, но и железной. И так спасал души. Епископ Варлаам Вятский избивал людей до бессознания, епископ Архангельский Варсонофий заставлял подчиненных босыми на снегу стоять, кнутом их избивал, в цепи заковывал, смягчался лишь тогда, когда ему «подносили». При царице Елисавете в монастырях оргии устраивали, а один архимандрит на улице женщину изнасиловал. Избила его толпа до бессознания, и избивавших в Сибирь сослали. Восемнадцать смоленских жителей перешли в католичество – били их кнутом так долго, пока не заявили, что возвращаются в лоно святой православной церкви. Император Павел резал носы и уши полякам-католикам, выселенным в Сибирь. При Николае Первом переводили в Белоруссии всех в православие, не желавших – в Сибирь, даже расстреливали.
Патриарх Филарет говорил, что многие берут себе в жёны сестёр и тёток, матерей и дочерей. Тут не забудь – кроме церковного брака, иного у нас не было. И женили их – попы. Владимир Святой убил брата своего, а жену его себе взял, родила она ему Святополка. Вторая жена, чешка, родила ему Вышеслава, третья – Святослава и Мстислава, а четвертая, болгарка, Бориса и Глеба. А кроме этих жён, имел он в Выжгороде гарем с тремястами жён, триста же содержал в Белгороде и двести в селе Веретове. Вот так святой, на Руси просиявший! Царь великий Петр открыто над религией издевался, Зотова произвел сначала из архиепископа Прессбургского в патриархи, затем в князь-папы и короновал митрой, изображавшей голого Бахуса. А когда папу этого женили, то кончилась свадьба такой оргией, что писать нельзя. И благословлял тот князь-папа народ крестом, сделанным в форме, ох, писать того нельзя. Царица Елисавета устраивала свидания с любовниками в монастырях, и сжигала живьем отрекшихся от православия. Иван Грозный взорвал в воздух, привязав к бочке с порохом, боярина Голохвастова, и еще пошутил: «Монахи – они всё равно ангелы, пусть же в небо летит!». Отстояв от четырех часов до семи раннюю обедню, приглашал одетых в рясы и скуфьи опричников на завтрак, прислуживал там им сам, а день кончал в застенках, народ мучая и на дыбы поднимая. А спать ложился, велел сказочников к себе посылать. А святой наш Александр Невский вместе с монголами взял Новгород и перебил всех его жителей. Иван Грозный четвертовал епископа Псковского, одел епископа Новгородского в медвежью шкуру и собак на него натравил, а епископа Теодорита в реке утопил. До того доходил, что избивал всех молившихся в церкви, ворвавшись в нее с опричниками. «Стоглав» писал, что купаются монахи вместе с монахинями, а еще с 1500 года указал великий князь Василий Иванович осуждать священников на кнут и виселицу. Вот и пороли нашу матушку Русь до девятнадцатого века... Ах, а опять же Петр Великий, взяв Полоцк, собственноручно убивает в униатской церкви патера Кусиковского, а свита перебила всех монахов. Монастырь ограбили, церковь осквернили, а видевшим это и заплакавшим женщинам отрезали груди. В униатской церкви убил пять молившихся, и был при этом совершенно пьян. Вот и говорили раскольники, что сатана он и антихрист, рожденный Никоном от ведьмы...
Ох, довольно – это я тебе фундаментик наш показываю, на котором мы стоим, и подумать тебя прошу, что произойти может, если... Впрочем, вот он, новый такой образчик – Гришка Распутин... Признаюсь, смутился я душой, и письмо моё – крик отчаяния. Знаешь – когда лежишь ты в окопе или канаве и гвоздит тебя немец «чемоданами», крестишься ты мелко-мелко и одно лишь шепчешь: «Пронеси, Господи.». Вот гляжу я вокруг, вспоминаю в народ заложенное, подытоживаю, содрогаюсь от страха непонятного и шепчу неустанно: «Пронеси, Господи!».
Но – будем надеяться, что минет нас чаша страдания, ибо приемлют ее главным образом ни в чём неповинные, как малые деревца, бурей с корнем исторгаемые и гибнущие в тьме непроглядной.
Будьте же здоровы, и да хранит вас всех Покров Пресвятой нашей Донской Богородицы. И да минет нас гроза, не нами вызванная...
Ваш во Христе -
Тимофей.»
Чай давно остыл, никто не перебивал чтения, никто не прикоснулся к закускам, все долго молчали под впечатлением услышанного. Первым проговорил урядник:
– Засумливалси ваш сродственник. Оно и понятно, кто трошки в голове мысли поимеить, да круг сибе с понятием глядить, тому в сто разов хуже, чем нашему брату, думаю, што чёрт сроду не такой страшный, как яво малюють. Мы там, казаки, покаместь никаких отчаяниев не имеем. Бьёмси с врагом, справляем службу, слухаимси командиров наших, как оно от отцов-дядов повялось, и одно знаем: война – она сроду штука серьезная была. Хто духом послабше, тому и чижельше. А я из таких, што не всё слухают. А што было – то быльем поросло. А што в счет Расеи, ведь верно это, ее ежели не пороть, такое она учудить, што весь свет ужахаться будить.
Отец хлопает в ладоши:
– Мотя! Принеси-ка ты нам ту бутылочку, что у меня в шкафу налево, возле стопки книг, стоит. Гостя нашего за хорошее слово и хорошей английской горькой угостить. С благодарностью.
* * *
Рождественские праздники подошли как-то так быстро, что и оглянуться не успели. В реальном училище давно шли приготовления к большому вечеру в пользу раненых. Составлена большая программа, а Семен в первом отделении будет рассказывать старинную русскую сказку, а во втором прочтет стихотворение «Три письма». Такое грустное, что расплакалась мама, когда он его прочитал дома. Мама специально для этого вечера сшила себе новое синее платье, отец отправится в шароварах с лампасами и в мундире. Пойдет и Мотька. Только будет сидеть она вовсе не с ними.
Мама объяснила, что это ему не на хуторе, где в праздники все они вместе за стол садились, здесь город, впереди начальство сидит, чиновники, офицеры, доктора, купцы, преподаватели, и вообще все, кто чины имеет и звания. А домашняя прислуга берет билеты на галерею. Семен долго возмущался, но пришлось покориться.
***
Огромный парадный зал реального училища горит бесчисленными огнями. Оставшись в школе сразу же после обедни, вместе с десятком своих одноклассников устанавливает Семен стулья, бегает за сцену, выполняет тысячу поручений и просьб, участвует в генеральной репетиции. Наконец, отзывает его Иван Прокофьевич в сторону и спрашивает:
– А не лучше бы было вместо этих твоих «Трех писем» прочитать «Сакья Муни»? Всё равно во втором действии выступает один с его «Подпрапорщиком». Слишком уж перебор в патриотической стрельбе получится?
Конечно же, он согласен, и эти стихи знает он наизусть.
Но пора и в залу. Темно-синий занавес плотно задернут. Всё сделано прекрасно. Особенно от занавеса до потолка. На большом панно, через всю залу, нарисованы лишь верхушки елей и сосен с цепью далеких, утопающих в полуночной синеве, гор. На усеянном звездами небе повис серебряный серп месяца и летит мимо него в ступе с метлой в руке страшная, растрепанная, с горящими, как угли глазами, ведьма.
Публика уже начинает сходиться. Первые ряды почти уже все заняты, реалисты-распорядители с повязками-бантами на руках рассаживают гостей, с хоров доносятся звуки то тромбона, то валторны, видно, оркестр уже на местах, а вон, в переднем ряду, вместе с супругой и сыном-кадетом, сидит полковник Кушелев, мама рядом с ним, возле нее отец, а дальше кто же? Ах, да это же Мюллер, немец, собственник ряда магазинов, большой ссыпки и лучшей мясной и колбасной, в Камышине, на Пушкинской улице. С ним и жена его, знают ее все, она сидит в их магазине за кассой. А кто же барышня эта рядом с ней? Две косы, одна перекинута за спину, другая свисает через грудь и падает на колени. Глаза у нее синие, совсем синие, брови, как стрелки, цвет волос такой же, как у ржи, когда на нее солнце светит. Ну, Катя, дура московская, далеко тебе до нее!
Со сцены слышен голос директора, звонко разносящийся по притихшей зале:
– Ваше преосвященство, милостивые государыни и милостивые государи!
Здорово он это умеет – торжественной официальности напустить. Мастер, что и говорить!
А за сценой растеряли актеры листочки пьесы для суфлера. Мотаются, как угорелые, что-то собирают, суют кому-то, какая-то барышня плачет в углу. Ох, уж бабы эти! Нервы у них! И Иван Прокофьевич проверяет костюмы и гримм, одергивает рубашки, выстраивает в порядке выхода волнующихся актеров. Ух! – гром рукоплесканий. Так, кажется, говорится? Это директор окончил речь.
Но вот – и звонок.
Коротенькая пьеска проходит быстро, плакавшая барышня сияет, получив букет цветов. Снова аплодисменты и крики «браво».
Одним взмахом руки высаживают Семена на сцену. Освещена она ярко, в зале – темно, только поблескивают в первом ряду полковничьи погоны Кушелева, отцовские есаульские и белеет шаль той барышни, с косами. Одетый в боярский охабень, с огромной высокой шапкой и в красных сапогах, выходит он на сцену, воспалившимися глазами смотрит в зияющую перед ним темному, и – забывает начало сказки. Холодный пот обливает его с головы до ног. Чувствует, что с бровей потекла черная краска, ему жарко, ужас охватывает его, панический ужас. Господи, вот скандал-то! Да как же начинать, начинать-то как? И вдруг, уже в третий раз переступив с ноги на ногу, слышит собственный голос:
– Начинается сказка от Сивки, от Бурки, от вещей каурки. На море, на океане, на острове на Буяне, стоит бык печеный, возле него лук толченый. И шли два молодца, шли, да позавтракали...
Сама собой сказка полилась. Кланяясь, такие слышит аплодисменты, что хочется ему прыгнуть козлом тут же, на сцене. Сбежав со сцены, падает в объятия Ивана Прокофьевича:
– Признавайся, что с тобой случилось?
– Забыл, как начинать!
– Так очень же просто: «Начинается сказка...».
– Вот это «начинается» и выручило!
В антракте бежит Семен к родителям. Подходят Мюллеры и та барышня. Смотрит на барышню Семен, и зала куда-то пропадает. Только светят ему, как васильки, синие глаза. И слышит он слова мадам Мюллер:
– Это Семен Пономарёф, ученик второй класс, а это наш точка Урсула, или, как мы все ее насыфал айнфах – Уши!
Уши почему-то смущается, делает книксен. Семен расшаркивается, и слышит голос полковника Кушелева:
– Жаль, жаль, молодого казака, в кадетский корпус бы надо.
В буфете велели ему ухаживать за молодой дамой. Когда Уши смеется, на левой щеке у нее появляется ямочка. Косы закинула она за спину и передразнивает своего кавалера:
– «И шли два молодца, шли, да позавтракали...». Надеюсь пирожными и ситро?
Уши смеется, будто сотни серебряных колокольчиков звонят.
Черт побери, да ведь это же и звонок на сцене! Бежать надо! Теперь, слава Богу, переодеваться не надо. Жаль, что не разглядеть лица Уши, но это и не важно: Семен все равно только для нее читает.
– «Сакья Муни». Стихотворение Мережковского.
Не видел он, но сразу же почувствовал движение в задних рядах, там, где сидит молодежь. Не видел, но знал, что нахмурил брови полковник Кушелев, что удивленно вскинул глазами директор, не подозревавший о замене в программе.
Будто бросившись с головой в омут, читает он первые строфы, и видит одним глазом скользящую по-над стеной тень директора.Ну и пусть, теперь уж поздно.
Изваянье Будды преклонилось
Головой венчанной до земли,
На коленях, кроткий и смиренный
Пред толпою нищих царь вселенной,
Бог, великий бог, лежал в пыли!
Словно бомба разорвалась на галерее. Крики: «Браво!», «Бис!», «Павтаар-рить!». Стук и грохот ногами и стульями оглушили и его, и перепугавшуюся публику. Семёна стягивает кто-то за рубаху со сцены и тащит вниз. Иван Прокофьевич успевает ему лишь подмигнуть, и исчезает. Директор поманил к себе пальцем виновника бури:
– Почему вы вместо «Трех писем» читали Мережковского?
– Мы с Иван Прок...
– В-вы с Иван Прокофьевичем! Конечно! Впрочем, сейчас об этом говорить не стану, а решение педагогического совета сообщится вам своевременно. Передайте это вашим родителям. Можете идти.
На сцену выходит бледный и тощий семиклассник, сын священника церкви Святого Николая, и сразу же трагическим тоном начинает:
Подпрапорщик юный, со взводом пехоты,
Старается знамя полка отстоять,
Один он остался от всей полуроты,
О нет, он не будет назад отступать...
Прислонившись к стене, скрестив на груди руки, стоит у входа в раздевалку Иван Прокофьевич и презрительно улыбается:
– Слыхал? Всем толстым купчихам, фельдшерам и лабазникам на полное патриотическое удовольствие. Верноподданнический фейерверк со слезинкой. Рассказ о герое в штанах и без оных. Сто раз молодец ты, что «Сакья Муни» прочитал! Аг-га – слушай, слушай!
Декламировавший окончил чтение и, видимо, раскланивается. Аплодируют только первые ряды, остальная публика молча переглядывается, только с галерки, протяжно:
– Пш-ш-ш-ш!
Глаза Ивана Прокофьевича сияют:
– Ишь-ты, разводят нам казенный патриотизм. Лучше бы они подпрапорщикам этим винтовки дали! В пыль всех великих Сакья Муни, к чёрту с ними!








