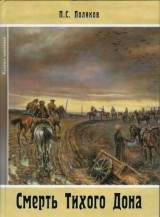
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
Лицо отца веселеет:
– Ага, видишь, не все полки ушли к Подтелкову!
– Конечно же, далеко не все, да уж слишком мало было таких, кто атаманские приказы слушал. Да, постой, еще Новочеркасская дружина пошла, а в ней народу человек с тысячу было. Всё учащаяся молодежь под командой старых офицеров.
– Это и ты там был?
– Ах, не всё ли равно, где я был, а главное пошли мы и в первом же столкновении с красными сплоховали, отбросили они нас и взяли в плен четырех наших офицеров. Отошли мы и в окопы засели. Переночевать, перегруппироваться и наутро со всех сторон на Ростов ударить. Ночью, после двух часов, самое когда хорошо спится, собрал Роман Лазарев человек с двадцать головорезов, усадил на паровоз с одним вагоном, ворвался на станцию «Нахичевань», с налета освободил пленных наших офицеров, знал он, где их содержали, да, кстати, и весь тамошний Военно-революционный комитет прихватил с комиссаром Цуркиным и подружкой его, еврейкой тоже. И секретаря комитета, и всех его членов. А в это время сварганили наши студенты бронепоезд, на платформы мешки с песком положили, орудия поставили, подлетели почти на самую пристань и так начали крыть красный флот, что сорвался он с якорей и в море ушел. А тут в Ростове солдаты красных полков замитинговали, услыхали они, будто огромная сила казаков идет, и разошлись по казармам. Остались против нас лишь рабочие, матросы и красногвардейцы. Подошли было к Ростову три военных судна, да сразу же бронепоезд наш одно из них потопил, а два других тягу дали. Поднялись матросы и рабочие из окопов, а наши, по данному сигналу, на них в контратаку. Ростовский военно-революционный комитет сбежал во главе с их главкомом Арнаутовым, матросы отступили к пристани, а в это время мы со всех четырех сторон в Ростов вошли, и вместе с нами въехал в город атаман Каледин, и прямо в казармы пехотных полков. Туча солдат окружила его, встал он в автомобиле и приказал им немедленно сдать оружие. И можете себе представить: без слова, один за другим, снесли они винтовки в бунты и сложили. Семь тысяч штук накидали. Повернул атаман в город, а там вавилонское столпотворение, от мала до велика весь город на ногах, все на улицы вышли. Флаги, цветы, платки из окон и с балконов, крики «ура», слёзы... и тогда встал в автомобиле атаман и сказал:
– Мне оваций не нужно. Не герой я, и приход мой не праздник. Была пролита кровь, и радоваться тут нечему. Я лишь свой долг исполнил...
Мрачный, как всегда без улыбки, сгорбившийся... эх, иначе бы ему себя вести следовало, но главное было: победа. Матросы сдались, разоружили их, посадили в поезда и отправили в Севастополь, офицеров наших, тех, что на «Колхиде» сидели, налетом самодельной канонерки освободили, обе сотни наши на свободу вышли, места свои в городе заняли, и взяли казаки в Ростове управление в свои руки. Стал он городом, оккупированным казаками, с рабочими-большевиками и большим процентом населения, большевикам сочувствующим. И это вот сочувствие большевикам иногороднего населения для нас особенно большой вопрос. Половина нашего населения – не казаки. Понабежали к нам, спасаясь, со всех сторон, еще со времен добулавинских, селились у нас, уходя от московского рабства, от польского угнетения, от вечной драки и горя на Украине...
Отец недовольно крякает, дядя бросает на него короткий взгляд, но говорит дальше, не останавливаясь:
– Обжились, недурно зарабатывать стали, те, что прилично себя вели, в казаки приняты были, а остальные, вся масса, только и жили надеждой казачью землю к рукам прибрать. Отобрать ее у тех, к кому они бежали, головы свои спасая. Мечтали, как и весь народ русский и по Украине, о клочке земли собственной. Бедность, зависть, веками скопившаяся в душе рабская ненависть ко всем, кто живет лучше... Забылась старая вера в справедливого казачьего атамана, водившая их за Пугачевым, Разиным, Булавиным. Теперь перешло всё в зависть и ненависть к казакам вообще, по их мнению, задушившим в пятом году революцию. Дало им наше Правительство возможность созвать на Дону Крестьянский съезд, выбрать и посадить в казачье Правительство своих мужичьих министров. О знаменитом «паритете», поди, слыхали вы. Из шести ихних министров трое оказались большевиками, а три стояли на стороне атамана. Это крестьяне, а о рабочих говорить вообще не приходится, те все – красные. А тут еще потомки тех, кто посадил на престол дом Романовых, кто России покорил Сибирь, Кавказ, Польшу, Крым и Наполеону морду раскровянил, глянь, сколько теперь меж этими потомками таких, что в большевистскую правду поверили. Это те самые казаки, предки которых сотнями лет жили своим особым, русским совершенно чуждым укладом жизни, своими прадедовскими традициями, вольным своим степным духом, потомки людей, никогда рабства не знавших, крепостного права не имевших, воспитанных на обычаях глухой старины. И вот и многие из них, в общем российском котле двести лет варясь, близко теперь к сердцу своему приняли и позор Японской войны, и преступное ведение вот этой, еще не отгремевшей, и полное политическое банкротство всех нас вот сейчас...
Отец сердито кашляет:
– Что-то, брат, и ты стал того, много разговаривать...
Мама вспыхивает:
– Да не говори ты, Сережа, глупости, просто понял человек!
Отец разволновался:
– Что значит – глупости? Ишь ты – банкроты. А не эти ли банкроты, не этот ли дом Романовых создал такую империю, что конца и края ей нет, такую, что боятся враги ее, как огня, такую...
Дядя Ваня трогает отца за плечо:
– А ты, Серега, не дюже. Не дом Романовых империю твою создавал, нет, но проворонил, профершилил, до разорения довел собственный народ, до отчаяния, потому что сотни лет в рабстве и в полурабстве его держал. Вот и полетело всё кувырком. И получил этот дом твой теперь по заслугам. Только боюсь я одного: нам, казакам, придется теперь грехи его, дома этого, расхлебывать.
Отец вдруг краснеет, и сначала даже слова сказать не может, хватает ртом воздух, захлебывается. Все смотрят на него с испугом. Прекращает спор тетка:
– Не лотоши ты, Серега! Што машешь руками, будто кто тебе в зад шилом ширнул. Таперь нам, как и я бабьим своим умом вижу, тольки и того, што об своем курене думать.
Всё время молчавший, вступает в разговор князь Югушев:
– Простите мне, господа, но разрешите высказать и мои по сему поводу соображения. Теперешнее наше, скажем, недоразумение, уверяю вас, лишь переходящая стадия, внутреннее кипение, некоторый подъем температуры у слегка переутомившегося в страшных напряжениях организма. Да, господа, организма, чего-то целого всё же, если хотите, внутренне крепко связанного, несмотря на кажущиеся нам страшными симптоммы общего развала и распада. Я рассматриваю это лишь как внутреннюю горячку, и весь вопрос лишь в том, как долго она продлится и сколько мы в весе потеряем. А как это в здоровом организме всегда бывает, после крепкого заболевания с выздоровлением поднимается он еще более сильным, становится еще выносливей, решительней и предприимчивей. В это возрождение верю я: потому что, несмотря на страшные препятствия, на всю внутреннюю борьбу у нас, на несогласия, смуты, нелады, бунты и революции, росли мы неуклонно лишь потому, что и водители наши и ведомые в главных, государственной важности, вопросах били в одну точку. И князья, и цари, и императоры, и их министры, и полководцы воодушевлялись сами и поднимали народ свой в победном его шествии к увеличению, славе и укреплению державы Российской. И в этом шел народ за ними слепо. Поэтому я совершенно спокоен. Да, и мне не нравится то, что, по общему нашему мнению, засела сейчас в Петрограде и в Кремле какая-то интернациональная сволочь, с которой мы с вами не ладим, против которой, может статься, даже пойдем с оружием в руках. Вместе. Всё говорит о том, что начнется по всей Российской империи война гражданская. И победит в ней тот, на чьей стороне окажется наш народ. А как всё кончится – вспомните революцию французскую. Санкюлоты, помните, торжествовали. Ну, а потом что? Да-с. И в победе или поражении казаков сыграет огромную роль то, кто к вам теперь бежит, и как эти, головы свои спасающие, у вас себя поведут, и как вы с ними поладите или не поладите. Уверяю вас, всё перемелется, всё образуется, и русский народ, терпевший тысячи неправд и невзгод, но всегда, при всех обстоятельствах, в крови, в поту, в голоде упорно строивший свою империю, пойдет и дальше этой своей дорогой, простите – сметая всё на пути своем, что ему мешает. Русский народ – это единственный в мире пример народа-империалиста, вечно против собственной власти бунтующего. Поэтому, еще раз прошу извинения, смотрю я на всё это, что происходит в Черкасске, проще, чем вы – для вас может это стать вопросом жизни и смерти, так сказать, быть вам или не быть, а для нас, повторяю, легкий подъем температуры, здоровая встряска, пересмотр позиций внутренних, но никак не опасность для государства. Я совершенно уверен, что, несмотря на все эти интернациональные лозунги, на весь этот истошный крик о мировой революции, народ наш, патриот и националист, да такой националист как, может быть, никто иной в мире, в нужный момент инстинктивно пойдет за теми, кто укрепит, усилит, увеличит и прославит его державу. Но – мое место, лично мое, сейчас здесь – у меня это попросту вопрос эстетики, присяги, такта, воспитания, классовой моей принадлежности. Мундир полка моего не замараю я красной тряпкой, нет, но когда всё это кончится, и, легко может статься, что в каше этой я лично и пропаду, роли это для России моей не сыграет, так как мой централист-народ, привыкший к руке крепкой, и дальше пойдет историческим своим путем собирания земель русских. И в эту мою Россию я верю, потому что через всю историю свою доказал мой народ – крепостной раб, с песнями шедший в бои на Кавказе, Польше, Сибири, смерд, мечтавший о воле и утопивший в крови вольные племена горцев, туркестанцев, вас, казаков. И построил, создал, укрепил свое государство только потому, что крепко, глубоко сидит в нем способность отдать всё для создания, пусть несправедливой, рабской, грязной, но страшной для врагов его, по его мнению, славной страны. И в этом, простите, нахожу я известную поэзию, и, как мне кажется, лучше всего сказано обо всём, что сказал я, словами поэта:
А слово его всё едино -
Он славит свово господина!
Князь замолкает, берет свою рюмку и медленно отпивает глоток вишневки.
Дядя Ваня говорит, ни к кому не обращаясь:
– А ведь здорово сказано. Значит, все эти и князья, и цари, и императоры, какими бы они сами не были, всего лишь как те блохи в шкуре медведя. И чешется он, и злится, и кусает их, а идет своей дорогой, круша всё на пути своем.
Князь поднимает на него глаза и улыбается:
– Да, так оно и есть, неплохо вы сказали, нет. И поэтому я совершенно спокоен. Страна моя не пропадет, народ не изведется, а кровоспускание, Боже мой, не так уж и страшно.
– Значит, что же нам, казакам, и ждать иного, как того, что подомнет нас под себя медведь ваш – народ русский, как подмял он и перевел новгородцев, псковичей, булавинцев...
– Подомнет! Вопрос лишь времени и потерь. Но повторяю: в исторической перспективе для нас потери эти не страшны. Вон возьмите, как пример, ваше знаменитое Азовское сидение. Опустел тогда Дон ваш, а что теперь, сколько отличнейших кавалеристов, да к тому же бесплатных, билось за Россию в этой войне!
Не выдерживает мама:
– Но, князь, за всё это время народ русский был либо рабом, либо бесправным, либо нищим, либо голодным, ведь это на века вперед на психике его отразится...
И снова улыбается князь:
– Откровенно говоря, всё то, что вы рабством называете и что для вас, казаков, совершенно неприемлемо, для нас, русских, нечто совсем иное, ибо, что греха таить, иной формы правления за все свое существование русский народ не знал. Привычка – вторая натура. Бунтовал он, заварухи устраивал, в сектах распутствовал, наемничал, шел и за Разиным, и за Пугачевым, спасался в монастырях, искал правды в расколах, изуверствовал, жег, грабил, убивал, и всё же, в конце концов, склонялся, смирялся, свыкался и шел дальше этим историческим путем своим. Так и дальше будет. В этом я уверен, этот путь его веками проверен и лишь тогда он пропасть может, если сойдет с него.
Сидящие напротив князя казаки-старики переглядываются и один из них спрашивает:
– А как же таперь, ваше сиятельство, нам, казакам, быть? Куды ж нам подаваться?
– Думаю, выбора у вас нет. Всё, что подтелковы и голубовы творят, для вас тоже временное явление. Тоже некоторым образом болезнь, суть которой прекрасно понял ваш генерал Попов, уйдя в Сальские степи. Это его слова о том, что выздоровеет Дон и поднимется. Верит он в это, зная ваш дух народный, полностью русскому противоположный. Опасность для вас не в этом, а в ином, в русском воспитании ваших водителей, вот в чём. Теперь же принесут вам красные насилие, грабеж и террор...
Мама высоко поднимает брови:
– Простите, как так – террор? Ведь все русские революционные партии осуждают террор, произвол и насилие, даже марксисты...
Князь машет обеими руками:
– Господь с вами, Наталия Петровна! Да как раз не только мелкие марксисты, но и бог и учитель Карл Маркс стоял за террор. Всё, что теперь, перед серьезной схваткой, проповедуется, ничто иное, как пускание пыли в глаза. Сам я, своими глазами, у одного приятеля моего из титулованных революционеров номерок «Новой Рейнской газеты» читал, от седьмого ноября 1848 года. В ней сам Маркс к террору открыто призывает и пишет, что в Париже будет нанесен уничтожающий ответный удар, и мы воскликнем: горе побежденным! И это – горе побежденным – сам Маркс курсивом написал. И дальше там: есть только одно средство сократить, упростить, концентрировать корчи старого общества, кровавые родовые муки нового, лишь одно средство – революционный террор. И опять сам Маркс слова «революционный террор» курсивом написал.
Отец преобразился, будто дорогой подарок с признанием заслуг получил. Но почему-то обращается к дяде Воле:
– Слышь, Воля, а как же там с Добровольческой армией, ты нам про нее так еще и не рассказывал.
Сунув руки в карманы брюк, смотрит дядя на носки своих сапог и говорит устало и неохотно:
– Н-дас, армия. Впрочем, пусть уж князь расскажет, он в этом деле больше разбирается.
Князь просить себя не заставляет:
– Я Валентина Алексеевича понимаю. Он, видимо, слишком воспитан, слишком тактичен, а недоговаривать не хочет. Мне же стесняться никак не приходится, девиз мой: чем трезвее, тем лучше. Знаете вы все, что, собственно, пол-России кинулось удирать на юг, то к вам – казакам, то к матери городов русских – Киеву, к так называемым украинцам, вот, на родину добрейшего нашего капитана Ефима Григорьевича. Украина! Мы ее Малороссией называть привыкли. Но после того, как сам Ленин дал лозунг: самоопределение вплоть до отделения, с единственной целью, чтобы получить в массах к себе симпатии, так как сам-то он прекрасно понимает, что, даже если и отделятся все эти самоновейшие самостийники, никто из них толком самостоятельности своей устроить не сумеет уж только потому, что кадров интеллигенции, на то нужной нет у них, нет умения и навыка управлять государством, нет живых традицый, давно под давлением российской власти исчезнувших и выхолощенных. Понимает Ленин и то, что давно разбились и там все по бесчисленным партиям и группам, и что очень многие национализм, а для самостоятельности нужно крепкими националистами быть, считают отжившим, ушедшим в прошлое, опасным. Вот разве у вас, у казаков, может статься, всё же что-то и получится. Но и ваша интеллигенция централизмом заражена до отказа. Приучены вы на Москву равняться. Двести лет под царским скипетром даром для вас не прошли. Да, выговорил Ленин слово «самоопределение» еще и потому легко, что этим приобретет он симпатии миллионов дураков на Западе – вот, скажут там, смотрите, какой он антиимпериалист, какой он прогрессивно думающий, ура ему! А это ему и надо, мужик он с хитрецой, свою партию соорганизовавший как орден, как этакий всероссийский ку-клус-клан, основанный на терроре и слепом послушании. И знает, что всюду будут сидеть его люди. Невеселая судьба будет у всех этих самопределившихся. И ежели эта так называемая Украина, которая, правда, сейчас только за федерацию, ежели и она отделится, то все равно ей не сдобровать. Россия ее задушит. Украина, даже собственного имени себе сама не придумавшая. Украина – старое русское слово и означает в теперешнем смысле – окраина, то, что немцы называют «рандгебит». Почитайте-ка «Разрядную Книгу» (1475-1598). Там украин этих, то есть русских окраин, сколько угодно: казанская, литовская, крымская, немецкая, польская...
Дядя Ваня криво усмехается:
– Ну, это лишь доказательство того, что все эти окраины-украины как раз никогда русскими не были. Самих названий их достаточно.
– В массах малороссов, после уничтожения Екатериной Сечи запорожской и ухода из нее казаков, массы малороссов так окраиной и остались, сведши собственный язык на опереточный диалект русского.
Тяжело поворачивается на своем стуле капитан Давыденко:
– Вы, князь, трошки переборщили. Язык наш совершенно самостоятельный, а не опереточный диалект. Гм, с некоторыми примесями. А в вашем русском сколько иностранных слов, тысяч с пятьдесят наберется. Да, вот одно правильно: за сотни лет пребывания нашего в составе государства Российского массы наши, наши мужики, стали по психологии своей тем же самым, что и мужики русские. Поместья у нас грабят и жгут, помещиков убивают и гонят совершенно так же, как и в России, землю делить хотят так же, как и русские, никаких самостийных течений в народе нашем нет, только тонкий слой интеллигенции, учителя, аптекари, ну, кто еще, да, часть профессоров, вот, разве, они, да с народом-то у них ничего общего, кроме языка, нет. Правда, там, в Австрии, в Галиции, там будто больше таких, что хотят великую Украину, свой собственный империализм выдумывают, так то же в Австрии.
Князь довольно качает головой:
– И еще, добрейший наш капитан, не забудьте и того, что служили вы матушке России не за страх, а за совесть. И главным образом во флоте боцманами, а в армии – фельдфебелями. Где боцман хохол, где фельдфебель хохол, там о дисциплине заботиться не приходилось. И сами умели в струнку стоять. И хоть теперь и орут на весь свет о своей борьбе за свободу, а против Москвы никогда нигде не выступали. Разин, Булавин, Пугачев – все донцами были.
Дядя Ваня морщится:
– А ведь мы с Добровольческой армии разговор завели.
– Простите, действительно, давайте не отвлекаться. Да, кто только мог бросились из России, спасая животы свои, стараясь попасть либо на Дон, либо в Хохландию. Еще второго ноября первым появился в Новочеркасске генерал Алексеев, потом, двадцать второго ноября, генерал Деникин. Марков и Романовский. И последним, шестого декабря, генерал Корнилов. Сразу же, конечно, на казачьи средства создана была «Организация генерала Алексеева», то есть теперешняя так называемая Добровольческая армия. Генерал Алексеев, этакий маленький, сухонький, с записной книжечкой в кармане, в которую бисерным почерком заносит он все приходы и расходы, недаром же он «Администрацию» в Николаевском кавалерийском училище читал. Теперь взял он на себя часть финансовую, и этак аккуратненько, как бравый бухгалтер, всё в эту свою книжечку записывает:
«От ростовских купцов 23 ноября 1917 года тысячу восемьсот рублей тридцать пять копеечек получил.
Генералу Арбузову, на постройку одной пары сапог сто сорок рублей пятьдесят копеек сего 1-го ноября выдал».
И всегда точно число и номер оправдательного документа. Когда я с ним в первый раз в Новочеркасске повстречался, галстучек на нем был криво повязан, сюртучек потертый, штаны свои вобрал он в высокие сапоги, надел огромные круглые очки, ну, истый приказчик с волжского пароходства. Корнилов – тот как был скромным, застенчивым армейским офицером, так им и остался. Артиллерист он, худощавый, тоже роста небольшого, с монгольским, без выражения, как маска, лицом. И к ним, третьим, Каледин, вечно сумрачный, насупившийся, сгорбленый, без улыбки. Н-да... генералы... кстати, напомню вам, что на Дону они в крайнем меншинстве, три четверти нашего бывшего генерального штаба пошли с большевиками под водительством не абы кого, а самого Брусилова. Ну-с, и начали эти генералы пушечное мясо для борьбы за Белую Россию искать и, естественно, устремились на Дон, так как вся надежда у них исключительно на казаков. Сразу же образовали триумвират: Алексеев, Корнилов, Каледин, и дали уже этим большевикам прекрасный пропагандистский козырь в руки: глядите, казаки, говорят, теперь из Москвы – недобитые царские генералы на Дон сбежались, хотят вас в гражданскую войну против России и втянуть. Бейте их!
Вот поэтому и был Подтелков ваш таким несговорчивым. Веру в русских генералов потеряли ваши фронтовики давно. Да, я же о Добровольческой армии... Так вот, сформировавшись сначала в Новочеркасске, а после освобождения казаками Ростова перешла эта армия туда, в Ростов. И многие офицеры, до полутора тысяч, поступили в нее, а пока она формировалась, гибли ваши партизаны, кадеты, гимназисты, реалисты, студенты – ребятишки, начиная от пятнадцати лет. И гудел соборный колокол в Черкасске, каждый день провожая в последний путь привезенных с фронта казачат-партизан. И, как правило, в дождь, снег, слякоть шел за этими гробами несчастный ваш атаман Каледин, верно служивший той, лучшей, России, в которую он так верил, и теперь так страшно разочаровавшийся и в русских, и в казаках. Он одинаково всех не понимал, как не понимал и самого того времени – честный, прямой, глубоко порядочный солдат, но никак не политик. Да, так вот, набежала тогда на Дон масса разного народа. А в Добровольческую армию записалось всего тысячи две. Полковники поступали рядовыми, генералы шли на унтер-офицерские должности. А когда покончили подтелковцы с вашим Чернецовым, когда полегло всё ваше лучшее и подошли красные к Черкасску, сообщил Корнилов Каледину, что уходит он со своей Добровольческой армией на Кубань. Вместо надежды получить помощь страшное известие о потере единственного союзника. А Черкасск и весь Дон со всех сторон окружен красными, и последние, еще вчера дравшиеся против большевиков, казаки начинают разъезжаться по домам или, преимущественно так называемые правые, присоединяются к Корнилову. Попов уходит в степи, походный атаман Назаров докладывает Каледину, что большевики в нескольких верстах от Черкасска и что защищают его всего сто пятьдесят человек партизан, молодежи, что движется в столицу Дона большой отряд красной гвардии, а с ним казаки Голубова. И что борьба бессмысленна и бесполезна. Каледин созывает заседание Правительства, и оно решает передать власть в Новочеркасске городскому самоуправлению. Тут и стреляется Каледин. Круг выбирает атаманом бывшего походного атамана Назарова, и тот заявляет, что никуда из столицы Дона не пойдет. Он там и остался. Вот мы с Валентин Алексеевичем и вашим добрейшим моряком и ударились сюда, пересидеть и выждать. Ну-с, только еще пару слов о Добровольческой армии: пошла она на Кубань, во-первых, потому, что богатый это край, есть где кормиться, а еще и потому, что верят они в кубанских казаков и в то, что поднимутся те обязательно. Всего с казаками ушло до трех тысяч человек. Назвались Добровольческой армией, а не народной. И правильно сделали: народ сейчас либо колеблется, либо против. И загвоздка теперь вся в том, на чью сторону русский народ станет. Генерал же Попов, как вот и мы с вашим дядей, уверен, что донцы не подведут и весной поднимутся. С моей же точки зрения, уход на Кубань сейчас – неумная авантюра. Кубанские казаки ни в чем еще не разобрались, Кубанская область буквально залита потопом идущих с турецкого фронта солдат, полностью большевизм восприявших. Этой массе, будет их под сотню тысяч, должны противостоять добровольцы с их трехтысячным боевым составом, плохо вооруженные, стоящие под командой тех генералов, чьи имена для солдат, как красная тряпка для быка. Это для них только капиталисты, реакционеры, контрреволюционеры и помещики, желающие продления войны внешней. А воззвание Совета народных комиссаров знают они твердо. И в нем говорится: «Солдаты! Дело мира, великое дело мира в ваших руках. Не дайте контрреволюционным генералам сорвать его!». Вот теперь и припомнят солдаты на Кубани имя генерала Корнилова, еще на государственном совещании в Москве требовавшего введения смертной казни. И с ним Алексеев и Деникин, оба сидевшие в Быхове за контрреволюцию. Понимаете, сколь всё это неблагоприятно для добровольцев, которых, конечно же, обвинят в желании продолжения войны и в борьбе за помещиков.
Отец снова прерывает князя:
– Но причем же тут помещики? Не наш ли Круг не только упразднил дворянство, но и земли помещичьи передал крестьянам. А после крестьянского съезда на Дону не послали ли эти же крестьяне своих представителей-министров в наше казачье, так называемое паритетное Правительство! Разве этим не доказали мы...
– Вот-вот, доказали, да, во-первых, только у нас на Дону, а что там Добровольцы думают – об этом никому ничего не известно. Молчат они, а Ленин прямо говорит: забирайте землю немедленно. Да здравствует мир! Вот вам и разница. И второе – это то, что никто нигде о Круге вашем ничего не знает, пропаганды у вас никакой вообще нет. Знают лишь, со слов большевиков, что вы реакционеры. И, я считаю, вам нужно было работать на вашей организации темпами революции – вы этого не сделали. Бежавших генералов никуда не пускать, никаких с ними триумвиратов не заключать. Единственно что хорошего сделали: на Кубань не пошли, хотели вас попросту подчинить, к рукам прибрать. Попов это понял, и выжидает, зная казаков и то, что все равно вам с красными воевать придется!
Дядя Воля поддакивает:
– И еще как придется! Не забудьте, что уже сосредоточили красные на наших границах войска свои. И все эти силы имеют приблизительно семьдесят тысяч винтовок, восемь тысяч сабель, триста орудий. Сколько пулеметов – не знаю...
Отец, видимо, сильно обескуражен:
– Т-та-ак! Здорово. Но ведь большевики за мир, то есть за измену нашим союзникам, что же союзники наши говорят?
Дядя как-то криво усмехается:
– Союзнички наши? Видишь, там, на Западе, там тоже дураков не сеют, сами они родятся. Сам знаешь, что за всю эту войну единственное, чем союзнички занимались, это требовали, чтобы мы наступали. И к тому же Керенскому с ножом к горлу лезли, чтобы и он наступал. А Ленин мир проповедывал. Вот этим и помогли союзнички большевикам – солдаты воевать не хотели, и пошли за Лениным. Как видим, и там, на Западе, политических мудрецов и днем с огнем не найти.
Отец тихо свистит:
– А мы-то, сколько мы за ихние Марны и Вердены голов положили... как мы верили...
– Да, верующими были, а блаженными нас теперь большевики сделают, а потом и до них доберутся... проповедует же Ленин революцию сначала в Германии, а потом во Франции.
Дядя Воля взглядывает на маму, и вдруг хлопает себя по лбу:
– Ох, Наташа, совсем позабыл тебе сказать, что племянницу твою, тети Агнюшину Мусю, видал я в Черкасске, на Атаманском проспекте встретил, в форме сестры милосердия. Уходила она с нашим Партизанским полком под командованием генерала Богаевского, с Корниловым они пошли, Попов Богаевскому не понравился. И что я ей ни говорил – и слушать она не хотела. А тут еще хорунжий Примеров, сын полковника Примерова, тот тоже в том же полку сотней командует. Видно, любовь там у них с этим хорунжим. Парень хороший, молодой, боевой мальчишка, по ухватке видно...
Мама в ужасе всплескивает руками:
– Воля, да почему же ты ее с собой не забрал?
– Мусю? С собой? Плохо ты ее, видно, знаешь. Девка с характером, это раз, а второе – дома у нее давно не всё в порядке, нет у нее семьи... вот и нашла она себе новую... Да и в полку том в большей она безопасности, чем с нами была, ведь мы переодетыми, как солдаты, с подложными документами шли.
– Господи, да ведь ей-то всего лет семнадцать, и вот, сестра милосердия...
Расплакавшись, мама уходит. Поерзав на стуле, спрашивает один из стариков:
– А как вы думаете, ваше сиятельство, може, и вспради там, в Расее, посвободней таперь заживуть...
– Да нет. Развяжите любому из нас руки, ослабьте опеку, и мы, уверяю вас, мы тотчас же опять опеку попросим...
Казаки внимательно слушают князя, и отвечает за всех атаман:
– Значить, выходить дело, вроде той свиньи они, што из свинушника убегла, в огороде шкоды понаделала, черепушки как поразбивала, корыта поперевертывала, а когда суды-туды повернулась, да и сама же, по своей воле, обратно в свинушник возвярнулась?
Князь заразительно смеется:
– Совершенно верно. Но, чтобы никого не обижать, не будем делать таких сравнений. Но, уверен я, что, скинув царский режим, новое они на себя ярмо оденут, Не хотели против немцев воевать, а теперь гонят их против казаков. И пойдут!
Дверь вдруг распахивается, бледная, как стена, заплаканная, вбегает в комнату тетка и вначале и слова выговорить не может. Дядя Ваня подходит к ней и гладит ее ладонью по плечу.
– Да тю на тибе! Што там за беда стряслась?
– Вот т-табе и т-тю! Сам на залу пойди, глянь, ляжить она там без головы... с-сама я ей топором от-трубила!
– Кому же это ты голову оттяпала?
– Кому! Да хохлушке нашей, нясушке, наседке самолучшей. Энтой, што прошлого году шашнадцать штук курят с лесу привяла!
Все вздыхают облегченно. Дядя улыбается:
– Ну?
– Вот те и ну! Собрались мы, бабы, в старом курене и пошла я кизяку принесть, зашла в катух, а она, хохлушка, как вылетить оттель, да как по-петушиному закукаречить, как закукаречить. Господи думаю, к беде это, побегла я, ухватила топор, да за ней. И у база ее зашшучила, да... вон, сам пойди, глянь, ляжить она там без головы.
Дядя Ваня решает действовать энергично:
– Ану, Семен, беги ты, брат, пулей, забирай ту хохлушку, тащи ее на кухню, бабам отдай, нехай нам с нее лапши наварят. А ты, сеструха, коли уж собрала бабий круг, то и веди нас туда, вон, поди, и князю охота с нашим женским полом поближе познакомиться!
* * *
Парадная комната старого куреня битком набита, самые бабы собрались. Вон одна, постарше, вяжет чулок и, наклонившись к соседке, рассказывает:
– Тольки и того, што Гринька-говорок пришел. Да и тот дурной какой-то, всё об советской власти ореть, да урядник этот, што раненный был и на выздоровлению яво отпустили, а ить всяво по хутору человек сто двадцать будить, и ни вестей об них нет, ни голоса. Раньше, при царе, хучь письма ишли, какие казаки на побывку приходили, а таперь... Вот и брешеть тот Гринькя-говорок, будто в Усть-Медведицком округе войсковой старшина Миронов, свой он, казак природный, будто он с Лениным ихним в разговоре был и пообяшшал тот яму Дон никак не трогать, тольки старую власть убрать. И будто набрал тот Миронов целую дивизию, и будто, как навядуть они свой порядок, то и уйдуть с Дону красные гвардии в Расею назад, а вперед зачнуть казаки на казенных конях служить и при казенном обмундировании, и будто справы никакой боле сами покупать ня будуть...








