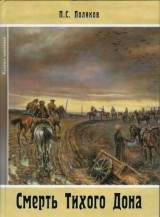
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
А тут еще буксир этот, что позавчера у самолётской пристани причалил. Полон пушек, так и стоят накатанные, штук их с тридцать будет. И охраняют их какие-то: солдаты – не солдаты, рабочие – так нет, вроде вовсе не рабочие, рвань, красная гвардия. С винтовками. Разговорились они с часовым и сказал он им, что пушки эти послезавтра в Царицын дальше поплывут.
– А против кого же?
– На Каледина!
Всю ночь не спала компания. Раздобыли водки и тарани, и пока перед рассветом угощали они часового самогоном, пробрался Виталий к пушкам, да как не крутил, так ни до чего не докрутился. Замков снять не сумел, ни знал, как это делается. Вот и сидят они на берегу у кинематографа «Аполло», нахохлившись, как воробьи. Ничего не получилось, только напрасно красногвардейцу тому целую бутылку самогона и две таранки стравили.
Дав гудок, развернулся буксир, плеща красным флагом, и выправился на стрежень, повернув на Царицын. А возле трубы – плакат: «Смерть Каледину!».
Валерий крепко сжал кулаки:
– Ну погодите, рвань красная, покажет вам Каледин Кузькину мать. Ох, ребята, пошли на Дон, в партизаны!
Сев плотным кружком, решают они собрать запасы продовольствия, мешки и рюкзаки, запастись оружием и идти на Дон. Расходятся все лишь перед вечером и застает Семен дома много гостей. Тут и аптекарь, и Карлушка, и два камышинских купца, и Иосиф Филиппович, и неизвестный никому молодой, черный, как ворон, кривоносый, в брюках галифе, в куртке с отложным воротником и огромными нашитыми сверху карманами. Курит он, развалившись в кресле, короткую трубку, сжав ее полными красными губами, и глядит на всех черными, глубоко сидящими глазами. Повернувшись к отцу, спрашивает тоном Гулливера, благосклонно разговаривающего с лилипутом:
– Ну и что же вы себе из всего этого обещаете?
– Во-первых, как еще на Московском совещании говорилось, введение дисциплины в армии, порядка в стране, Россию от гибели спасать надо!
– И от кого же вы ее спасать будете?
– Как от кого? Ну, конечно же, в первую голову от большевиков!
Аптекарь и неизвестный быстро переглядываются, гость подбирает под себя ноги, улыбается скупо, одним уголком рта:
– А с кем же делать это будете, не с казаками ли?
– Да с казаками в первую очередь. И с русскими патриотами.
Неизвестный перебивает отца, нисколько не смущаясь:
– А настроения казаков вам известны? А патриоты ваши – это что же: Крымов, Иванов, Корнилов, что ли?
– Но ведь тогда вмешались эти самые, как их...
– Вот-вот, эти самые! И так вмешались, что Крымов застрелился, Иванов спасовал, а Корнилова Керенский объявил изменником, а теперь тот же Керенский против Каледина военные округа мобилизовал. Корнилов в Быхове сидит за решеткой. А солдаты полностью идут как раз вот за этими самыми. Их десять миллионов, озлобленных, голодных, которым терять нечего...
– Простите, а кто же их поведет?
– А мы поведем, как вы называете – «эти самые», то есть большевики!
Отец почему-то кладет назад взятую им из портсигара папиросу, снова вынимает, нервно закуривает:
– Г-мм! Большевик! А разрешите узнать, что же думаете вы об Учредительном собрании?
– Говорильня, которую мы разгоним, когда найдем нужным!
– Это же насилие!
– А что такое революция, как не род насилия? Мы же открыто проповедуем диктатуру!
– Но как же могут управлять страной пролетарии...
– Да не будьте же детками! Причем тут пролетарии?! Управлять будем – мы! Отбор, элита, мозг!
Мама вспыхивает:
– Какой цинизм!
– Называйте как хотите, просто это откровенность.
И снова отец:
– А кто же элита эта? Не та ли, что ее наши казачки в июле в Петрограде разогнали?
– Ах, то же попросту неудача была. За это время Ленин...
– Это не тот ли, что у немцев агентом по разложению русской армии работает?
– Вот-вот! Он самый! Только дело в том, что на сговор с немецким генеральным штабом пошел он, думая лишь о том, чтобы этих генеральских дураков использовать для мировой революции. Понятно? Сначала у нас, потом в Германии, а потом и небольшой фейерверк во Франции!
Мама беспомощно оглядывается:
– Хорошо, а кто же, кроме Ленина, и вот этого, как его, кто из Америки приехал...
– Троцкий из Америки приехал, а с ним сотня крепоньких головок, преданных революции, как и ваш покорный слуга, а с нами Собельсон, Розенфельд, Апфельбаум, Лурье, Урицкий, Нахамкес, Стеклов, Свердлов...
– Скажите, кроме этих, так сказать американцев, русские вообще у вас есть?
– Самый наш главный – русский, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, из дворянской семьи. Есть и парочка латышей, несколько грузин, меж ними Сталин-Джугашвили.
Отец снова нервно закуривает, мама морщит лоб:
– Это не тот, что банк ограбил и при аресте всех сообщников своих предал?
– Вот-вот, он самый! Забрал в банке деньги капиталистов и до копеечки передал партии. И вовсе не грабил, а экспроприировал.
И не предал товарищей своих, а тем, что они тоже арестованы были, сохранил их для партии, чтобы они, прячась, не разложились, а окрепли в тюрьме для дела революции.
Купцы, как по команде, отирают платками запотевшие лбы и один из них спрашивает:
– Что же это вы грабеж экспроприацией называете? Это вы всех нас по миру пустите!
– А почему бы и не пустить? Важна цель, а она столь велика, что все средства оправдывает. И Тит Титычам здесь обижаться не приходится.
– Здорово! Это значит ваши позавчера в лабазе у Шеина, что замели и всё повытащили, на революцию работали?
– Конечно! И не только это. Мы, например, уничтожим, как сорняк, и весь царствовавший дом. Физически уничтожим.
Мама закрывает лицо руками:
– Господи, значит, все эти Собелсоны и Радеки, всё это они придумали...
– И вовсе не они! Придумали всё это чисто русские, те, кого вы декабристами называете. Даже Разин и Пугачев до этого не доходили. А вот представители лучшей русской интеллигенции, царская гвардия, вот кто всё удумал. Кто царя Александра Второго убил, кто решил истребить Николая Первого? Не Павел ли Иванович Пестель, писавший в своей «Русской Правде», что царская власть доказала свои враждебные чувства к народу, а что этот русский народ политически мертвая и анархическая сила, почему дело освобождения России надо передать в руки немногих людей, вручив им диктаторскую власть. Вот у них, у этих лучших русских людей, и учились мы, от них, воспитанных на передовых идеях просветительского века. И к ним же Толстой, и Кропоткин, и Бердяев ручки свои приложили. Вот от них, через опыт страшной, кровавой, рабской истории русской, и выработали мы наши постулаты. И, по тем же идеям декабристов, введем и мы полную общественную нивелировку, вместе с полицейской опекой над всеми гражданами, как равно и полное поглощение государством того, что вы называете личностью, назвав всё диктатурой пролетариата, а на самом деле только нескольких просвещенных голов. Сейчас же пойдет русский народ с нами уже по одному тому, что действуем мы по принципу величайшего русского полководца Суворова, который говорил своим солдатам: «Ребята, вот эта крепость – ваша, отдаю вам ее на разграбление!». И перли они на вражеский свинец, и гибли тысячами, но брали неприятельские города и гуляли в них три дня, а потом опять прибирала их матушка-Русь к порядку, к рукам. Вот как оно, дело, делается. Совсем, как видите, просто. Только крепко подумать надо. Но, впрочем, нам уже двигаться надо, дела ждут, спасибо вам, и у вас я кое-чему научился.
Гость поднимается, почему-то встают и все остальные. Только мама сидеть осталась. Гость выходит в коридор первым, за ним тянутся все остальные. Аптекарь задерживается и наклоняется к маме:
– Наталия Петровна, ну вот, как перед Богом – уезжайте вы на Дон. Я его к вам нарочно привел. Прислали его сюда, да, делами будет ворочать... а вам, если каких лекарств, то я всегда, по старой памяти, а вы не задерживайтесь, нет...
Аптекарь исчезает. Мама гладит безмятежно спящего на ее коленях Родика, шепчет: «Спасибо тебе, Родик, ты один человеком остался».
* * *
В реальном училище митинги, собрания и демонстрации. Образован ученический комитет с представителями его в педагогическом совете, для наблюдения за деятельностью преподавателей недостаточно, конечно же, революционных, ретроградов и старорежимщиков, с правом голоса при оценке учеников, с заданием отменить Закон Божий и отметки, ввести лекционный способ преподавания.
Иван Иванович Дегтярь, еще раз избитый, скрылся на Дон, директора убрали окончательно, преподаватели запуганы и жалки.
Заглянул как-то туда Семен, и отправился на пристань, и встретил там Ивана Прокофьевича. Крепко пожал он ему руку, здороваясь совсем по-старому, начал было о чем-то говорить, да, безнадежно махнув рукой, рассеянно замолчал, глядя в сторону.
– Ну-ну, друг, одно запомни: рождены мы и приходим на свет, чтобы, толкуя об ошибках других, самим ошибаться. А поняв, что ошибаемся, пытаемся найти правильный путь, и еще больше путаемся, да, а ты вали, вали, а мне в горсовет пора...
Так и расстались. Похоже, был это день встреч: вот и сам баталер идет в компании грузчиков, что-то им горячо доказывает, и налетел бы прямо на старого своего приятеля, не отскочи тот в сторону.
– А-а! Старый друг лучше новых двух! Глянь ты на него, тоже в картузе. Правильно, кончили мы с царскими инблемами!
И, повернувшись к своим спутникам:
– А вы, товарищи, топайте в горсовет, я за вами поспею, вот мне с маладым дело одно обговорить надо, – и, быстро схватив его за рукав, отведя в сторону, сказал свистящим шепотом: – Слышь, Семен, по старой дружбе тебе говорю: ушивайтесь вы отцель с отцом и с матерью. И поскорея. Мне тут некогда будет об вдове и сироте голову морочить. Ясно, ай нет? – и, заглянув ему глубоко в глаза, почти закричал: – А чего ты на меня вылупился? Такая это, брат, штука, революция, лес рубят – щепки летят. Ну, поднимай паруса, чего засох!
Круто повернувшись, зашагал баталер к зданию городской Думы, теперешнему горсовету.
Весь под впечатлением услышанного вошел Семен в гостиную и присел в углу на свой стул. Сидели там, кроме домашних, как снег на голову свалившиеся вчера вечером Савелий Степанович и двоюродный брат Алексей. Говорил бывший его учитель:
– Теперь точно сказать не могу, но было это где-то на Обводном канале. Тороплюсь это я к центру, улица передо мной совершенно пустая, спят еще всё, только в шагах двадцати передо мной двое солдат идут с винтовками, а перед ними, тоже так шагах в десяти, попик какой-то военный поспешает. И сразу же мне попик со спины подозрительно знакомым показался. И почему-то надавил я за солдатами. А валеночки на мне подшитые, легкие, шагов моих не слыхать, да и солдаты, видно, увлеклись, не до меня им. Вот и заорал один из них:
– Эй ты, опиюм, а ну-кась, погоди! – священник же, видно, окрика того на свой счет не принял. И снова взревел солдат: – Тю, сатана в полушубке. Оглох, што ль? Стой, стрелять буду! – и винтовку вскинул.
Обернулся священник, и сразу же я его узнал: он, отец Тимофей. Остановился он и спокойно спрашивает:
– Что тебе надо?
Как тот взвоет:
– Га! Чаво мине нада. А доказать тебе, недобиток, што время твое прошло. А ну-кась, скидавай полушубок, это я его вчера обронил! – и подскакивает к отцу Тимофею и норовит его левой рукой за грудь схватить, а в правой винтовка у него.
И тут глазам я своим не поверил: молниеносным ударом в одно мгновение сбил солдата отец Тимофей с ног. В подбородок ему, по всем правилам бокса, такой крах поставил, что свалился тот, как мертвый, и винтовка по тротуару загремела. И вижу я, в левой руке у отца Тимофея – наган. Ох, чудеса! Второй солдат на минутку опешил, а тут я подоспел и парабеллумом моим в височек его стукнул. И этот на тротуар загремел. А отец Тимофей руку мне тянет:
– Благодарю вас, чести не имею!.. – да и захлебнулся: – Хо! Савель Степаныч! Ишь ты, как привел Бог свидеться! Спаси тя Христос, что ты его смазал, а то пришлось бы мне грех на душу брать.
Сунул он свой револьвер в карман, за ним и я то же сделал. Оглянулись мы – пусто на улице, захватив винтовки, нырнули во двор, да какими-то переходами, отец Тимофей, оказывается, тут по близости жил, всю географию тамошнюю знал, задними дворами, сквозь пробитые в заборах пролазы, через кучи мусора, переулками, быстренько, с оглядкой, в квартиру его пришли. Уселись, отдышались, хозяйка его, вдова какая-то офицерская, чайку нам согрела, и рассмеялся я:
– Да как же это так, отец Тимофей, одним ударом кулака вы, священник... да когда же вы этому научились?
А он засмущался, опустил глаза в землю и этак скромненько:
– Эх, искушение! Беда моя в том, что силенкой Бог меня не обидел. С детства, можно сказать, подковки я гнул. Да скрывал. Как-то вовсе неподходящее это дело духовному пастырю. Не под масть сану моему. А пистолетик я уже после бескровной революции приобрел.
Во славу Божию. И теперь не каюсь, придет время, дам ответ Отцу моему небесному во всём, что он сам видал и что ты со мной тоже узрил. И скажи ты мне: люди это, православное русское воинство или собаки бешеные? Фронт бросили, офицеров своих зверскими самосудами избивают, грабят, насильничают, воруют, церкви оскверняют. Вот он, народец наш, Христос в полушубке, как его наша прогрессивная интеллигенция называла. Сахарный мужичок, оказавшийся преступником и убийцей. В самых дальних уголках души их, в самых ее потемках, веками рабства загаженных, ничего, кроме злобы, ненависти, зависти, низости, ненасытной жажды напиться кровушки своих бывших притеснителей, нет. Кроме жажды добычи и насилия, ничего в них революция не пробудила. Какими они еще при Пугачеве были, такими они и сегодня оказались. Звери в образе человеческом, тля, сор людской, мразь...
Глянул на меня, перевел дух и вдруг, по-старому, с его детски наивной улыбкой:
– Что, не надеялся от духовного отца такие слова услышать? Нет, друг мой, ничего удивительного. Сами они, солдатушки российские, этому меня научили. Пойди, глянь на калмыка, на киргиза, на татарина, на казаха, на грузина, Господи Боже мой! Да на кого из нерусских ни глянь, никто таких преступлений и подлостей, убийства и грабежей не делает, как эти вот сахарные русские мужички! А кто их этому учил? Не ходила ли интеллигенция русская в народ, не уничтожала ли собственноручно изготовленными бомбами и царей, и князей, и губернаторов, и министров? А для чего? Да для того, чтобы народу русскому волю добыть. И вот волюшка эта, по глупости, неспособности и нерадивости властвовавших, упала народу этому с неба. И показал он себя. И еще больше покажет. А слышал ли ты, фу, да ты же сам к революционерам лип, и, вижу, влип, да, слышал ли ты, что народу с балкона дворца Кшесинской Ленин говорит? Приглашает грабить награбленное, мир хижинам обещает, а войну дворцам. Пока сам в дворцах не засядет и хижины в кулаке не зажмет, да так, что соки и кровь из них потекут...
Спровоцировал меня отец Тимофей на откровенность, и я кое-что ему от себя прибавил:
– Правы вы, отец Тимофей, влип я, как вы говорите, только у меня переворотец внутренний произошел. О Ленине вы упомянули, да в первый раз пришлось мне, тогда еще совсем молодым студентом, в Петрограде, в Палюстрово, увидать его в девятьсот шестом году. Митинг там собрали, всю площадь толпа запрудила, а я к заборчику отошел, а за заборчиком – канава. И вылез на трибуну вот этот самый Ленин и начал торочить. А я, студент, – стою и млею: вот он, трибун наш, вождь, вот кто поведет, вот он, герой. И разве не крикни кто-то: «Каз-заки-и!». Глянул я, а из-за угла, шагом, взвод донцов выворачивает. А тот с трибуны, Ленин, как сиганет, да через головы, по плечам, по спинам, к забору, схватился за верх, подпрыгнул, в момент через верхушку переметнулся и зайцем через поляну, только котелок его в канаву покатился. Тогда он, Ленин, в котелке ходил. Это теперь у него кепка, форма пролетарская. И в момент след его простыл. А в толпе никто и не двинулся, несколько студентов повернулось к казакам, что-то им крикнули, остановили те коней, а впереди их сотник. Смеется и кричит в толпу: «Эй, что это дух нехороший от вашего героя пошел?». Грохнули казаки со смеху, засмеялись и в толпе, начали с казаками перешучиваться, махнул сотник плеткой, повернул свой взвод и за другой угол скрылся. Я не вру это и не выдумываю, а сам своими глазами видал. Но не помешало мне это с ними и дальше связываться, хоть и дало всё виденное в душе моей трещину. И далеко я у них пошел. И теперь еще в полном доверии нахожусь, и особая мне работа доверена, от самого Троцкого.
А вторую лекцию получил я после ихнего в Петрограде восстания, когда два наших полка и орудия в июне всех их поразгоняли. И тогда он, герой и вождь, лыжи свои сразу же навострил и запрятался в Териоках, в Финляндии, и так долго там сидел, пока Троцкий весь петроградский гарнизон, после полного взятия власти в силу октябрьской революции, уже 25-26 октября, к присяге не привел. Лишь тогда только вылез он из своей норы в Финляндии. А когда драпал он, видел я его тоже: бледный, насмерть перепуганный, словом, редкий, жалкий трус. Здорово я тогда задумался. Кричать и призывать к убийствам, грабежу, на преступления целую страну поднять – это он мастер, а как узлом к гузну подошло, так первым в кусты. Ах ты, думаю, слякоть. И лишь когда совсем крепко засели его большевики в седле, только тогда явился назад в Питер. Загримированный, седой, растрепанный, в огромных круглых очках, не разберешь его – не то провинциальный учителишка, не то спившийся тапёр, не то прогоревший букинист, или выгнанный из трактира за пьянство музыкант. И ручки у него трясутся. Противно на него смотреть было, блевать охота. Полез я в затылок, повернулся, и думаю: нет, не для меня, пойду я на Дон...
Прищурился отец Тимофей:
– Простите, Савелий Степанович, личные качества вождя, а, конечно же, прохвост и сволочь он, для нашей идеи не должны быть решающими. Идея остается. Заспорили мы тут с ним и припомнил я ему французскую революцию, сколько они тогда народа перебили. И сравнил тогдашних французских пролетариев с теперешними нашими, такими же кровожадными, как и те, двести лет тому назад. Вспомнили мы с ним все подробности, и порешили с ним вместе, что делать всё надо только так, как на казачьих Кругах делалось. А партии все скассировать и на их место представителей групп населения и специальностей посадить. И точка. Считайте меня как хотите, – сказал мне отец Тимофей, – а я почти что саморасстригся. Причина – двойственная мораль православия. Снарядов нет, а иконы есть. И одуряем мы молебствиями солдат, и прут они с дубинками на пулеметы. И выдумала церковь, что Москва – третий Рим, а Русь наша матушка – новый Израиль, кстати, еврейские погромы устраивавший. И что русская династия прямешенько от римских цезарей линию свою ведет. И сидел у нас непротивленец злу Николай-царь, а им царица-кликуша управляла. Святых провозглашали, монастыри и церкви строили, попов ублажали, а сапог у солдат не было. И домолебствовались до распутинских бдений. И выростили особую мораль в церкви нашей: ничего не видеть из того, что творится, наше дело – жизнь вечная! А монастырям в жизни этой суетной землицу прирезывали, архиереям министерское жалование платили. И на зло и на неправду церковь наша никогда и никак не реагировала. Мужичкам велели попы царствия Божия ожидать. Вот и прибрал его теперь к рукам Ленин. А как же жили мы, что Достоевский сказал: одержимость – характерная русская черта! Вспомним староверов, самих себя в срубах сжигавших. Что-то где-то вычитали, слыхали, искусственную духовную постройку возвели, поверили в нее сами же до исступления и во имя Бога своего сами же себя и сжигали. Вот эта же одержимость и в интеллигенции нашей сидит, и прежде всего в Ленине. Теперь все в марксизм поверили, в мировую революцию. И попрут вслепую, и народ погонят, а ему не много надо, скажи только: круши ребята, крой, Ванька, Бога – нет! И во имя новой веры никому они пощады не дадут. И станут у ворот Европы, которая, как видим мы, с умилением и восхищением на них теперь глядит. И не успеет она оглянуться, ан поздно будет. Эх, люди, люди. Пришел к ним Христос и предложил, понимаете – предложил свою веру. И распяли его. А потом занялись то инквизициями, то крестовыми походами, то религиозными войнами, то сжиганием ведьм. И вот – разочаровались окончательно. И нашли себе Маркса, и поверили в него, благодаря одержимости нашей, только теперь не предлагая религию новую, а заставляя, приказывая, убивая. И никак мы, люди, не поймем того, что на почве земной прививается лишь то, что естественно на ней произрастает, а не из теорий, как из колб, выкипает. Задумался я, и ясно мне стало, что живем мы в период зачаточного, первичного человеческого общества, и что приличное создадим мы только через сотни лет, и по образу и подобию общества казачьего.
Да, попы вот, кстати вспомнить – как попы в Думу лезли: в сорока девяти губерниях на 8764 уполномоченных было 7142 священника. И чтобы не было скандала, допустили их в Думу всего сто пятьдесят. И если гибнет теперь церковь наша, то поделом ей за грехи ее теперь воздается...
И после всех наших разговорчиков дал мне отец Тимофей для вас вот эту цидульку и сказал, чтобы заглядывали вы в нее, когда о революции говорить будете. Из нее поймете вы озверение народа русского, памятуя, что никогда церковь наша против зла и неправды не протестовала.
Савелий Степанович протягивает отцу небольшую бумажку и тот читает медленно и внятно:
«Русский репертуар
Наказания: жестокое наказание, жестокое истязание на теле, казнь.
Битьё кнутом: простое, с пощадою, битьё нещадное, битьё без всякого милосердия».
Приятельница западных философов Екатерина Великая вводит наижесточайшее истязание.
«Способы битья: простое битьё, брали на спину. Битьё в проводку – водили по улице. И битьё на козле».
Царь Иван Грозный шестью ударами кнута убил князя Куракина.
Чем били:
«Кнут – батоги – палки – плеть – шпицрутены – розги».
По указу 1846 года (середина девятнадцатого века):
«10 кнутов – 30 плетям; 50 кнутов – 100 плетям; 1 кнут – 2-3 плети; 10 плетей – 40 розг».
В 1855 году определено давать либо 100 плетей, либо 2000 шпицрутенов. Осуждали до 6000 шпицрутенов, до 300 плетей, до 150 кнутов.
Кнут начало свое ведет от Владимира Мономаха и упомянут в «Судебнике» Ивана Третьего.
Били кнутом весь семнадцатый век, весь восемнадцатый, до середины девятнадцатого.
Петр Великий бил кнутом стрельцов собственноручно. Сестру свою и жену Евдокию, и наследника Алексея».
Прочитав записочку, кладет ее отец на стол:
– Н-дас... допоролись...
Вот, передав это мне, распрощался со мной отец Тимофей, надел рваный полушубок, нахлобучил извозничью шапку, крест за пазуху запрятал, закинул мешок за плечи, попрощались мы с ним и разошлись в разные стороны. Подался он на Урал.
Отец дотрагивается до руки Савелия Степановича:
– Это, так сказать, о духовном... но как же там у вас до большевицкого переворота дошло?
– Что ж, – Савелий Степанович ёжится, – Господу Богу помолимся, гнусную быль возвестим... Итак, после революции создала Дума Правительство и сказала, что выбрано оно Революцией... мастера мы красные словечки говорить! А большевики сразу же свой Совет солдатских, рабочих и казачьих депутатов подсунули. И в Правительстве этом, и в Совете сидел Керенский. После развала фронта и Московского совещания, на котором все казачьи двенадцать войск выступили с требованием дисциплины, порядка и подлинной демократии, сделали Корнилова главнокомандующим. На одном из заседаний Правительства Керенский сует ему записочку: «Осторожней, в нашей среде изменники». Вот как в Правительстве у нас дела шли. Но всё же отправился Корнилов на фронт, дисциплину опять вводить, а Керенский уговорил солдат, и двинулись мы в наступление, и под Калушем разгромили нас немцы в пух. Кончилось полным позором армии Брусилова и гибелью последних порядочных солдат. Фронт погиб. В июле казаки, сохранившие дисциплину и полный порядок, разгромили большевицкое июльское восстание в Петрограде. А Керенский солдат награждает, шлет список Корнилову, и на фотографии награжденных видим мы унтера Волянского гвардейского полка Кирпичникова, собственноручно заколовшего своего офицера в первые дни революции. Казаки в затылках чесать стали, вспомнили и то, как выпустил Керенский всех арестованных по делу большевистского восстания, подавленного казаками. Выпустил их потому, что все они члены Совета. Вовсе казаки задумались. Боясь Совета, знал он его хорошо, посылает Керенский князя Львова к Корнилову с вопросом: согласится ли он на диктатуру? Тот отвечает положительно. Керенский же спешно собирает Временное правительство и заявляет, что Корнилов стремится к диктатуре. Правительство предлагает, по настоянию Керенского, Корнилова убрать. Все главнокомандующие фронтами заступаются за Корнилова. Но Керенский и слушать не хочет. Видя такое подлое предательство Керенского, Корнилов объявляет его изменником и издает воззвание. Слабенькое: «Я, – пишет он в нем, – сын крестьянина-казака, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России. Клянусь повести народ путем победы до Учредительного собрания». И, выходит: Керенский – за мир, а Корнилов – за войну. Корнилов собирает войска и шлет их на Петроград. Как Толстой писал: «Эрсте колонна марширт, цвайте колонна марширт», – пошли верные полки и застряли на путях в Новгороде, Чудове, Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге. Всюду этому делу распропагандированные большевиками железнодорожники помогали. Стоят составы на станциях, ни кормежки солдатам, ни фуража лошадям. Керенский же из этих верных войск вызывает к себе в Петроград генералов Крымова, Краснова, Губина, Грекова и всех их там арестовывает. Крымов стреляется, а многие утверждают, что убили его. Меж солдатами начинаются волнения. В трех полках солдаты арестовывают офицеров. Большевистская пропаганда идет половодьем: царские генералы хотят угробить революцию. Генерал Черемисов открыто переходит к большевикам и вооружает петроградских рабочих, а всё еще прячущийся в Териоках, в Финляндии, Ленин 24-го октября пишет: «Требую немедленного восстания, оно нужно для защиты Петрограда от немцев». А немцы, надо сказать, как раз Ригу взяли. Пропаганда идет и против Керенского: он, де, врагу хочет Петроград сдать. Изменник. Кроме того, Временное правительство саботирует созыв Учредительного собрания, а соберут его только большевики. Керенский земли крестьянам не дает, только большевики это сделают. Керенский гонит солдат на империалистическую бойню, а большевики за мир без аннексий и контрибуций. Керенский спит в кровати бывшей царицы, он социал-предатель и социал-соглашатель. «Вся власть Советам!». Действовать немедленно, можно всё потерять? Вот как Ленин действует. А в Питере всё еще сидят три донских полка, поэтому-то Ленин и носа из Финляндии не показывает, их боится. И обращаются большевики к «братьям-казакам», и, всё хорошенько продумав, решают наши гаврилычи держать нейтралитет!
Двадцать пятого октября заняли большевики вокзал, почту, телеграф. В Зимнем же дворце сидело под защитой женских батальонов и юнкеров Временное правительство. Крейсер «Аврора» выпустил по дворцу один выстрел. Пальнула артиллерия Петропавловской крепости, и две шрапнели попали в Зимний. К вечеру открыли, что в Зимний со стороны Невы калитка одна открыта. И пошли в нее балтийские матросы, тысяч пять их всего было. Переарестовали в Зимнем юнкеров и женский батальон. Зимний сдался. Министров отвезли в Петропавловскую крепость, а поутру издали сообщение: «Зимний дворец, где засели члены Временного правительства, был взят штурмом революционных войск».
После этого ворвалась толпа во дворец, грабить, разбила винные погреба, пьянство началось гомерическое, все из женского батальона были по несколько раз изнасилованы, на улицах началось избиение офицеров и юнкеров, аресты, убийства, грабежи. Так захватили они власть, по их словам, валявшуюся на улице. Задача же их – мировая революция, и, как первый шаг, создание Европейского коммунистического государства.
Переворот этот был ничем иным как захватом власти одной партией, меньшинством, в целях заведения ее диктатуры, вернее, диктатуры отдельных, нескольких лиц, акт, конечно же, контрреволюционный, работа кучки заговорщиков под водительством Ленина. А что такое сам Ленин, лучше видно из его же собственных слов: «В борьбе за власть никакие принципы не должны нас останавливать, нужно быть готовым к каким угодно трюкам, хитростям, незаконным методам, лжи». И еще – «Если для дела коммунизма нам нужно будет уничтожить девять десятых населения, мы не должны остановиться перед такими жертвами». Видали? А дружок его, певец «Буревестника», Горький, разошедшийся с ним еще в тринадцатом году, уезжая за границу, писал ему в письме: «Вы, Владимир Ильич, очень интересный человек, ума палата, воля у вас железная, только те, кто не желает жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от вас подальше. Создателем постоянной склоки являетесь вы. Это же происходит от того, что вы, изуверски нетерпимы и убеждены, что все на ложном пути, кроме вас самих. Всё, что не по-вашему, принадлежит проклятию. Ваш духовный отец – протопоп Аввакум, веривший, что Дух святой глаголет его устами. Сектант вы от марксизма».
Вот и понял я, что с большевиками делать мне нечего, и на Дон подался. Сколько ехал и как, лучше и не рассказывать. Вонь, теснота, сквернословие, грязь, давка, вши, рёв, вой, плач, драки, чёрт знает что, ад какой-то. И лишь уже возле самой донской границы вагон вдруг опустел, светло стало и воздух очистился. Подошел поезд к станции и вошел в мой вагон казачий офицер и с ним два, совсем по-старорежимному подтянутые, казака. Вежливые, чистые, бравые, чуть я их целовать не кинулся! И тут со страхом вспомнил: да у меня же в кармане документ за подписью самого Троцкого, с совсем недвусмысленным текстом об отправке меня на Дон для организации рабоче-крестьянской красной гвардии. Ну, думаю, пропал! А офицер тот спросил меня, какого я полка, а одет я был, конечно же, по-пролетарски, в полушубке и валенках. Сказал я ему, где и с кем служил, разговорились, общих знакомых нашли, сам он усть-медведицким оказался, всю мою родню знает. Так я до Арчады и доехал, а оттуда прямиком сюда.
Совершенно выбившись из сил, тянется Савелий Степанович к стакану с чаем, получает на закуску печенье, откусывает кусочек и, жуя, обращается к Алексею:
– Алексей Андреич, а как же всё у нас, на Дону, было?
Отставив пустую тарелку подальше, пробует Алексей улыбнуться и ничего у него не получается. Оглядывается на Семена, вопросительно смотрит на маму, та пожимает плечами и едва слышно говорит:








