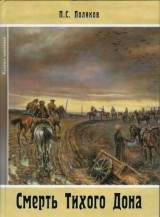
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
– А вы там были? Видели его?
– А то как же! Ить наши караулы кажный день смянялись. Ноне от нашего, двадцать сямова, а завтрева – от десятого. Назаров с нами кажный день в колидоре разговаривал. Слухали мы яво молча, в землю глядели, совесть нас мучила. А поделать ничаво не могли, потому таперь мы под революционной дистяплиной стояли. Што новое наше начальство прикажить нам, то мы и творили. Голубов нами заворачивал. Одно тольки нам ясно было: правильно Назаров гутарить. И чаво б яво не вопросили – враз он отвячал. И какую слову не скажить, за сердце она нас брала. Говорил он: поунистожуть большевики атаманов, перебьють их всех, братьев ваших – офицеров, постряляють, а потом за стариков возьмуться... И тут мы дюже прислухивались, вон, хучь мине возьмитя, я – младший урядник, брат наш середний – сотник, а старший брат, отец яво в науку отдал, в кадетском корпусе он училси, а мы быкам хвосты крутили, как энтот полковник. Тут у нас вовсе она дела иная, не в пример русской пяхоте, там солдат с Пензы, а офицер фон-барон с Курляндии. Мы, казаки, с офицерами свои, родня вроде сказать. И ишо Назаров говорил, што мужичьи комитеты большаки у нас понасажають, зажиточных казаков вместе со стариками побьють, церьква опоганють, над верой нашей дедовской надругаются, всё добро у нас позабяруть, с Расеи к нам мужиков понаселють и зачнуть казачиству нашу во-взят переводить и снистожать. И вот, когда мы всё ета на шкуре сами своей опробуем, тогда, так говорил он – поднимется Дон и повыгонить всех красных в Расею ихнюю. Потому, говорил он, што ни чужой гнет, ни тиранство никогда казаки над собой не признавали. Другой мы народ, говорил, не в пример русским, нас в мужичий хомут не запречь. И ишо говорил – как отпашутся вясной казаки, так Дон и подымется. То же и Попов-гинярал партизанам своим толковал. И ишо Назаров нам сказал: и вы, говорить, сторожа наши нонешние, завтрева с нами вместе за Дон подниметесь. Прямо говорил. И завсегда спокойный был такой, будто не под страхом смерти сидить, а на завалинке с нами гуторить. И никогда никого не боялся. Одново разу заявилси к нам пьяный матрос и зачал по-российски в бога-мать крыть. Вышел атаман из камеры своей да как крикнеть:
– Позвать суды начальника караула!
Прибег он, стал перед ним смирно:
– Што изволитя?
– Как вам, казакам, не стыдно, шумить, не совестно? Пускаете сюда большевиков, а те ругаются тут, как пьяные извозчики. И вашего выборного атамана ругают. Не им меня судить, а вам, казакам. Убрать этого мерзавца отсюда и не пускать на гауптвахту всякой сволочи!
Козярнул урядник: «Слухаюсь!». Обярнулси, а матроса давно и дух простыл. Вот это – атаман был, да! И с того дню никого мы на гауптвахту не пускали. Эх, обманули нас, когда пришли и сказали, што переводять их всех в тюрьму для суда. Поверил им урядник наш, посля хваталси за голову, да поздно было. Ить когда постановили Назарова расстреливать, снял он с щеи иконку, ту, што мать яво дала яму, вон, поди, точно такуя, как и у мине есть, да, снял, окстилси и поцеловал ту иконку. Хотели яму глаза завязать, ну не дал он: я, говорить, со смертью в жмурки не играю. И спросил он, вроде как старый военный, штобы дозволили яму расстрелом своим самому командывать. Согласились они. Вот и подал он команду: «Сво-олочь – пли!». И выпалила сволочь энта. Послухалась правильной команды... Ох, и пошло же тут посля того расстрелу промежь нас, голубовцев, ить атамана нашего, говорили мы, казаки выбирали, стало быть, казаки же и судить яво должны были, а вовсе не сволочь ета московская. Тут и поняли мы вовсе, как правильно Назаров говорил, што не будуть большаки с нами считаться, што ноне атаманов побьють, а завтри за нас самих возьмуться. Што пустють они красный террор по хуторам. Открыл расстрел этот нам глаза. А ишо, посля этого расстрелу, девятнадцатого февраля это было, в полдень, как раз пришли казаки десятого полка смянять нас на гауптвахте. И только зачалась смена караула, как вывалила на площадь толпа народу – тут табе красные гвардейцы, солдатня, матросы, шахтеры, рабочие, бабы, кого тольки нет. И пруть к нам. И одно оруть: «Даешь ахвицеров!». Побить их хотять. Тут наш урядник, начальник караула, команду на сибе взял. Погодитя, говорить, товариш-ши, дадим мы вам пить. А те одно пруть, всё ближе и ближе. И подал наш урядник команду:
– Трубач, трявогу!
Резанул трубач на трубе, и вся толпа, как вкопанная, остановилась. Велел нам урядник два наших пулемета выкатить, а полувзвод казаков в цепь рассыпал. И обратно командуить:
– Без команды огня не открывать. Патрон боявой. Зарядить винтовки. Прицел постоянный. Пулеметчики вставь ленты. Винтовки на руку! – и толпе: – Ишо один шаг – огонь открою! А ну – шлитя парламентеров!
Взревели, было, какие в толпе, другие шушукаться зачали.
Прислали трех парламентеров. Двух солдат и одного матроса. И требують они от нас выдачи ахвицеров-контрреволюционеров.
А урядник им:
– Никаких у мине контрреволюционеров нету. Поняли? И штоб враз вы разошлись, за пять минут не разойдетесь – огонь открою.
Замялись те, а в толпе, глядим: один суды, другой туды, третий через забор. И двух минут не прошло – порожняя площадь стала, будто мятлой ее подмяли.
И обратно командуить урядник:
– Вынь патрон! Трубач, отбой!
Принял караул десятый полк, а мы ишо одну ночь добровольно остались, для всякого случаю. И не посмели те обратно на нас кидаться. Отучил их наш урядник.
В Ростове декрет издали, должны все станицы оружию сдать и офицеров выдать. Тут и увидали мы, што и Голубов, и Подтелков обманаты. Либо их самих, как тех глупых дятишков, краснюки обманули. Ага, думаем сабе, таперь много у нас дела будить, потому знаем мы, што большавицкий главный командующий Антонов-Овсеенко на нас таперь пойдеть. А у няво – тридцать тыщ солдат, да пулеметов двести, да боле тридцати легких орудий, да чижолых чатыри, да бронеавтомобилев нескольки. И таперь всех нас задача красных тех побить, а всё военное ихнее снаряжение сабе позабирать...
Внезапно встает со своего места князь, крепко жмет казаку руку и говорит дрогнувшим голосом:
– Если б только знали вы, как от всего сердца желаю я вам успеха... ах, вот если бы все ваши так... думали, как вы.
* * *
Договорившись с братьями Коростиными о всём, твердо решив завтра же ночью уйти с ними к Попову в Сальские степи, но лишь в полночь, набегавшись по хутору, уснул Семен.
Завтра рано вставать надо... вставать...
– Вставай, Семен! Эк тебя разобрало! А ну-ка, по-военному – раз, два и готово! – дядя Воля трясет племянника до тех пор, пока не приходит он в себя окончательно. – Одевайся. Быстро. Отец твой маме помогает. Сейчас поедем все. Куда и зачем – потом узнаешь...
Выскочив в коридор совершенно готовым, наталкивается Семен на маму, та ловит его за руку, ведет вслед за отцом и оборачиваются они, уже стоя на дворе. В дверной раме тускло освещенного куреня стоят рядышком дядя Ваня и тетка.
– Ну, с Богом, с Богом, поспяшитя, а ни я, ни брательник мой сроду от родительских куреней никуда не пойдем. Никого мы не боимси. Вон он, топорик мой, у притолоки стоить. Враз мы их отцель распужаем. Яжжайтя, яжжайтя, храни вас Мать Пресвятая Богородица!
Во дворе ждет их запряженный парой серых лошадок просторный тарантас. Все быстро усаживаются, отец берет вожжи, быстро трясет руку прихромавшему к подводе дяде Ване, щелкает кнутом и выкатывает за ворота. До рассвета еще вовсе далеко, но, привыкнув к темноте, ясно различают глаза едущих впереди и позади их подводы с сидящими на них закутанными фигурами. А вон они – дядя Воля и Савелий Степанович, оба верхами, у обоих за плечами винтовки, а вон и еще несколько конных, да что же это такое творится, куда они едут? Огней в окнах нигде не видно, спит хутор или только так кажется? Почти из каждого двора тихо, как привидения, выворачивают телеги, выскакивают конные, ворота снова неслышно закрываются, да в чем же дело, почему даже собаки не лают?
Давно выехали в степь, повернули боковой дорожкой, перевалили через бугор, едут в темноту, в неизвестность. Тепло Семену, пригрелся, зарывшись в сено, и зажмурил глаза, притих, окончательно пришел в себя, лишь сидя на лавке в ярко освещенной комнате, видно, гостиной, совершенно не известного ему дома. Усаживает его мама поудобней. Оглядевшись, видит он себя в компании всех Коростиных. Тут же и все остальные из дяди Ваниного куреня. А какой-то сморщенный старичок и такая же старушка, ему не известные, видимо, хозяева этого дома, куда они приехали. Оба одеты они точно так же, как одевались и его дедушка с бабушкой, по старинке, тепло и просторно. Девка в валенках вносит и ставит на стол кипящий самовар. Сквозь плотно закрытые ставни скупо пробивается свет начинающего бледнеть неба. Старушка-хозяйка усаживается к самовару, все получают по стакану горячего чая, стол заставляется такими же разносолами, как это и у них на хуторе было, и лежит в корзиночках свежий, только что испеченный, вкусно пахнущий хлеб. Почувствовав голод, берет краюшку, мажет на нее тающее от теплого хлеба масло, откусывает с аппетитом хрустящую корку, налегает на чай с молоком, и лишь теперь слышит голос незнакомой старушки:
– Святые угодники! Ужасти какие! Да как же всё случилось?
Отвечает ей Савелий Степанович:
– Матросы мне никак по-настоящему не доверяли. Спал я всегда вместе с комиссаром, и хоть многое он мне говорил, но о главном умалчивал. Позавчера же, с вечера, оставил со мной одного матроса и ушел. Вернулся только к полуночи, принесла хозяйка самовар, только заметил я, что глаза у нее красные, заплаканные. Хотел было спросить ее, в чем дело, да исчезла она. Положились мы спать, крепко я уснул, греха таить не буду, выпили мы немного за чаем. Проснулся я будто от толчка, глянул, а комиссара моего нет. Вышел я в сенцы, а хозяйка мне навстречу, причитает, слезами заливается, едва я ее водой отпоил. И рассказала она мне, что ночью этой комиссар почти всех стариков, станичного атамана, учителя, священника, всех переарестовал и повели матросы их на станцию через заросшие красноталом пески, с версту там идти надо. Зашел он ко мне, дождался, пока усну, и сам туда же. А хозяйка наша всю ночь не спала, через занавески, огня не зажигая, за всем наблюдала. Выскочила она вслед за комиссаром во двор и видит: бежит соседка ее, как сумасшедшая, мимо, увидала ее, и только и успела крикнуть: «Всех, как есть, в талах показнили!».
И исчезла. А комиссар на станцию поскакал, на телеграф. Телеграфист же, наш казак, когда расселись на станции матросы и стали там водку пить, вышел потихоньку из будки своей и смылся в станицу. И по дороге в краснотале на убитых стариков наскочил. Постреляли их, штыками покололи, шашками порубили. С учителем и священником тридцать трое их там лежало. Не успела мне хозяйка всё рассказать, вот тебе и телеграфист, мой он старый знакомый, вскакивает в курень и прямо мне:
– Уходи, Савелий Степаныч, сычас воротятся, они и тебя первого убьют, телеграмма с Царицына пришла, што контрик ты.
Выскочил я во двор, дала мне хозяйка маштачка, а темно еще вовсе было, телеграфист же за мной, тоже верьхи, увязался, и сказал он мне, что следующей ночью пойдут матросы на Писарев, и список у них есть, кого брать будут. Атамана, стариков видных, вот Сергея Алексеевича, и всех их расстрелять им велено. А всё потому, что поднялись на Низу казачьи станицы, первой Суворовская, а за ней остальные. И будто генерал Попов из калмыцких степей на Черкасск пошел. Поднялся наш Дон-батюшка. Вот и успел я в Писареве всех перед рассветом взбулгачить.
Встав из-за стола, моргнув многозначительно Семену, вышел из комнаты Виталий со своими братьями. Придвинула мама Семену вареников, взял он один, прожевал, сказал коротко: «Я сейчас», и тоже вышел во двор. Куда же это заехали они? Никогда он тут не бывал. В глубокой котловине, весь заросший вербами и ракитами, раскинулся вокруг небольшого пруда маленький хуторок. Кажется, Дубки называется. Видно, средней руки помещик живет. Ничего отсюда не видно, хуторок, будто в колдобинке, спрятался, снаружи, со степи, и не увидать его, пока вовсе близко не подъедешь.
Валерий тянет Семена за рукав и отводит за сарай:
– Слушай сюда: побили красные вчера стариков в станице, а что они сегодня в Писареве натворят, неизвестно. Но недолго им царствовать, слыхал, по всему Дону восстание. И нам теперь ушами хлопать нечего...
Из дома выходят дядя Воля и Савелий Степанович. Шагнув к племяннику, крестит его дядя, Савелий Степанович жмет ему руку и почти хором говорят они ему:
– А мы на Разуваев. Бабушку надо там устроить. Может быть, на Арчаду ее повезем. Туда и вы приедете. Ну, бывай здоров...
Вывели коней, махнули в сёдла, пустили с места карьером, и, глянь – только были на бугре, и нет их больше.
Старушка-хозяйка вышла с князем на крыльцо. Глядит она на нового своего знакомого и шепчет побледневшими губами:
– Да как же это так... да что же это такое?.. Россия наша, матушка Русь православная... и... и... это же невозможно...
Морщится князь Югушев:
– Русь православная, говорите? Подождите – новый Пугачев пришел, с прогрессивными идеями, университетским образованием и интернациональной выучкой. Сорвет он ее, матушку-Русь, с нарезов, да так, что всем нам небо с овчинку покажется... так, кажется, казаки ваши говорят?
А с бугра кричат:
– Господин атаман! Хтой-тось по стипе охлюпкой кроить! И вот он – кубарем скатывается с кручи, спрыгивает с замыленного конишки. Вихрастый, в одной рубахе и старых, видно, отцовских шароварах, Васька, соседов сын, четырнадцатилетний казачонок. Знает его Семен хорошо, вместе они Христа славили. Бросив коня посередине двора, подбежав к атаману, волнуясь, докладывает:
– Явланпий Сидорыч, господин атаман! Не успели вы уехать, часу времени не прошло, заявилась энта красная гвардия в хутор. Никто не спал, а я на мельницу, на подловке схоронилси. Оттуда всё, как есть, видал, рассвело уже. И подняли они стряльбу, и пошли от куреня к куреню, а было их человек с пятьдесят, на подводах прискакали, всё пяхота да матросы. Враз они по всяму хутору рассыпались и, куда в двор не забягуть – нигде никого с казаков нету. Ох, и остярвилси же энтот комиссар ихний, кинулси вот к Семенову дяде в курень. А он с теткой на порог вышел. Как заореть комиссар:
– Взять их, контрреволюцию!
А тетка ихняя как ухватить энтот топор свой, да как станить посперед дяди, да как замахнеть тем топором, да как зашумить:
– А хто ты есть, прохвост, а? Тоже, поди, разбойник, с Сибири сбежавший. А ну, подойди, подойди, я тибе охряшшу.
Тут один с матросов в нее с винтовки вдарил. Будто хто ее сзаду наземь рванул – так навзничь и повалилась. А Семенов дядя в мент один ухватил тот топор, да как шибанеть яво и прямо тому комиссару в голову. Упал тот, захрипел, кровишша из няво потекла. Красные гвардейцы и матросы тут на дядю кинулись, со сходцев и яво, и тетку мертвую стянули, штыками их кололи, стряляли в них, ногами топтали, чаво тольки не делали и посля того на воротах их повесили. Мертвых. Так и висять там. А потом, как зашли в курени ихние, как зачали добро на улицу ташшить и в окошки выкидывать, как зачали там хозяйскую водку пить, с ледника, с погреба всё, как есть, волокуть, в курей-утей с винтовок бьють.
И тут привяли к ним двух оставшихся в хуторе стариков – слепого Кондрата и деда Афанасия, энтого, што ишо с турецкой войне без ноги пришел. Привяли их, постановили к анбару и залпом в них вдарили. Так они там и ляжать.
И тогда пошли все в курени Поповых, в обоих расселись и обратно зачали водку пить и гармошка у них заиграла.
Слез я с подловки с мельнишной, ухватил нашего карего на базу, да речкой, речкой... и ушел. Тольки того и слыхал, как в куренях бабы кричать, матросы за ними гоняются, тянуть их кудысь, кофты-юбки с них рвуть…
____________________
Часть IV
Быстро бегут угольные горки, проплывают, как привидения, и тонут, растворяются в надвигающемся сумраке.
Капища, молельни, мечети, пагоды, храмы. Сколько построили их люди и сколько сами же разрушили? Скольким служили они для молитв и проповедей о любви, и скольким для призывов о мести и ненависти?
Инквизиция, крестовые походы, уничтожение иноверцев в Сибири, преследования староверов, гугеноты...
Но вот они – пришли новые преобразователи. С винтовками. И объявили религию опиумом для народа, и уничтожили тысячи храмов и перебили десятки тысяч священников. И разрушили их дико, по-изуверски, сожгли и опоганили.
И глядят на них, разрушителей и убийц, такие же, как и они, двуногие, со всех концов мира. И выжидают: чья возьмет. И заводят с ними и торговлю, и дружбу, решив, что правильно сказал один из представителей культурного Запада: торговать можно и с каннибалами.
И с тех пор объявлено дело людей с винтовками светлой дорогой в будущее, прогрессом, реальностью, с которой обязательно надо считаться. Реальностью новых законов, объявивших войну дворцам и разрушивших, спаливших десятки тысяч хижин.
Чьих же хижин?
Да наших, казачьих.
Никто в мире за них не заступился. Никто не ужаснулся страшному насилию, страшной, кровавой неправде. Никто. Ведь это же, – сказали в культурном мире, – революция. Это же, безусловно, прогресс, в начале своем так похожий на землетрясение, на геологический сдвиг. Это же впервые приобретенное право вчерашнего раба, вдруг взбесившегося на воле и пошедшего крушить всё, что только ему под руку подвернулось. Это же законное его стремление к светлой для него цели: в первый раз за сотни лет нажраться доотвала и, залив глаза спиртом, уничтожить всё, что становится ему на хамском пути его.
Но не сам выбрал он эту дорогу. Его вели. Вели не к аракчеевщине, не к барщине, не в новое крепостное право, а в рабство особое, новое, выдуманное не какими-то средневековыми князьями и боярами, не царями и их опричниками, а учителями из числа бездушных теоретиков, слепых начетчиков, ненавидящих и обозленных, наконец-то, дорвавшихся до топора обиженных полуинтеллигентов.
И сгорели степные курени и церкви казачьи. Поднялся, заклубился дым от пожарищ, но ни до неба, ни до сознания людей не дошел...
И снова поет Семен казачью песню:
Отцовский дом покинул мальчик, я
Травою двор зарастёт.
Собачка, верная твоя слуга,
Не взлает у ворот...
Только не слышать бы гула мотора, не глядеть на бесконечную ленту с призраками храмов и капищ. А закрыв глаза, снова и снова вспоминать страшное прошлое.
* * *
– Джиу!
Сначала не обратил он внимания на этот странный звук. Лишь с удивлением глянул на почему-то попадавших в канавы казаков, положивших винтовки на поросшие тернами, осыпавшиеся желтым суглинком валы. Серьёзными, хмурыми взглядами провожали они его, не говоря ни слова. Только командовавший ими урядник, пригнувшись за кучу кизяков, крикнул вслед:
– И куды тибе черти нясуть?
– Джиу!
Перепрыгнув канаву, не оглядываясь, быстро бежит он на полого поднимающийся перед ним склон, туда, на самый верх бугра, ничего не слыша, кроме слов вахмистра, сунувшего ему в руку клочок бумажки и сказавшего:
– Бяги вон туды, на курган разрытый, наблюдатель там наш сидить. Цадулькю яму отдашь. Да одним духом, как заяц, мотай.
Вот и побежал он по только что пробившейся веселой траве. Прекрасно ему всё здесь знакомо, часто приходил он сюда с хуторскими ребятами, глядел вниз на Иловлю, на широко раскинувшиеся луга и левады, на пашни и музги, на протянувшийся по левому берегу лесок, называемый казаками Редкодубом. Там, на этом кургане, сидит теперь сотник, наблюдатель той батареи, в которую приняли его на прошлой неделе казаки, почему-то молча и сердито на него глядевшие.
– Да табе скольки годов-то?
– Ты мамкину сиськю когда сосать бросил, вчора?
Но, узнав его историю, принял Семена командир батареи добровольцем, велел зачислить на довольствие, дал ему и коня с седлом, с порванными пустыми сумами – хозяина коня убили вчера утром, получил он и шашку, и винтовку с десятью патронами, и вступил в Донскую Армию вольноопределяющимся.
– Джиу!
Да что это за чертовщина? Всё чаще и чаще. Шмели сказать – так не шмели это, те вовсе по-иному гудят: в-в-вумм! И не пчёлы, нет в Писареве хуторе пчеловодов. Почему так пронзительно, быстро и отрывисто?
– Джиу, джиу! Джи!
На этот раз слышен короткий свист совсем близко, что-то, щелкнув о голыш, падает позади, в двух шагах. Быстро обернувшись, схватывает он ослабевшую на излете пулю, упавшую в пыль и совсем еще горячую, и лишь теперь понимает в чем же дело. И лишь теперь ясно различает винтовочные выстрелы:
– Так... та-ак... так!
Ох, да это же по нём стреляют! Красные! Идут они оттуда, из России, из Саратовской губернии, к речке Иловле, к границе казачьей. Еще вчера узнали у нас, что, будто бы целый их батальон вышел из Малой Ивановки и хотят они здесь, у хутора Писарева, сбить казаков с бугров и войти в пределы Войска Донского.
– Джи!
Ого, совсем близко! Пригнувшись так, как учил его урядник Алатырцев еще в школе хутора Разуваева, едва переводя дух, бежит он дальше, и, слава Богу, вот они, наконец, и разрытый курган, и наблюдатель сотник Широков, и недвижно лежащий на земле, с головой покрытый шинелью, видимо, раненный, казак-телефонист.
Крепкий, росту невысокого, подтянутый и аккуратный, рябоватый и черноволосый, сотник Широков чин свой получил, начав Германскую войну с рядового и столько насобирал на ней крестов и медалей, что за невероятную удаль, храбрость и смекалку получил чин офицерский.
– Ага, явилси, кужонок! Ну, и хорошо, а то вон он, видал ты яво, Сеня мой, выглянул трошки, а яво и резануло пулей, почитай, што в висок. А ты чаво вылупилси, суды лучше глянь, вон они, вон, из ляску выходють... тю, да ты не дюже голову подымай, а то и тибе, как Сеню, резанёть.
Семен осторожно выглядывает через кромку кургана на так хорошо знакомый левый берег Иловли, на Редкодуб и далекие пологие бугры Саратовской губернии. Так и есть – вон они, хорошо их видать, вышли из леса цепью, ого, больше сотни будет. Перебегают, ложаться, постреливают, вскочив, снова бегут и снова падают в прикрытия. А вон и вторая цепь странных, по-разному одетых, людей. И там поблескивают на солнце штыки, слышны винтовочные выстрелы, видно, наши с правого берега им тоже не молчат.
В бинокль наблюдает за ними сотник:
– Ага, видал, вон она, третья цепь прёть! Ишь ты, скольки их набралось, гля, есть вроде и в вольной одеже, должно, мужички мобилизованные, а може, и рабочие царицынские. Ну, погодитя! А ну-ка, вольноопряделяюшший, к телефону!
Семен хватается за какую-то ручку, телефона полевого в жизни своей никогда он еще не видывал, пытается ее крутить, и вдруг с ужасом видит, как буряк, покрасневшее лицо сотника. Одним рывком выхватывает он из его рук аппарат и, зажав телефон меж ног, укладывается поудобнее и лишь на одно мгновение обжигает Семена сердитым взглядом:
– Тут враз не понять, хто дурней – те, што посылають аль те, кого посылають! Сиди там внизу и ня рыпайси, вояка. Бис тибе управлюсь.
И, лишь на мгновение припав к биноклю, кричит в трубку:
– Вахмистра, слышь, гранатой, гранатой их пужани!
И сыплет какими-то непонятными цифрами и словами, из которых ясно можно различить лишь два: прицел и трубка.
– Г-га-ах! – рявкает где-то за хутором трехдюймовка и через мгновение прекрасно слышно, как высоко над ними, немного в стороне, пролетает снаряд. Взметнув к небу смерч огня и дыма, рвется он в самой середине перебегающей красной пехоты, далеко правее его разрывается второй и совсем на левом фланге грохает третий разрыв. Заметались пехотинцы. Передняя цепь совсем смешалась, многие ползут назад, к лесу, на правом ихнем фланге вскочило трое и быстро, согнувшись, как зайцы, исчезли в кустах краснотала. Ага! Дали мы вам жару!
– На шрапнель таперь, на шрапнель станови!
Это кричит в трубку совершенно разгорячившийся сотник, уже стоящий во весь рост на кургане. И снова какие-то трубки, прицелы, цифры, ноли.
Высоко в воздухе вспыхивают белые, протканные молниями облачка, прижались к земле, неподвижно лежат до того быстро перебегавшие цепи.
– Будя! – кричит сотник и хватается за бинокль.
Из леса, с тыла наступающих, вихрем выносится кавалерия, широким полукругом охватывает весь луг и мгновенно долетает до вскакивающих, бегущих, стреляющих с колена и падающих красных. Под яркими лучами высоко взобравшегося солнца вспыхивают взлетающие над головами конников палаши. Ог-го! Да ведь это же наши, наши это красных рубят! Семен выскакивает из выемки и становится рядом с сотником.
А там, в лугах, давно уже смешалось всё в кучу – выстрелов больше почти и не слышно, ни понять, ни разглядеть толком ничего невозможно, только, вон, выскочили из свалки два коня без седоков, отбежали к лесу и остановились.
Сотник аккуратно складывает аппарат, поправляет пояс, отряхивает шинель, быстро сняв фуражку, вытирает рукавом пот со лба и, улыбаясь по-дружески, подмигивает Семену:
– Видал ты, как мы им пить дали? И без пристрелки! – и вдруг мрачнеет: – А понял ты, ай нет, што это началось, а? Война наша казачья с Расеей, вот што.
А там, в Редкодубе, уже построились три атаковавшие сотни, отзвенел в воздухе и давно замер сигнал отбоя, двинулись конные к броду через Иловлю, а вон, стороной, зашагали взятые в плен красные и ярко, и тепло согрело всех их выбравшееся из белой кипени облаков горячее солнце. Ушли с лугов все, лишь остались неподвижно лежать порубленные пехотинцы. Сколько их – отсюда и не перечесть. Лишь теперь спрашивает Семен сотника:
– А почему же из трех орудий только одно стреляло?
– Эх ты, простота! Да она у нас тольки одна и годная. Энти две так, для близиру, таскаем, няхай народ шумить, будто у нас, почитай, целая батарея, у них и замков нету. И снарядов таперь не боле десяти штук осталось. Да ты брось, битых не считай, хто яво знаить, до чаво ишо мы досчитаимси.
Потные и запыхавшиеся выростают у кургана санитары с носилками.
– Иде тут ранетый?
Первый санитар сдергивает шинель с раненого, быстро над ним наклоняется и вдруг взглядывает на сотника остановившимися глазами.
– Тю, да-ть он, никак, кончилси!
В ужасе смотрит Семен на темное, залитое кровью лицо. Молодой, совсем молодой, откуда он, желторотый? Лишь коротко глянув на лежащего, махает сотник рукой:
– И носить яво некуды. Тут и зароем. Сирота он был. Знаю я Сеню хорошо. Родителев яво в Иловлинской красные матросы возля вокзалу в краснотале побили. Шла у яво и тетка, да та, от матросов убягая, в речке утопла. Сирота он круглый, вон, не хуже Семена, к нам в батарею прибилси.
Санитары покрывают убитого его шинелью, присыпают полы землей, чтобы ветром не сдуло.
– Попа бы суды, да иде их, попов, таперь взять. У нас в станице красные их, почитай, всех, кого побили, кого по стипе пораспужали, поди, их сбирай таперь... а дали вы им, господин сотник, духу! Наши их штук шистьдясят порубали, да ранетых тридцать два, да пленных сотни с две. И комиссар при них был, весь, как есть, в кожаной одеже. Повяли и яво наши, да не схотели писаревцы, штоб он погаными ногами своими землю нашу донскую топтал, срубили яво в кустах.
Закинув винтовку за плечо, согнувшись под тяжестью полевого телефона, бросил еще раз взгляд Семен на сиротливо лежавшего под шинелью убитого, на синее небо, прислушался к полной, звенящей тишине и зашагал с кургана вслед за сотником и санитарами.
...Когда прискакал тогда на Дубки казачонок и рассказал всё, что на Писареве произошло, собрались они в доме тех старичков, каких-то мелкопоместных дворян, долго возбужденно о всём толковали, допоздна не расходились, и не сводила мама с него глаз и никуда от себя не отпускала. Лишь раза два выходил отец к лошадям, корму давать. Не выпряг он их, так и стояли запряженные под навесом. Только к полночи легли все спать покотом, не раздеваясь, прямо на полу в гостиной. А выставленные дозорные, видно, не особенно-то хорошо в темноту приглядывались, и, когда резанул ружейный выстрел, первым вскочил отец, за ним атаман, а потом и все остальные. Вокруг хутора поднялась беспорядочная стрельба. Кто-то кричал не своим голосом:
– Вы-х-ха-ади! Краснюки иду-уть!
Мама выскочила во двор прямо в объятия отца, сразу же потянувшего ее к тарантасу.
– Семен, Семушка, да где же ты, иди сюда!
Успела она схватить его за полу, да испугались хлопнувших совсем рядом выстрелов кони, рванули с места в карьер, вынесли тарантас куда-то в ночь, в темноту, и остался он в середине двора, ничего не видя и не понимая, совершенно растерявшись.
– Это ты? А ну сюда, за мной, за скирды, за скирды! Юшка Коростин тянет его за руку и бегут они вместе, ничего не видя и не соображая. А сверху, с бугра, раскатившись по всей степи, грохнул и разнесся по хутору винтовочный залп.
– Сюда, сюда, на гумно, а там – канава, а канавой мы в степь уйдем, мы с Виталием всё наперед разглядели. Там пересидим!
Спотыкаясь, не сразу привыкнув к темноте, бежит он за Юшкой, скорее, чувствует, чем видит его, куда-то поворачивает, на что-то натыкается, валится вместе с ним в канаву и снова бежит, всё дальше и дальше...
А подошедшие незамеченными в темноте матросы двинулись, было, к хутору вниз по дороге, да всё же увидал их старик-дозорный и грохнул из дробовика в первую наскочившую на него фигуру, взвывшую нечеловеческим голосом. Снова хватил старик дробью из второго ствола и искровянил, и изуродовал лицо второго матроса. Но не растерялся их старший, выпустив всю обойму туда, вниз, где должен был стоять барский дом. Кинулись остальные на широкий двор, и кто кого бил в наступившей свалке, понять было невозможно. Лишь через полчаса стало ясно, что обороняющихся больше нет.
В наступившей жуткой тишине старший сделал перекличку. Пошло их из Писарева двадцать пять человек, а теперь собралось шестнадцать. Остальные лежали на дворе и в катухах без движения либо глухо стонали, раненные дробью или вилами.
Четырнадцать стариков легло на Дубках. Закололи их штыками, постреляли из винтовок. С простреленной головой лежал в столовой и сам хозяин дома. Охватив его руками, прижавшись к нему всем телом, исступленно плакала и причитала старушка жена. Поморщившись, матрос из нагана выпустил в обоих одну за другой все пять пуль. Конвульсивно дернувшись, осела старушка на труп мужа. Затихло всё на хуторе Дубки. Окончательно затихло.
Человек с пятнадцать стариков всё же ушло в степь. Пользуясь темнотой, бежал каждый из них кто куда, и лишь когда рассветать стало, сбились они в кучки, собрались все вместе за одним стогом соломы и порешили идти на Липки. Был с ними и атаман, и старик Коростин с остальными сыновьями. А Юшка и Семен, добежав до балки, заблудились в зарослях тернов, растерялись в темноте, и пошел каждый из них своей дорогой. А когда взошло солнце, увидал Семен, что один он одинешенек, и что ни живой души не видно, куда ни глянь. Быстро залезши на стоявшую рядом вербу, оглядел он раскинувшуюся перед ним ширь: ярко осветило ее солнце, брызнуло по ней разбежавшимися во всё, стороны лучами, и проснулось всё живущее в степи, воздавая хвалу Тому, Кто сказал: «Да будет свет!».








